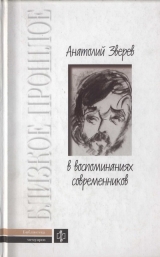
Текст книги "Анатолий Зверев в воспоминаниях современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Анатолий Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
ЗИНАИДА КОСТЫРЕВА
О нашем брате
После смерти Анатолия Тимофеевича Зверева его судьба стала превращаться в миф со множеством противоречащих друг другу слухов.
Мы хотим восстановить, хотя бы вкратце, подлинную биографию брата.
Родился А. Зверев 3 ноября 1931 года в Москве, в Сокольниках (Русаковская улица, дом 22). В 1964 году дом снесли, и Анатолий с мамой переселился в Свиблово, где он был прописан до конца дней своей жизни.
Анатолий был седьмым ребёнком. Всего у нашей мамы было десять детей, девять девочек и один мальчик. В живых осталось нас трое.
Из стихотворной автобиографии А. Зверева:
…Осень, почти поздняя,
«устраивает» зимы… —
Оказался я в кругу —
– своём… —
в семействе: Тони, Зины…
Отец наш, Тимофей Иванович, родился в 1898 году в Кирсанове Тамбовской области. С трёх лет остался без родителей, которые умерли от тифа. Воспитывала его бабушка.
Мама, Житина Пелагея Никифоровна, тамбовская, из крестьянской семьи, в 17 лет вышла замуж.
Вскоре после женитьбы папа ушёл на фронт, служил у Ворошилова писарем. Затем попал в плен к Деникину, после освобождения лечился в московском госпитале. Мама продала дом и приехала в Москву, устроилась работать в этом же госпитале, где выхаживала раненых.
Отец, инвалид второй группы, работал на заводе СВАРЗ бухгалтером, мама – на фабрике «Буревестник», но больше ей приходилось заниматься домашним хозяйством.
В январе 1943 года отец умер. Как могла, мама одна нас вырастила, за что мы её все очень любили.
Анатолий учился в школе № 370. Любимыми его предметами были рисование и немецкий язык. Николай Васильевич Синицын – учитель рисования – был для Анатолия лучшим человеком, дружба между ними продолжалась всю жизнь.
После семилетки, по совету Н. В. Синицына, Толя закончил Художественное ремесленное училище по специальности маляр-альфрейщик. Затем пробовал учиться в Художественном училище памяти 1905 года, но при бедственном материальном положении, из-за «внешнего вида», был отчислен с первого курса. Тяга же заниматься живописью, рисованием не покидала Анатолия. Немного поработал в должности маляра в парке «Сокольники». Детский городок оживился от причудливых животных, ярких цветов, которые рисовал Анатолий. В парке его заметил артист Румнев, Анатолий показал ему свои работы. Восхищённый его рисунками, Румнев познакомил его со столичными знатоками живописи, которые оценили талант Анатолия.
В 19 лет Анатолия призвали на военную службу, во флот. Там он простудился, пролежал в госпитале с двусторонним воспалением лёгких, после чего был комиссован.
После возвращения из армии вновь занимался только рисованием, живописью, графикой. Ходил по музеям, в зоопарк, уезжал на этюды в Подмосковье. В сутки спал иногда два-три часа, а остальное время работал. За работы брал мизерную плату – хватало лишь на краски, кисти. Но вскоре выпал случай познакомиться с Георгием Дионисовичем Костаки.
Костаки был потрясён картинами Анатолия, стал ему помогать, пригласил рисовать на свою дачу (в шестнадцатиметровой комнате, в которой жили шесть человек, работать было невыносимо трудно).
В доме Г. Д. Костаки работы брата увидели такие известные люди, как дирижёр И. Маркевич из Франции, Р. Фальк и многие знаменитости – знатоки искусства. Г. Д. Костаки говорил нашей маме: «Пелагея Никифоровна, о вашем сыне будут писать века».
В дни всемирного фестиваля 1957 года в Москве Толя, узнав о конкурсе художников в парке имени Горького, под видом рабочего принял в нём участие. Председатель жюри присудил ему высшую награду, но сделали так, будто и не существовало этого инцидента. Победа не принесла славы. Но друзья, ценители картин Анатолия, помогали устраивать его персональные выставки за границей. Костаки на протяжении многих лет поддерживал Анатолия.
Судьба свела Анатолия с Оксаной Михайловной Асеевой. Она стала ему второй матерью, другом, создавала Толе все условия для работы. Своей мастерской у Анатолия никогда не было: где рисовал картину, там оставлял.
В 1979 году умерла наша мама. Для нас всех это было большой утратой.
Смерть матери, а в последующем смерть О. М. Асеевой потрясли душевное состояние Анатолия. Здоровье резко ухудшилось… 9 декабря 1986 года его не стало.
ТЕОДОР ГЛАНЦ
Памяти Анатолия
Он был художником, но умер, как поэт.
Когда вдруг в зале вспыхивает свет,
Всех на мгновение охватывает страх.
Ведь окончание сеанса – в небесах,
Куда для зрителей пути покамест нет.
Он был художником, но прожил, как поэт.
Король подъездов, тамада больниц,
Пред Богом и вином склонённый ниц,
Вся жизнь, как полотно, размыта в сюре,
Вся жизнь, как полотно, сплошной абстракт.
И сотни ангелов, шутов и фурий
Собой украсили прощальный тракт.
Везёт не Конь, а Кот, но тоже блед.
Был человек, а умер, как поэт.
Киркой теперь по сомкнутым губам!
Растоптанный, он не услышит зова!
Когда внутри не тело, а судьба,
Когда снаружи краски, а не слово.
Когда живой рассвет стал мёртвым светом,
Художник мёртвый стал живым поэтом.
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
Импровизации
Слово за слово цеплялось [5]5
Здесь и далее в стихах А. Зверева орфография и пунктуация автора полностью сохранены. (Прим. ред.).
[Закрыть].
Мысль гнала и впутывала вновь,
И дрожала, жалко даже стало,
Где-то жалом странно льётся кровь.
Бровь подёргивалась где-то,
На лице – печать весны,
Всё хотелось бы поэту
Описания сосны, и куста,
Растущих вишен, что в саду цвели,
Цвели вокруг.
И зелёный весь заросший
Где-то тиной старый пруд.
Возле леса туман синий
Кинет взор и на узор
Близ лежащих двух песчаных
Синих с лилией озёр.
Слово за слово цеплялось,
То ли цепко – то ли так,
В тапках ночью всё писалось
Хорошо и кое-как.
1965 г.
«нас воспитали и растили…»
нас воспитали и растили
а всё равно все-все умрём
конечно всё-всё умирает
ещё при жизни
эгоизм лишь только
пылкость порождает
и в заблужденьи убивает
тот признак нежности такой
что породилась в силу тленья
и лень мне было бы писать
но вот тетрадь
и вот бумага
калякать станешь
вспоминать
«маленький выпачканный…»
маленький
выпачканный
жалкий
слабый
и горбат
и тёмен
весь осморканный
запачканный
и вялый
изнурённый
голоден
больной
истощён
избит
и проклят
изнасилован
и туп
точно труп живой
что тень забора
забран
выброшен
измучен он
бродит
спит не спит
и хнычет что-то
тихо шевелит губа его
смотрит странно улыбаясь
алкоголиком зовут его
тенью слабою скользящей
мимо полных и изящных
мимо ящиков пустых
он проходит
Бог прости
Лермонтов (из автобиографии в стихах)
Вне всяких сомнений
– Мне гений
Юрьевича нужен…
И вот, под – «ужин» —
Явился он со своею
«Дюжиной»
Стихов, —
Поэм и всяческих
«Стихий».
Своих всех повестей:
«Вадим» – (ну, погодим)
– Блондин —
– Брюнет —
– (Сонет ли это, нет?)
– ПОЭТ!..
«Герой нашего времени» —
И я «забеременел»
Поэзией
Сразу, —
«с-глазу-на-глаз»
– И враз: —
Быстро, страстно
И откровенно —
И «верно» —
До степени —
Веры в торжество
Господа – Бога!..
Врубель
Серо-сиреневый
Тёмный и грустный
Знает Лермонтова
Поэзию устно
И в кустах сирени
Тёмные очи гадалки
Глядели…
«Что греет живописца, когда в крови…»
Что греет живописца, когда в крови —
пожар,
Хотя порою бледен, и бедный, худ,
поджар?
Поджаренной котлетой, аль чаем чуть —
с огня,
Аль солнышко не чает: греть спину
возле пня?
Аль рюмка близ поллитры
Теплит мечту о том, что стоном
Вдруг с палитры сорвётся новый
тон…
«Не утрируя есть искусство…»
…Не утрируя есть искусство.
Оно разно и флаг его всяк.
И пустяк, что так всё безобразно.
Голос смелых ещё не иссяк.
Солнце тёмное
Солнце ясное
Возле тучки пригрелось
Напрасно я
Плачу
Льётся слеза из глаз.
Дух уходит от нас.
1964 г.
Поэтесса (отрывки из поэмы)
Мрачна, печальна и туманна…
От манны от небесной отошла…
Встречается ей на пути вдруг друг гуманный,
К которому не сразу подошла.
Ничтожеством всё кажет свет ей: —
Замужество, любовь… – всё суета!
В искусстве живописи нравится лишь Сутин,
Да Модильяни иногда…
Что соловей поёт,
Что дрозд, что канарейка…
А на плечах – простая телогрейка.
И не всегда заботлива о внешности своей.
Болтлива иногда;…
Страстна;…
Иль – вялая, что травушка весна.
И длинны ночи напролёт,
Когда зима свирепа, люта,
Когда все спят, – она поёт…
И лунный свет её есть часть уюта.
Настроена на тень….
На этот тон луны….
Что струны сердца вечной красоты:
У высоты берёз,
У хаоса сей жизни;
У «вечности заложности» – она
«Всегда»
В сей час….
Для нас…
А днём дремота, зевота на мир….
На всё вокруг, её что окружает…
И кажется всё время ей,
Что норовит всяк улучить момент,
Чтоб боль ей причинить….
И в чём-то обвинить, ужалить,
(А жаль).
Во – взоре – зорь озёр в узоре…
Всегда порою с кем-то в ссоре…
А на просторе, где одна, —
Печаль, тоска и грусть, – что прежде
Всегда замечена, да и видна.
Ужасно всё тогда: —
В любые дни – года тоскует….
Надломленна…. и дома не сидится….
Волнуется и мечется, и горячится,
Что в клетке зоопарковой
В день жаркий иногда и душный —
– дикая лисица.
Печалит взор её и то,
Что в хлад осенний, или зимний
«Ты тоже, тоже без пальто»
И вновь слагает стих и гимны.
То полная и тучная,
Что туча над холмами.
Тончайшая, – что
Струны Паганини
Перед вами: —
То светлая такая, голубая…
А если радость на щеках,
Во взоре каре-синего,
В улыбке тоже… Ещё как
Увидишь в ней ты сильного…
Теперь ты с грустью и тоскою
Алёнушкою смотришь
На цветик света Божий…
О, осторожней, существо набожное: —
О, в платье белоснежном!
О, нежная…
О, песня лебединая…
Единственная и незабвенная
Ты птицей откровенною
Вскрываешь вены на лоне-лон
Воды солёной….
Где в камни брега
Пены волн влюблённые…
И разбивается волна.
В волнении – Луна…
Да, вы узнаете их: —
Это – она!
Неужели хоронят умную?..
Нашу хорошую и прекрасную, —
В день этот ясный…
В свет солнца напрасный
И яркий
К уничтоженью?
В каком положенье
Движение?
О, нет!.. Свет…. свет…
Снег ярок…
Не трогает, быть может.
В этот час…. ничто
Одних лишь
Кузнецов-доярок…
Не жарко… Сорок градусов…
И невесомость… Но жалко —
– жалко…
Мне так запомнилось…
И солью сердце вдруг заполнилось.
Навзрыд…
Душа ушла…
Сверкает белым шёлком…
Шок…
Снег…
Я шёл и слышал смех…
Грех…
АЗ 1976 – июль лето среда утро
ГЕОРГИЙ КИЗЕВАЛЬТЕР
Монолог Анатолия Зверева
Ну, что тут скажешь… Искусством я начал заниматься с футбола. Вот живопись и футбол – это всё взаимосвязано! Когда мне надо было пробить штрафной удар против команды «Стрела» (а у нас была команда «Чайка», но это одно и то же), мне было 14 лет, и я забил мяч, потому что решил стать поэтом, и забил так, как мастер спорта никогда не забьёт! Но я труслив – мне так сразу определили в клубе гимнастики – ты, говорят, боишься упасть. – Ха! Я падал потом и не так, когда в Ленинграде был без сознания: лбом о платформу – и ни хрена! Но эта трусость наложила отпечаток на всю мою жизнь. Я темноты боюсь. И женщины меня потому не любят: ведь женщины требуют защиты.
Кстати, о любви. Это сильная вещь! Она приводит к уничтожению мира. И это понятно, потому что с детства я привык верить в одну вещь – в подлость! Все – подлые (кроме меня и тебя, конечно). Но я от любви бешеный – влюбился в детстве в одну даму – ей было два года, а мне год, и вот до сих пор… Ее звали Нора. Но теперь я влюбился в другую, и Норы мне не нужны.
Да, так начал я в 31-м, как только родился. Мне что-то такое померещилось, что будто была гроза – осенью, а я в ноябре родился, – летели осенние листья… и это повлияло так сильно, что когда меня пытались кормить из чужой груди, я блевал, вырывался, падал на пол головой, как бы наживая себе антиума – это тётка меня пыталась кормить, потому что мать работала всё время. Кстати, Костаки врёт, когда пишет в каталоге, кто мои родители. Он там наговорил: переплётчик, посудомойка, подломойка какая-то… Отец – инвалид гражданской войны – просто и коротко. Мать – рабочая. Всё… А потом всё пошло и поехало, хотя почти ничего не помню, что дальше было… в пять лет я нарисовал уличное движение – тогда Москва была ещё небольшой, и на выборные собрания ходили человек по пять, по восемь, под гармошку, и детей брали с собой: для детей там ставили столики, и можно было рисовать, и я нарисовал уличное движение и получил премию – портрет Сталина в золочёной раме… потом я уже заставлял рисовать троюродного брата – он очень здорово лошадей рисовал, а я вот строение копыт до сих пор не знаю: надо же изучать копыта, а я только примерно знаю… Хотя я ученик Леонардо да Винчи, я не хочу ничего изучать… я никогда не хотел быть художником, я стал им совершенно случайно, а вот гением – не случайно! Я прочитал у Леонардо да Винчи, что «жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя», – это какой-то трактат был, и я обнаружил там массу общих со мной мыслей, – так мне показалось, что это он – мой ученик; мне так жалко его стало, что я прослезился и превзошёл его!
Нет, конечно, я учился – в художественно-ремесленном, на Преображенке, на улице Девятой роты… закончил, потом учился полтора месяца в училище 1905 года – меня выгнали оттуда, не хотели они меня, да и я сам не хотел… я просто помог товарищу написать диктант, и он пятёрку получил, а меня выгнали: решили, что я у него списал…
«Мир противоречив», – сказал Илья Эренбург, разрезая ленточку на выставке Пикассо. Потом Эренбург назвал меня русским Ван Гогом, когда появился у А. Румнева, – я этим не то чтобы горжусь, а вспоминаю, чтобы со мной считались, чтобы рубль кто-нибудь дал!..
Я сейчас стараюсь вообще не рисовать, но рисую ещё больше, потому что судьба заставляет… Вообще я рисование бросил в 59-м году – для себя – ни хрена больше не делал: чего этим искусством интересоваться!? – Это всё равно, как сельское хозяйство… с 59-го года я прекратил всякие эксперименты и стал халтурщиком: рисую только для халтуры, хотя иногда и получается неплохо – всё зависит от настроения, от погоды, от здоровья, – но всё равно получается новая форма, новое искусство… а основное начало рисования было в детстве, когда мне было девять лет – я тогда создал шедевр, и когда я пытался повторить его – мне уже чёрт знает сколько лет было. …бенуаль? – нет, не фестиваль… ещё приехали эти иностранцы сраные – кто кого на лодке перегонит, как это называется? …когда 80 лет было, ну?.. негры всякие понаехали, советские люди… – вместо фестиваля, как это называется?.. вот фестиваль молодёжи и студентов был в 57-м году, а вот 80 лет – что это такое?.. Думай! На букву «о»… правильно, олимпиада! И я тогда много нарисовал всего – у одного человека… А в 57-м я действительно рисовал интересно, привлёк к себе внимание иностранцев – рисовал я тогда лучше всех, прямо надо сказать… Один бразилец заявил, что «это лучший художник и единственный!», и присудил мне две золотые медали – за две работы из шести – все тогда обалдели, и эти иностранцы-американцы с их ташизмом: ташизм, кстати, я изобрёл, только никто об этом не знает… ещё в ремесленном училище!
Нет, на меня абсолютно никто не влиял! Рисование – это мой порок. Я, по совести, поэт, а не художник… художничество пришло ко мне из-за материальных условий, к несчастью… но рисовать я действительно научился лучше всех, потому что я старался… и лучшего, чем у меня, рисунка, как говорил покойный Румнев, ни у кого не было – я раньше мог рисовать, не глядя на бумагу, один к одному! Так в мире никто не рисовал – ни Рембрандт, ни Энгр, ни даже Леонардо, мой учитель…
Молодые художники? Да я их не видел. На выставки я стараюсь не ходить, потому что молодые очень агрессивны: им кажется, что я какую-то тайну храню, а мне не до них, и я ухожу… вот влюбился в двух дам, и всё.
Почему я должен любить своё искусство?! Пускай оно меня любит. А оно говорит: слишком мало денег получаешь! Крыши над головой нет, зарплаты нет… Вот я, к сожалению, не могу на метро ездить, потому что милиция на меня смотрит, как на охламона какого-то. Мне просто сказали: лучше тебе в метро не ездить в таком виде. Я говорю: в каком?.. Я белую майку на себя одеваю – мне говорят: ты белогвардеец недобитый! Красную надеваю – ты, говорят, смеёшься над красноармейцами! Чёрную – ты анархию проповедуешь! Серую – ты серопупый, не хрена тебе в Москве жить, поезжай в деревню. Поехал в деревню, там мне говорят: ты что-то не совсем деревенский, рассуждаешь по-московски! Еду к Немухину, а он: ты что-то мудришь! Давай, ищи богатых покупателей!.. Я говорю: богатыми покупателями могут быть только спекулянты и иностранцы – они любят русских художников. Но если ты русский – так отдай своё произведение, как я отдавал!.. Мне говорят: зачем у тебя покупать, когда ты за четвертинку сто штук нарисуешь?! Или тебе ночевать негде – ведь ты боишься милиции и дурдома? – А я прописан в Гиблово-Свиблово: кто там в дверь стучит, я не знаю и я боюсь… Дурдом, говорят, тебе обеспечен! Да, я сумасшедший, конечно. Все художники – сумасшедшие, но не надо из этого делать культ! Нормальный человек, конечно, не будет разговаривать, как я. Но больной человек всегда сумасшедший: перебей ему кости – нормальный это будет человек?! Если ногу ему оторвать – полноценный это человек? Нет, он обязательно будет пороть всякую чушь!
Вообще, Советский Союз – это ералаш. Страна – блатняческая. Социализм – не утопия, но бардак и обман… Мне кажется, что мудрых людей в СССР нет, потому что у нас равенство. То есть мудрость распределена всем поровну и распространена по всему Советскому Союзу настолько, что куда бы ты ни плыл, куда бы ты ни ехал, ты всё равно получишь мудрость, то есть по башке!
Старик, что я тебе хочу сказать… Искусство – это ты сам! Вот ты живёшь, видишь, смотришь, а тебя за это по башке бьют – вот это и есть искусство!.. Как бы научиться, как хамелеон, цвет менять?! Ведь мы же не борцы, мы слабые люди, и наш бронепоезд не стоит на запасном пути – надо как-то приспосабливаться к обществу!
Вот у американцев есть поговорка: «Время – деньги». А я расточаю время в течение 54 лет со страшной силой, и никто мне за трудодень не дал ни копейки! Один раз, правда, я был строителем коммунизма – в роли маляра, – но меня так нае… – это ужасно! Конечно, кому я такой нужен: одна нога в валенке, другая в ботинке, и лаптем тормозит – в гололёд!..
Старик, есть ещё выпить? Это я говорю, в принципе, как борец против алкоголя… Что? Сейчас я живу нормально. Дальше будет хуже и хуже… Я думаю думу одну: как бы жизнь обогнуть и окунуться на дно… Горького – нет, значит, счастья нет во мне: я – на дне!.. Что, действительно больше ничего не осталось? Нет?! – Всё, жизнь прекращается!..
АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ
Как умел, так и жил
(запись беседы с Анатолием Зверевым)
– Часто тебя посещает вдохновение?
– Оно посетило меня всего один раз – летом 1968 года на даче на Николиной горе. Тогда я за несколько дней сделал более шестидесяти работ. А до этого было только желание нарисовать как можно лучше.
– Бывают ли у тебя плохие вещи?
– Как правило, я стараюсь делать хорошие. Мне кажется, что я делаю одно и то же. А уж там – как выйдет.
– Чем отличается художник от нехудожника?
– Рисовать может каждый. Даже собака или обезьяна, любое движущееся животное (червяк даже) может рисовать. А человек делает вещи, созвучные времени и настроению. Я отличаюсь темпераментом – раз, и техникой – два. Я нахожу, что искусство – это случайное явление. Я мог не стать художником, если бы не случай, начал рисовать острые моменты у ворот «Спартака» – копировал их из газет (это было в 14 лет), а в 9 лет нарисовал розу. У нас в доме висел лубок. Я его часто рассматривал. Заставлял рисовать брата и отца. Потом записался в кружок рисования – учитель положил на песок чайную розу. Я писал её акварелью – и написал так, что вышла лучше, чем есть в натуре. С учителем стало плохо.
– Где ты учился?
– В художественно-ремесленном училище, в училище памяти 1905 года (1,5 месяца), в кружках при детских городках в Сокольниках и в Измайловском парке.
– Кто учителя?
– Леонардо да Винчи. Помнишь, у него написано: «Жалок тот ученик, который не превзошёл своего учителя»? Я его своим ташизмом превзошёл. Дмитрий Николаевич Лопатников, Луканин Афанасий Николаевич.
– Кто ты по призванию?
– Я пишу картины, леплю, делаю гравюры, офорты, пишу стихи, прозу, в шашки играю.
– А разве шашки относятся к искусству?
– Связь прямая – графическая и живописная.
– Что же такое искусство?
– Артистизм.
– Самый интересный период творчества?
– Это ташизм, который начался с 1957 года. В нём самая большая отдача, доходящая до экстаза. Но всё же самую лучшую свою вещь я написал акварелью, когда мне было 9 лет, – «Чайная роза на песке».
– Что ты больше всего любишь писать?
– Пейзаж, он легче всего получается. Раньше я рисовал, чтобы научиться рисовать. Сейчас не люблю рисовать. Рисую только для общества. В 1959 году я бросил рисовать для себя. Сейчас я должен обязательно угодить и понравиться.
– Кого из художников любишь?
– Врубель, Саврасов, Васильев, Левитан, Иванов, Кипренский. В Третьяковской галерее почти все мне нравятся. Еще люблю Ван Гога (он на первом месте), Рембрандта (на втором) и Матисса. Почти нет художников, которые бы мне не нравились. Но не люблю карикатуру. Это – как оформление стенгазеты.
– Почему у тебя так много автопортретов?
– Я хотел себя прославить. Период эгоизма был.
– Какую технику ты предпочитаешь?
– Я люблю ту, которая проще, – соус. Вообще, никакая техника мне не нравится: масло неприятно пахнет, акварель расплывчата и капризна, гуашь – сыплется, карандаш требует много усилий. Больше других мне нравится тушь и гусиное перо. Мне хотелось бы, чтобы всё рисовалось само собой: как подумал, так и рисовалось. Как в природе – всё готово, надо только уметь пользоваться. Искусство – вещь специальная. Надо уметь находить пропорции, акцентировать.
– Искусство – серьёзная вещь?
– Как и жизнь. Оно и серьёзно, и несерьёзно одновременно. Но для меня больше – серьёзно. Игры в нём не может быть.
– А художник – серьёзный человек?
– Художник сам по себе – пьян без выпивки. Опьянён искусством.
– Какое искусство тебе больше нравится?
– Лучшее искусство – европейское. В нём большое стремление быть разным. Моё – европейское. Восточное искусство нарочитое. Традиционное. Его можно назвать ремеслом, когда художник ничего не ищет, а просто ремесленно-здорово рисует. В искусстве должен быть элемент поиска. Поиска образа.
– Ты ощущаешь себя профессиональным художником?
– Профессиональным абсолютно. Какой непрофессиональный художник смог бы так точно рисовать, как я? До меня не было художника, который, не глядя на натуру, так точно мог бы изобразить павлина. Я профессионал высшего класса, но не ремесленник.








