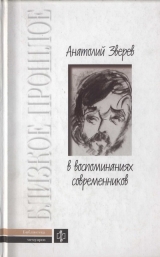
Текст книги "Анатолий Зверев в воспоминаниях современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Анатолий Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
ГЕНРИХ САПГИР
Толя Зверев и Сокольники
Искусства чистые поклонники
поедем в летние Сокольники
где Толя Зверев за столом в розарии
играет в шашки с парнем из Татарии
или глаза прищурив светло-карие
портрет рисует – натюрморт…
– Но Зверев мертв —
Не верю: Зверев мертв?
Так значит вся толпа – воскресные Сокольники
и мы – и эта парочка – покойники?
Кругом торчат надгробные киоски
могильные цветы, кусты, березки
А как же пиво, шашки, колесо?
– Ну назовите раем это все
Красивы райские Сокольники! —
Тут водку пьют стаканами соколики
Здесь девушки гуляют по аллее
серебряными веками алея
серебряными грудками белея
Здесь скамьи, сосны, облака —
и тонкий запах шашлыка
…сидел-сидел – и так спокойненько…
Как заорет на все Сокольники
«Кот – по саду! Хлоп – по заду!
Нет! с вами больше я не сяду
Играйте сами без меня…» [4]4
Строки из стихотворения А. Зверева. (Прим. сост.).
[Закрыть]
Растаял льдинкой в блеске дня
Остались без художника Сокольники
на карусели – дети-конники
девицы на кругу скучающие
и старики природу омрачающие —
и глядя на девиц кончающие…
как бы не только свой цирроз —
все краски дня с собой унес.
ВЯЧЕСЛАВ КАЛИНИН
Не мог он жить иначе
Вспоминая Анатолия Тимофеевича, вижу его хитро подмигивающую физиономию, слышу хриплый голос: «Старик, дай рубль. Давай увековечу».
И были у него тогда уже деньги, да не мог он жить иначе, и все мы, кто был рядом с ним, не могли представить его другим.
Последний Богемщик Москвы, так и остался он в моей памяти. С огромным талантом, данным ему Богом, он управлялся беспардонно, пропивая его, одаривая своими произведениями всех, кто был рядом и кто соглашался «увековечиться».
Впервые я увидел Зверева, когда в 1962 году был в гостях у художника Оскара Рабина в Лианозове. Вольготно развалившись на провалившемся диване с видом мэтра, он ставил оценки за рисунки детям Оскара и всем художникам, которые показывали свои опусы. Оценки были плохие. Тройка была высшей наградой. Пятёрки-четвёрки были только для детей, а для Володи Яковлева (он попал под его ценз) достались колы и двойки. Как же он негодовал! Но Зверев был непреклонен. Потом Сапгир читал стихи, а Анатолий Тимофеевич старался продать жене Оскара – Вале свой очередной трактат о живописи.
Уезжал он из лианозовского приветливого барака на джипе, тогда уже опекал Толю Георгий Дионисович Костаки, первый коллекционер в Москве, работник Канадского посольства, так и не успевший сделать (на основе своей коллекции) монографию о художнике. А коллекция у Георгия Дионисовича была самая полная, лучшего периода творчества Зверева…
Видел я Анатолия Тимофеевича и в работе, и в пьянстве, и всегда удивлялся цельности его жизни. Казалось, пьянство – естественное состояние его жизни. Я мучился и проклинал себя после выпитого – он же, улыбаясь, говорил: «Старик, веди себя прилично! Купи бутылку».
За трёшник он писал портрет, а уж если оставляли ночевать, то хозяин дивана получал кучу рисунков. Теперь стараются подороже продать всё, что осталось и досталось от щедрой души художника.
Когда его спрашивали, кто его учитель, он отвечал: «Леонардо да Винчи». И однажды я услышал, как он цитировал трактаты о живописи Леонардо.
Как-то в мастерской художника Немухина я рисовал с него портрет для своей картины «Вакх», а он сделал мой портрет – быстро и довольно точно. Тогда мне показалось, что совсем я не похож на себя. И сказал ему об этом. «Старичок, – подмигнул он, – вырастешь, станешь похожим». Сейчас, глядя на этот набросок, думаю: прав был Анатолий Тимофеевич.
Прошло много лет. Теперь я вижу себя того времени и вспоминаю тот вечер, проведённый со Зверевым.
Конечно, я думаю, прежде всего он был прекрасный рисовальщик. Его графика абстрагирована, экспрессивна и в то же время реалистически точна. Я надеюсь, что когда-нибудь увижу альбом его графики, изданный на Родине.
Русский художник. Русский человек, герой романов Достоевского, с душой апокалипсической, Анатолий Тимофеевич прожил жизнь трудную, но, видно, такую уготовила ему судьба, и принял он эту чашу без уныния.
На смерть Зверева
По выжженной степи электровоза свист.
Путаясь, с проводов взлетает птица,
В мираж врываясь, разрывая полог ситца…
*
Так и уходят из привычных мест,
Когда надоедают ваши лица.
Москва. 1986 г. Долгопрудненское кладбище
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
«Я его очень любил»
Познакомился я со Зверевым у Костаки в году пятидесятом, не помню точно. В то время я был учеником фотолаборанта в издательстве «Искусство». Сам я тогда ещё не рисовал и мечтал быть искусствоведом.
Привёл меня к Костаки Буткевич. Он знал картины моего деда, приобретал работы разных художников, общался с коллекционерами. Мне очень хотелось посмотреть коллекцию Костаки и в том числе работы Зверева. Когда мы пришли к нему, я увидел, что пол его комнаты был весь застелен Толиными рисунками, но о первом своём впечатлении о них я не помню. Давно это было. Потом я ещё несколько раз видел Зверева у Костаки, на выставках и в других местах.
Однажды мы встретились с ним у кинотеатра «Ударник». У меня были тогда деньги, и я предложил ему вместе пообедать, съесть курочку в «Поплавке». Пришли туда, а нас почему-то не пустили. Сказали, что ничего нет. Помню, что я очень расстроился тогда. Ведь я его очень любил, и мне так хотелось вместе с ним поесть.
Я всегда его очень любил и как художника, и как человека. И он относился ко мне хорошо, как к товарищу. И вообще, он никогда никаких художников не ругал.
За что я люблю его как художника? Трудно сказать. Он удивительно умел передавать движение, а его живопись – это умиление. Во всяком случае, некоторые пейзажи.
Больше всего мне нравились его гуаши – пейзажи, портреты, автопортреты. Я их очень много видел у Костаки. Продавал он ему их задёшево. Особенно запомнился мне один его автопортрет, который я видел у Костаки в 63-м году. Замечательная работа!
Помню, она очень нравилась и Немухину. Потом этот автопортрет был где-то даже опубликован.
Абстрактных картин Зверева я не помню, но во всех его работах есть экспрессионизм. Он экспрессионист во всём. Я слышал, что некоторые сравнивают его с Ван Гогом, кому-то он напоминает Фонвизина, а мне Зверев напоминает только Зверева. Это был очень большой художник, и жить ему было тяжело.
Как художник он намного сильнее меня. Во всяком случае, мне всегда так казалось. Одно время я даже пробовал ему подражать. Это было где-то в шестидесятых. Как-то я привёз к нему Валентина Валентиновича Новожилова – ленинградского учёного, коллекционера живописи, друга известного математика Юрия Николаевича Работнова. Новожилов покупал у меня много работ. Зверев тогда жил в Сокольниках, в доме 13. Я агитировал Новожилова, чтобы Зверев написал его портрет. Когда мы приехали к нему, Толя показал нам очень много своих работ, и одна из них меня просто поразила. Это была прекрасная картина – скрипка. На следующий день, под впечатлением от этой работы, я повторил ее гуашью. Отдал её Новожилову. Она ему очень понравилась, но он сказал мне: «Володя, больше никогда не подражай. Это очень некрасиво». А почему нельзя подражать?
Ещё где-то в шестидесятых нас со Зверевым очень любили студенты из МГУ. Они хотели нам как-то помочь, показывали наши работы. Однажды они пришли ко мне домой – посмотреть мои картины. Я тогда жил ещё на Тихвинской улице. Но пришла вдруг милиция. Кто её вызвал? Не знаю. Милиционеры посмотрели мои работы и сказали: «Какая ерунда!» Студентам приказали: «Больше этим не заниматься». А дальше? Дальше всех нас забрали в милицию, но потом отпустили.
Я всегда очень любил Зверева и думаю, что если бы он попал в хорошие руки, если бы у него был дом, еда, краски, он писал бы ещё лучше.
ВИКТОР КАЗАРИН
Благодарен судьбе
Анатолий Тимофеевич Зверев в жизни моей сыграл фатальную роль, и я благодарен судьбе за то, что она свела меня с ним. А знакомился я со Зверевым не один раз, и продолжаю знакомиться по сей день.
Первое знакомство состоялось, когда двенадцатилетним мальчишкой я пришёл к художнику Сергею Николаевичу Соколову. В своё время Соколов учился у Константина Коровина, стал членом МОСХа и начал вести курс рисования в Строительном институте и в студии ДКШ.
Сергей Николаевич был замечательным педагогом. Таких на своём веку я больше не встречал. Он был самым умным, а значит, и добрым. К каждому своему ученику относился внимательно. Каждому слово найдёт. Великолепный был человек. Он водил нас в зоопарк, где мы вместе с ним рисовали всяких птичек и зверей, возил на этюды. Мы часто сопротивлялись, но он настаивал. Мороз – в двадцать градусов, шибзикам по двенадцать лет, бежим за ним, как цыплята, а ему в те годы было уже под семьдесят. Везёт нас в Абрамцево, выкапываем там яму в снегу, залезаем в неё от ветра – и рисуем. Замечательно это было!
И вот однажды Сергей Николаевич показал мне рисунки Толи Зверева – мальчика, который у него учился, но потом ушёл. Это были маленькие рисунки, графические изображения людей и животных, и все они были удивительно выразительными. Толя приносил их Сергею Николаевичу в огромном количестве каждую неделю. Когда я их увидел и узнал, что всё это Зверев рисовал, когда ему было столько же лет, как и мне, то прямо-таки был потрясён. Замечательными были эти рисунки двенадцатилетнего Толи!
К тому времени я видел уже немало работ в Третьяковской галерее – и Сурикова, и Иванова, и Репина, и многих других. И я не был всем этим так удивлён, как рисунками Толи. Я понял тогда: на кого-то надо равняться. И первый барьер в моей жизни поставил Зверев. Я решил, что буду работать именно так, а не иначе.
Сергей Николаевич ценил Толю высоко, понимал, что он большой талант, но ценил всё-таки ограниченно. Он считал, что Толя великолепный график и только. Потом уже он говорил мне: «Витя, учись, рисуй – но помни, что цвет есть всё-таки цвет». О Звереве он много не рассказывал, хотя и знал о нем всё. Ребята часто просили: «Принесите его рисунки, покажите!» Я не просил, но исподтишка поглядывал, что он там рисует. А рисовал он всё. Целые дни проводил в зоопарке, ходил в Третьяковку, и всех бабушек, сторожих, гардеробщиц рисовал. Он был исключительно работоспособным, и Соколов его рисунками нас просто будоражил. Он рассказывал, как Толя вместо красок (их у него часто не было) иногда использовал живые цветы, как его клевала ворона, когда он рисовал, как в детстве крысы съедали его рисунки.
Однажды Толя ему предложил: «Сергей Николаевич, давайте-ка с вами посоревнуемся». Звереву было тогда четырнадцать лет. Соколов принял вызов и начал быстро рисовать. Толя тоже. В течение двух часов Сергей Николаевич написал семь этюдов, а Зверев – двадцать один и большого формата. Сергей Николаевич удивился. Не то чтобы позавидовал, но всё же… А девать-то этюды Толе было некуда, и он, недолго думая, взял да и покидал их в воду. Там было что-то вроде прудика, лужица какая-то. Покидал и говорит: «Посмотрите, как красиво под водой!»
Звереву уже в те годы я поклонялся, как Богу. У Сергея Николаевича накопилась громадная коллекция Толиных рисунков. Он умер, коллекцию свою кому-то передал, и всё это, конечно, хорошо было бы найти.
Прошло много лет, как я снова увидел его работы. В 1976 году состоялась выставка художников на Малой Грузинской. На ней были выставлены и три портрета работы Зверева. Помню, что они понравились мне особенно. Захотелось увидеть его самого, не терпелось познакомиться с ним и жене моей Лиде, тоже художнице. Но встретиться никак не удавалось. Лишь в 1982 году состоялось моё личное с ним знакомство. Его привёл ко мне художник Борис Бич. Толя явился в надежде переночевать, прожил у нас три дня, но настоящих отношений тогда между нами не завязалось. Может быть, потому, что я его не смог как-то понять, – понять его жизнь, его судьбу.
После этой встречи мы долго не виделись, и только за два года до его смерти сдружились. Встреча наша произошла на Октябрьской площади, тогда там продавали краски. Иду, накупил себе всего, что надо, и вдруг вижу – Зверев! Обрадовался и к нему: «Тимофеич, бутылку поставишь?» Отвечает: «А что, поставлю». Пришли с ним ко мне. Жены дома не было, бутылку распили с моей мамашей. Шутили, дурили по-хорошему, смеялись. Он шумел, буянил. Утром просыпаемся рано, он уже поднялся. Ведёт себя робко, застенчиво. В трезвом виде он был скромен, деликатен и тих.
Стал он приходить к нам на целый день. Смотрел, как я работаю. Писал я тогда только большие холсты. Он часами сидел и смотрел. Говорю жене: «Давай заберём Зверева к себе». Спрашиваю Толю, и он говорит: «С удовольствием». Художники группы «Двадцать один» приняли эту идею положительно. Так общаться мы стали постоянно. Нет его у меня три дня – уже волнуюсь, разыскиваю. Он, бывало, жил у нас несколько дней, все знали об этом и звонили ему ко мне. Когда он оставался у нас ночевать, то на диван никогда не ложился, не хотел: «Детуль, я на газетке, на полу». Стелить себе не позволял, но когда мы специально приобрели для него раскладушку, тогда уже ложился на неё, не раздеваясь. До сих пор осталась у нас эта раскладушка, и мы её называем «раскладушка Зверева».
Утром он вставал раньше всех. Я начинал работать, он следил. Как-то говорит: «Витя, если ты будешь так вкалывать, то скоро помрёшь». Я ничего ему не ответил. Зверев опять своё: «Витя, что ты за дурак такой. Пишешь, пишешь, как колорадский жук. Нюхаешь краски, света белого не видишь, подохнешь! Мамашка (так он называл мою маму), останови его!» Наблюдал он за мной, наблюдал, а потом и сам начинал работать.
В промежутках между работой мы играли с ним в шашки, в карты. Он мне всё говорил: «Детуль, успокойся, не спеши. Рисование тебя до добра не доведёт». Бывало, и «подхваливал»: «Витя, что я там делаю! Надо работать, как ты. Ляп-ляп, раз-раз, обвёл – и порядок». В общем, умел поиздеваться. Когда ему не нравилась чья-то работа, он говорил: «Ну, брат, ты гений. Лучше не бывает».
Как-то Зверев целый месяц отсутствовал, жил у кого-то на даче. Потом мне сказал: «Ты что думаешь, я там много работал? Три работы всего написал. Два натюрморта и рисунок. Всё мне это не нравится в принципе». Приехав ко мне, опять начал работать. Мы заводили как бы друг друга. Моя жена – свидетель. Она нам даже темы придумывала. Изрисуем мы всё на свете и спрашиваем: «Что ещё нарисовать?» Весь зоопарк вспомнили – жирафа, кенгуру, зебру… У нас это было, как танец. Много писали с ним вместе.
Как-то мы пошли с Толей в Пушкинский музей. Я следил за ним. Картины он рассматривал очень внимательно. Пронизывающим глазом смотрел. И людей наблюдал. Не понравится кто-то – начинал подсмеиваться.
Однажды дал в рожу одному реалисту, заметив, что тот стал на меня нападать, – словесно, конечно. Я говорю: «Толя, за что ты его?» Отвечает: «А что он на тебя попёр?» Реалист тотчас же бросился в милицию, но обошлось.
Агрессивность, бравада Зверева были защитной реакцией. Он был человеком чистым и благородным, совершенно лишённым зависти. Как-то рассказывал: «Меня звали в Америку, обещали особняк, жену, но я не соблазнился. Зачем?»
Он ни у кого ничего не брал, всем всё отдавал. Он жил и плодоносил, как дерево.
АЛЕКСАНДР КУРКИН
Светлой памяти мастера
Гениальность, которая кажется Божьим даром, есть не что иное, как обречение на несчастье и одиночество.
Де Виньи
Он не был человеком толпы… – родился с диагнозом – ХУДОЖНИК, жизнь его – АНАМНЕЗ…
Свиблово, которое он именовал как «Гиблово», запах хлорки…
Служба в Морфлоте, комиссация по причине неадекватного поведения…
Прогулки с женой – она с подушкой, повязанной на голову: «Жена гения должна беречь себя!»
Безумная ревность – запирал её в комнате, выходя на улицу. Приходя, кидал «еду» на пол…
Страсть к футболу – мог часами гонять камень, консервную банку – да что угодно – по улицам Москвы… И игра в шашки – ГРОССМЕЙСТЕР!!! – «Старик! Ты в сортире! И ещё раз, только в другом! У тебя что, две жопы?!»
Неизменная сигара «Пагар» – дешёвая, вонючая, постоянно тухнущая…
Круг общения НЕОБЫЧАЙНЫЙ… – художники, коллекционеры, поэты, рабочие и люди без определённых «занятий» – HOMO SAPIENS!
При всём при этом – абсолютное небрежение к себе – ЕГО МИР – это МИР, который принадлежал только ему – «В СЕЙ МИР ВХОДЯЩИЕ – ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЕ…»
Безудержная страсть наблюдать, запоминать и, мгновенно схватывая суть того, что привлекало его внимание, – воплощалась в его рисунках, акварелях, картинах…
Тимофеичу было безразлично, где рисовать, где пребывать, где спать… Мастерская Воробьёва – Толя особым образом режет ржаной хлеб, превращая его в «пирамиду», состоящую из кусков, брусков и кусочков разной величины и формы. На столе на обычной бумаге рассыпана гречневая каша и неизменная жареная навага из «Кулинарии». Бутылка с водкой покупалась только наполненная не доверху – в противном случае там – антабус…
Идём в мастерскую Владимира Немухина… Зверев в рубашке, надетой наизнанку (швы должны быть наружу – к ним машина прикасалась!).
На Сретенке – извержение содержимого. Снимает рубашку, кидает её в урну, заходит в магазин и покупает новую. Выворачивает её наизнанку, надевает.
Приходим… У Володи Плавинский, Кандауров, Алик Русанов… На столе гречневая каша, хлеб, навага, водка… Немухин с неизменной папиросой «Север», Тимофеич – с сигарой «Пагар».
Спустя некоторое время Отарий Звереву:
– Старик, ты что-нибудь, кроме «Мойдодыра», в жизни читал?
Зверев наизусть читает ему «Евгения Онегина». Посрамлённый Кандауров покидает застолье.
Великолепное остроумие Зверева было всеизвестно, поступки его вызывали то негодование, то восхищение – всё зависело от ситуации, в которой он находился… За словом в карман он никогда не лез, а из любой ситуации находил выход. О нём до сих пор ходят легенды…
Из путешествия в Самарканд:
«Ползут по рельсам трое. Плавинский: „Лестница неудобная, от ступеньки до ступеньки еле дотягиваешься“. Харитонов: „И перила низкие, все руки изломаешь!“ Зверев: „Хватит подниматься, отдохнём, – лифт приближается!“»
На приёме в посольстве США гостей встречает посол с супругой. Подходит Зверев, лезет рукой в задний карман брюк – все в недоумении – Тимофеич достаёт пучок сена: запах полей Российских.
У дяди Жоры Костаки, где Зверев жил и работал не один месяц и создал не одну сотню прекрасных работ (среди них – иллюстрации к «Евгению Онегину», «Дон-Кихоту», «Золотому ослу» Апулея), – вечернее застолье… Присутствуют художники, поэты, послы, дипломаты. Георгий Дионисович был хозяином радушным, хлебосольным, великолепным собеседником, знатоком искусства. Прекрасно играл на гитаре, пел. В его доме – праздник. Костаки: «Толя, ты же написал поэму о князе Игоре, прочти, пожалуйста!» – «Нет, Георгий Дионисович, не могу…» – скромно, но решительно отвечает Зверев. «Но мы тебя очень просим, Толя. Прочти, пожалуйста!» Зверев соглашается, читает… Все внимательно слушают… Поэма оканчивается словами князя: «И натянул тетиву я – и ни х…!» «Толечка, но как же так, при всех?» – «Георгий Дионисович, вы же сами просили», – потупив взор, скромно ответил Зверев.
Зверев творит – не имеет значения, что под рукой… – бумага, холст, картон, карандаши, кисти, перо… – он весь поглощён священнодействием. Сам процесс воспроизведения «чудного мгновения», неотъемлемой частью которого – он: взмах руки, движение карандаша, кисти – фейерверк красок, композиция – всё противоречит «канонам»! А результат?!!
Ничто и никто в этот момент не существует для него – только мгновение, автор которого есть мастер!
Толю просят нарисовать портрет… – «Бумага, холст, краски? Чем рисовать, есть?» – «Толечка. Вот бумага, цветные карандаши, акварель, темпера». – «А что ещё?» – «А что надо?» – «Веник есть?» – «Есть». – «Давай».
Мастер преобразился. Маргарита в нём, и ничто не существует, кроме того, что восхищает нас много лет спустя, после ухода того, кто был и остался Художником! Все цветные карандаши зажаты в руке… Несколько движений – все в недоумении… В ход идёт веник – вода в тазу, акварель на столе. Он не смотрит ни на краску, ни на бумагу… Всё внимание и суть!!!
Две, три, пять минут – пред взором присутствующих ТО, что никто не мог себе представить!
– Толя, изумительно, спасибо!!!
Мастер оставил нам великолепные произведения, восхитительные портреты своих современников. Он увековечил не только себя, но и своих близких, друзей – тот мир, неотъемлемой частью которого он является.
Малая Грузинская, 28… С 1976 года Зверев принимает участие во многих выставках, которые организуются в Горкоме графиков по нескольку каждый год.
Приходит на выставку. Сосредоточен – весь внимание! Лучше не подходить…
Стоит в коридоре при входе в залы. В руках у него бумага, карандаш…
– Старик. Портрет будет стоить три рубля! Ну ладно, давай хоть два!
– Что? Рупь!
– Ну, хорошо!
Счастливый посетитель, заплатив рупь, уносит рисунок домой.
Рисовал всегда и везде… Сотни? Тысячи работ! Каждый год выставки его произведений, монографии, передачи…
Отношение к нему было неоднозначное – любили, ненавидели – равнодушных не было. А как много друзей! Володя Немухин, Дима Плавинский, Саша Харитонов, Дима Краснопевцев, Боря Свешников, Алик Русанов, Георгий Костаки, Наташа Шмелькова. А Оксана Асеева!!! «Старуха, как нечем топить печку?!» – снимает с полки собрание Асеева и бросает в топку (на даче у Асеевой)!
Он ушёл Мастером, представителем великой культуры, неотъемлемой частью которой он является, оставив нам свидетельство того времени, того мира – его понимания и осознания всего, чему он был свидетелем.
Доколе мастера при жизни оных будут являться для нас «экзотикой»?! Но, когда мы лишены общения с ними, в полной мере осознаём тот пласт культуры, свидетелями которого мы были, но не осознавали. Прости нас, Господи, ибо не ведаем, что творим…
На месте упокоения Мастера водружён крест, созданный по эскизу его друга Дмитрия Плавинского. На кресте начертано: «ЦАРЬ СЛАВЫ».








