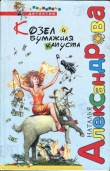Текст книги "Эта гиблая жизнь"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц)
И только Анна собралась дверь захлопнуть, тут как тут появляется некто другой и прямиком мимо меня шагает в распахнутую дверь. Вот и вся любовь. Никто никого не компрометирует. Как жить после этого, ответьте мне, любезные мои! Думаете, я полнейшая тряпка и все на свете могу стерпеть ради одной жизни этой дерьмовой? Чтобы только сопеть в две дырки? Нет, дорогие, всему на свете есть свое место и своя цена. И жизнь сама по себе не самое дорогое удовольствие в жизни, есть в мироздании вещи и посерьезнее, чем собственная ободранная персона. Про это вы лучше спросите у матери кормящей или у пулеметчика, который, стиснув зубы, на сердце последнюю гранату греет, как родную, на помин души солдатской, чтобы та нехристям на потеху не досталась. Но я-то в тот раз стерпел все, только на улицу выскочил. И тут же мысль: вот только что о меня, о мою бессмертную душу ноги вытерли, это тебе урок на всю жизнь последующую. Каково?! Я – обратно и кулаками в дверь забарабанил. Снова открывает она. Глаза испуганные. «Позови-ка мне, – говорю, – того молодого человека, который только что к тебе зашел». «Не надо, – шепчет, – уходи. Ну пожалуйста». «Нет, позови», – настаиваю. И вдруг шаги на лестнице. Появляется муж, профессор эстетики. Молод, осанист, умные глаза. Увидел нас, и брови вопросительно поднялись. Анна с умоляющим видом на меня смотрит. Я мужу обманутому, которого я же сам и обманывал в компании с этой женщиной: «Будьте добры, пусть выйдет человек, который у вас сейчас на кухне сидит». Немая сцена. Профессор быстро нашелся, на то он и профессор: «Этот человек пришел ко мне». Вышел я из подъезда, в окно им кулаком погрозил и побрел куда глаза глядят. Пусть они там сами разбираются между собой. Гнусно однако на сердце от таких воспоминаний, сам-то себе я не лгу никогда. Или думаю, что не лгу. Мерзко это – быть с чужой женой, хуже всякого воровства, вот меня Бог и наказал, не иначе. Поделом.
Но я на этом не успокоился и порешил тогда свести счеты с жизнью. Честно говорю. Дане так-то это просто, как оказалось. На тот свет люди тоже попадают в порядке живой очереди, и с самозванцами здесь не церемонятся. Но довольно об этом. Последнее, что я запомнил перед тем, как совершить это непростительное безрассудство, была шахматная доска. Черные фигуры наползали со всех сторон, и белый король в два счета был повержен на своем поле. Я очнулся в пустой аудитории института, в котором когда-то учился и куда пробрался тайком, чтобы осуществить свой злодейский, кощунственный замысел. Но не тут-то было. Я оказался совершенным глупцом, прущим против рожна.
Поди угадай, где твое место в жизни. Так и в смерти. Заварил кашу, так расхлебывай до конца. Ничто так не угнетает меня, как собственное окаянство. Незаконная любовь и незаконная смерть – многовато для одного человека. Эти две борозды на моем сердце не дают мне покоя.
Я заметался тогда. Леонид не открывал, либо он уже сидел в тюрьме, либо валялся бесчувственным на своем продавленном диване. Другие, те, что прежде казались друзьями, услыхав о моих злоключениях, вежливо, но твердо отказывались войти в мое положение. «Извини, старик, – звучало в ответ, – у меня у самого проблемы». И это были те люди, с которыми я делился в лучшие времена самым сокровенным. Я уже не удивлялся ничему на этом черном белом свете. Я стал человеком с проблемами, изгоем, от которого надо сторониться. Черной бубонной чумой меж мирных хижин с телевизорами, видео по вечерам и уютно и сыто урчащими холодильниками, набитыми разной вкуснятиной.
Зимними снежными вечерами я блуждал по пустеющим улицам, судорожно выгадывая себе место ночлега. Я с какой-то детской голодной завистью смотрел, как светятся маняще сотни и сотни окон в домах, представляя себе сцену семейного ужина. И ничего прекраснее этого не приходило мне тогда на ум. В животе урчало, иногда на меня находила такая безысходность, что я начинал хрипло подвывать про себя, чтобы не услышали прохожие, и по щекам катились тогда такие жгучие ледяные слезы. Я мечтал найти бумажник, полный крупных купюр, и накупить себе пирожков. Целый огромный пакет. А потом забраться куда-нибудь в укромное место и съесть их. И слаще мечты для меня не было. Но как только я разживался какими-то деньжатами, я почему-то предавал эту мечту и покупал водку, а потом пьяный ночевал, где придется, потому что, если трезвым меня бывало жалели, то под хмельком я внушал одно отвращение. Тогда меня ругали и гнали прочь. Пьяный всегда виноват, даже если он и не виноват ни в чем. Так я снискал всеобщее осуждение, меня стали презирать и те немногие, кто прежде дарил участием и даже пытался помочь. Я прослыл человеком безнадежным. «Он забулдыга, сам во всем виноват», – слышалось со всех сторон. И кто-то вздохнул с облегчением: помогать такому бессмысленно, пусть себе катится вниз. «Падающего – толкни». Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Хорошо еще, что меня не убили, впрочем, чего тут хорошего, рассуждаю я частенько. Пусть бы и убили, а тело расчленили на куски, как теперь модно, и в целлофановых пакетах выбросили на свалку. Разве теперешняя моя жизнь не такая же свалка, где свалены целые горы отбросов: тех постыдных и омерзительных поступков, которые я совершил за все годы своего сознательного бытия. Точнее, не свалка – там хоть небесный простор наверху и ветерок сквозит – а попросту пыльный темный чулан, набитый всякой рухлядью. Я ведь теперь ясно смотрю на вещи, даром что пьяница. Шельма-квартирант, которому я сдал квартиру, какими-то бесовскими махинациями переписал ее на себя, продал и испарился. Таких примеров тысячи, некоторые находят, что я еще дешево отделался. От милиции, куда мне советовали обратиться поначалу приятели-доброхоты, проку мало, она теперь ничем не может помочь простому смертному, это стала просто устрашающая мясорубка, дробящая кости и вытягивающая из человека жилы. Одно членовредительство, а не милиция, но это я так, ворчу по привычке. Только родная соболезнующая душа может еще помочь человеку, в этом я убедился на собственной шкуре. Никому мы на свете не нужны.
Вот такой-то души у меня и нет. Да скоро и у вас не будет, помрут все души живые, останутся одни майки с номерами, как у футболистов. Как только я слышу привычное «это – ваши проблемы», понимаю: человек человеку никто. Иногда я прохожу мимо окон собственного дома, где теперь живут неизвестные мне люди, и, подняв воротник, чтобы меня не узнали во дворе, смотрю, смотрю до слез, как светятся в наползающих сумерках огни чужого очага, где за чужими шторами идет обычная вечерняя кутерьма.
Видимо, жизнь скоро пройдет, век бездомного короток. Знавал я на своем веку тот незабвенный медовый месяц на волжском берегу. И довольно с меня. Недолго музыка играла... Я больше не верю в рай земной. Жизнь поманила и обманула. Любовь обернулась собачьим вальсом. Смерть с пренебрежением отшвырнула прочь, указав на место в толпе очередников. Судите сами, что мне остается? Вот еще отхлебну из горлышка, с неприличным звуком – горе и поутихнет. Ваше здоровье, дорогие мои собратья по разуму, будьте счастливы! Помните, число бедствий наземне ограничено законом сообщающихся сосудов, и если вы блаженствуете, значит кто-то там бьется за вас, как рыба об лед.
Я, конечно, существо безусловно вредное для окружающего общества. Другой бы на моем месте давным-давно впрягся бы тянуть какую-нибудь лямку, вроде разгрузки вагонов или дорожных работ. Я пытался не раз и понял, что не способен на постоянное усилие. Это у меня от безволия. Анна как-то объяснила мне, что неспособность к труду и устройству собственной жизни на самом деле болезнь и передается генетически. Заразная хроническая болезнь, хочу прибавить от себя, просто эпидемия какая-то. Я теперь угрюмый, нелюдимый человек с осторожными движениями и быстрыми взглядами искоса. Голос мой дрожит, язык запинается. Всю мою прежнюю высокопарную художественную дурь как помелом смело в одночасье. Вот это одно хорошо, я считаю. Если на мое никчемное, чумное счастье перепадают какие-то деньжата, я тихо напиваюсь один, сидя где-нибудь на скамейке бульвара, чтобы подальше от глаз людских. Тогда я начинаю перебирать в своих трясущихся алкоголических пальцах годы, месяцы и дни своей жизни. И так все снова и снова, до самых мельчайших подробностей. Повторенье – мать ученья. Ненавижу все новое! Пересматриваю при случае старые фильмы, виденные уже сто раз, перечитываю старые добрые, растрепанные книжки, из которых больше всего люблю детские, «Приключения Вити и Маши», например, или «Незнайка на Луне». Просто зачитываюсь ими, сидя в читальном зале за дальним столиком у окна. Понял однажды простую премудрость Соломона: все новое на земле – от беса.
Вот и стало все сразу на свои места. Люблю однажды виденное, верните мне мой потерянный рай, прежнюю Анну, летний месяц, сосны, пляж, избушку, верните мне прежнюю Волгу наконец! Боже, возьми меня осторожно, как кроху-жучка, двумя пальцами за спинку и вынь из этого мутного и страшного потока мироздания! Я тону, меня уносит все дальше и дальше. Думать не хочется, что станется со мной потом. Спаси меня, умоляю, ведь другого такого уродца на свете у Тебя больше не будет никогда. Никогда, Господи.
Хорошо, что у меня нет детей. Только представлю себе, как они, заплаканные и чумазые, мечутся по этой голой неприютной земле и растирают ладошками слезы по лицу, сердце у меня сразу щемит и проваливается в пустоту. Хорошо, что я, чадо вырождения, первые признаки которого – отсутствие паспорта и ИНН, не успел в прошлой жизни своей родить на свет с Анной мальчика с моими испытанными глазами. Наверное, от таких, как я, надо в спешном порядке избавляться, диспансеризацию, что ли, какую провести в массовом порядке, чтобы укол – и нет человека, тормозящего своим неопрятным видом общественный прогресс. Чтобы глянцевитые люди из рекламы со здоровым цветом лица и улыбками от «Дирол вайт» могли безмятежно разъезжать на «джипах» по неоглядной Среднерусской равнине и вечно болтать по сотовому телефону о погоде на Канарских островах, не опасаясь, что какой-то опустившийся тип в глубоком тылу жиреющего общества потребления думает иначе, чем розовощекая разбитная сатана-дикторша в телевизоре.
Я-то не охвачен телевидением, и в этом главная моя опасность для общества. Будь на то воля мирового правительства, меня бы силком усадили за экран и сказали: «Расслабься и считай слонов. Один слон, два слона, три слона, четыре... И так далее. А в остальном будь паинькой и слушайся тетю с микрофоном». Вот вам полное пророчество дня завтрашнего. Точка.
Скажете, я просто валю с больной головы на здоровую? Может, вы и правы. Тогда замолкаю себе в темном чулане бытия. Меня заперли, ключ торчит снаружи. Пауки хозяйничают здесь. Только ровный, монотонный голос за дверью считает вслух: «Один слон, два слона, три...» Ненавижу «джипы», «Дирол» и шампуни от перхоти. Плюнь мне вслед, прохожий, я для тебя никто.
Алексей Горшенин
Горшенин Алексей Валерьевич родился в 1946 году в г. Ульяновске. Окончил Томский государственный Университет, работал в новосибирских газетах, в журнале «Сибирские огни».
Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Дальний Восток», в еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия» и других. Автор книг «Человек среди людей», «Требуется лидер», «Беседы о сибирской литературе» и других...
Живет в Новосибирске.
Член Союза писателей России.
Несовпавший (повесть)
Не жить случилось – доживать
в срамной борьбе за выживанье...
А тут без тяги торговать,
да воровать, да предавать
никчемны прочие страданья.
Н. Созинова
О его смерти первым узнал и оповестил рыжий эрдель из квартиры напротив. Начиная со вторника, с первой утренней прогулки, пес, вместо того, чтобы как обычно, пулей нестись вниз, на улицу, садился вдруг на коврик у порога соседской двери и начинал выть. Хозяин с трудом стаскивал собаку с места, и она, испуганно озираясь чуть ли не на каждом шагу, продолжала подвывать и всхлипывающе взлаивать до самого выхода из подъезда.
Так продолжалось и день, и два, и три...
Наконец хозяин эрделя сообразил, что здесь что-то не так, и вызвал кого следует.
Слесарь с дворником в присутствии участкового и соседа напротив взломали дверь (благо в их доме оставалась она, наверное, одна такая – не сверхпрочная бронированная, которую можно только фугасом свернуть, не с суперзамками и хитроумными запорами, а самая обыкновенная, навешенная еще четверть века назад строителями, оргалитовая дверь), вошли внутрь и сразу же почувствовали тошнотворно-сладковатый трупный запах.
Хозяина квартиры обнаружили в ванной. Захлестнутая на шее петля из бельевой веревки была привязана к трубе полотенцесушителя, а сам хозяин, полу сед ой долговязый мужчина средних лет, худой и лицом, и телом, висел, неловко подогнув ноги и опустив руки по швам. Дно ванны поблескивало желтоватой лужицей. Запах мочи мешался с духом начавшегося тления.
Участковый осторожно дотронулся до повешенного и тут заметил в нагрудном кармане его рубахи сложенный вдвое клочок бумаги. Развернув его, участковый прочитал:
«Уходя, никого не виню. Просто не совпал с этой жизнью».
И все.
Участковый в недоумении повертел записку, повернулся к слесарю и, сунув ему бумажку, спросил, будто тот знал наверняка:
– Чего это он?
– Жить, поди, устал, вот и... – мрачно поскреб щетинистый подбородок слесарь.
– А кто он?
– Сосед мой, Николай Федорович... Перевалов, кажется, фамилия, – с готовностью сообщил стражу порядка хозяин эрделя.
– Чего-то я его не припоминаю... – наморщил лоб участковый.
– Он недавно в нашем доме. С год, наверное. После размена квартиры. Очень тихо жил, сам по себе, незаметно, – сказал хозяин эрделя.
– Потому и не запомнил, коли не пил человек, не скандалил, не хулиганил, не судился, – заметил участковому дворник.
– А за ним ничего такого не водилось? – с сомнением покрутил в воздухе растопыренной пятерней милиционер.
– Не много я с ним общался, но, по-моему, вполне приличный интеллигентный человек, – возразил хозяин эрделя.
– А чем он занимался? – спросил участковый.
– Когда-то вроде в каком-то КБ работал, потом – кто его знает... – пожал плечами сосед и добавил: – И кто только сейчас чем не занимается! Чем раньше, может, и не приснилось бы.
– Зачем же тогда он, интеллигентный человек, в петлю полез? – ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос участковый.
– Так пишет же: не совпал, – напомнил о записке слесарь. – Не сумел, значит, к нынешней жизни приспособиться.
– К ней, заразе, пожалуй, приспособишься, ежели утром встаешь и не знаешь, что будет вечером, – проворчал дворник.
– Ладно, – вздохнул участковый. – Сообщим в отделение и в «скорую» да будем оформлять. Надо бы родственников известить. Есть у него кто-нибудь? – спросил он, выходя из ванной.
– Этого я не знаю, – развел руками сосед.
1Нельзя сказать, что жизнь Николая Федоровича Перевалова пошла под уклон внезапно. Он, во всяком случае, какого-то особого переломного момента в ней не помнил. Вроде катилось все себе обычным заведенным порядком: школа, вуз, молодой инженер-электронщик в проектном «ящике», работающем на оборонку и космос, и два десятка лет неспешной карьеры от стажера до ГИПа (главного инженера проектов). Утром – на службу в переполненном транспорте, вечером тем же макаром – домой. В промежутках – вороха «калек» и «синек» с чертежами, «пояснительных записок» и служебных циркуляров, которыми постоянно был завален рабочий стол, вечный дамоклов меч производственного плана над головой, летучки и профсоюзные собрания, анекдоты и треп в курилке, праздничные демонстрации, ну и, конечно же, с несокрушимой регулярностью выверенного электронного механизма – аванс, получка, прогрессивка, венчавшие творческий труд многочисленного коллектива.
Похожей жизнью жили родители Перевалова, такие же итээровцы, несметное число других людей самых разных возрастов и профессий вокруг, а потому казалось, что она столь же естественна и незыблема, как и звездное небо над головой.
Но, как известно, даже расположение звезд на небе меняется – что уж тут говорить о жизни человеческой...
То, что жизнь становится другой, Перевалов почувствовал далеко не вдруг. Хотя лучше бы уж сразу швырнули в водоворот: выплыл – молодец, нет – такова твоя планида.
В том-то и дело, что невообразимых размеров плот их страны, название которой умещалось в аббревиатуру из четырех букв, связанный из бревен и бревешек «республик свободных», краев и областей, долгое время сплавлявшийся туда, где вроде бы лежала земля обетованная «равенства и братства», курс свой сменил не сразу.
Скорее всего, кормчие и лоцманы поначалу просто проморгали нужный поворот, а потом, когда заметили впереди на пути нешуточные пороги и поняли, что мимо никак не пронесет, стали уверять всех, что нет ничего страшного, а есть новый курс к земле еще более лакомой, где всем воздается по уму и таланту и даже сверх того, только вот на нем возникли некоторые естественные преграды, которые, зажмурившись, и очередной раз покрепче затянув пояса, надо преодолеть.
Начавшиеся перемены не обошли и КБ, где работал Перевалов. На одном из партсобраний пришел черед и Николая Федоровича держать отчет в том, как он перестраивается в связи с новыми условиями (как делали до него и другие сослуживцы). Но вместо того, чтобы, как и они, потолочь воду в ступе, Перевалов честно сознался:
– Извините, товарищи, но я никак не пойму, куда и зачем я должен перестраиваться. Я плохо работаю? Делаю что-то не так? Скажите тогда – что? А может, я – пропащий алкоголик, хулиган, аморальный тип?...
Собрание безмолвствовало. Ничего плохого коллеги про Николая Федоровича сказать не могли. Специалист классный. По работе – только благодарности да премии. На Доске почета висит. Но главное – действительно работает, а не отрабатывает, как некоторые. Душа в деле чувствуется. Да и в общении мужик нормальный: ровный, доброжелательный; едва ли у них в КБ найдется человек, который бы на него зуб имел. В порочащих его связях тоже вроде не замечен. Но даже если и ускользнул от всевидящего ока общественности какой-нибудь производственный романчик – велика ли беда! Хотя и не бабник, но мужчина он привлекательный. Женщины охотно подтвердят. И рост есть, и стать. Лицо, правда, обыкновенное, не особо запоминающееся. В толпе мимо пройдет – и внимания не обратишь. Ну, так с лица ж воду не пить...
Так что, как ни крути, а ведь прав, наверное, Перевалов: какая нужда ему перестраиваться? Ну а поскольку та же крамольная мыслишка относительно себя любимого тлела-шаяла, готовая вот-вот разгореться, внутри почти каждого из присутствующих, парторг, чутко уловивший это настроение, решительно взял инициативу на себя.
Язык у него был подвешен, запудрить мозги умел, потому и комиссарствовал в КБ который уже год.
Ты, Перевалов, говорил он, не понимаешь сути текущего момента. А суть заключается в том, что наша экономическая машина за многие десятилетия напряженной работы изрядно поизносилась и требует основательного ремонта всех узлов и деталей. Но для его осуществления надо переналадить в нужный режим работу обслуживающего персонала, то есть нас с вами, всего общества. Останавливать машину нельзя, ремонтировать придется на ходу. Отсюда сложность и ответственность задачи, которой нам надо проникнуться, – втолковывал неразумному Перевалову парторг.
Перевалов попытался представить себе некую громоздкую, непонятного назначения машину, внешне смахивающую на видавший виды комбайн, участвовавший во многих хлебных битвах. Вокруг, нещадно дымя цигарками, топчутся мужики в промасленных спецовках и, перебивая друг друга, думают бесконечную думу о капремонте. Дума эта облекается в многозначительное почесывание затылков, цокание языками, сокрушенное качание головами, ну и, разумеется, в густо проперченные ненормативной лексикой словесные нотки. Главный же смысл ее, думы, укладывается в два непреходящих вечных вопроса-ответа: «Что делать-то, мужики?» – «Да хрен его знает!» И еще в одну фразу-надежду: «Вот приедет механик, он разберется...» Приезжает механик, ходит вокруг машины, чешет в затылке, сокрушенно вздыхает – до чего машину довели, матюгается, а когда спрашивают, что же с ней делать, разводит руками и произносит все то же сакраментальное: «Хрен бы его знал!» А машинешка все надсаднее чихает, кашляет, скрипит железными суставами, все жалобнее стонет, прося о помощи. А мужики продолжают топтаться возле больной и гадать, сколько ей еще осталось.
В одном из этих мужиков Перевалов увидел вдруг себя, и ему стало стыдно. Но тут же подумалось, что, наверное, куда больше стыдиться надо механику, не имеющего понятия, как ремонтировать машину...
Но вот чем иной раз Перевалов других «доставал», так это своей дотошностью, стремлением к исчерпывающей ясности.
Ну, хорошо, соглашался он с парторгом, машину ремонтировать надо. Но надо же знать – как. Чтобы грамотно и толково, а не методом тыка все делать.
– Это рассуждения сухого технаря-прагматика, – парировал парторг, – а общество живет по своим законам, и бывают моменты, когда надо сначала ввязаться в драку, а уж потом...
Перевалов хотел напомнить, что, в результате, стало с великим полководцем-императором, когда он однажды так же вот, на авось, «ввязался в драку», но раздумал. Парторг, наверное, выражал линию партии, а это штука гибкая, и вполне возможно, что завтра она вильнет в противоположную сторону. Пройдет очередная кампания, схлынет волна – и все вернется на круги своя. Будет прежняя жизнь и прежняя работа с очередными в разработке проектами, вечной запаркой со сроками, сверхурочными, производственными неувязками, а дома – жена и дочь с сыном, вырастающие из коротких штанишек, и, чтобы безоблачное их детство плавно перетекало в такие же отрочество, потом юность, надо еще больше вкалывать... Но работы-то Перевалов как раз не боялся. Была бы только она. А в том, что ему, занятому обеспечением обороноспособности страны, человеку, работа всегда найдется, Николай Федорович не сомневался.