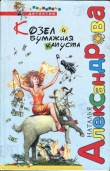Текст книги "Эта гиблая жизнь"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)
В начале тетради почерк был ровный и по-девчоночьи старательный. И девчонка представлялась такой же старательной хорошисткой, все у нее было правильно и как раз о том, о чем пишут в ее возрасте: мама, сестра, школа, каникулы, еще неясные мечтания и, может быть, предощущение иного мира, который вдруг приоткрывался краешком в звездном небе, в яркой майской зелени, в падающих снежинках, и эти отголоски будущих возможных открытий выбивались из общей старательности. А, впрочем, вот и о снежинках:
Ложатся редкие снежинки,
Осенних луж скрывая грязь,
И вот уже на стеклах льдинки
Зима рисует, наклонясь.
Сколько ей тогда было – двенадцать, тринадцать?
Потом пошло такое же старательное подражание, через которое проходил каждый, и почему-то почти всегда у талантливого русского ребенка переплетаются Шекспир и Есенин – разум ссорится с душою...
Однако почерк становился быстрее и вдохновеннее, вот, наконец-то, она влюбилась. И, разумеется, несчастливо.
Правильно сказал Олеша: у истоков каждого творчества стоит неразделенная любовь.
Михнееву вспомнилась его первая настоящая любовь к девушке, которая училась классом старше и была для него чем-то вроде священной тайны, прикосновение к которой так же желанно, как и смертельно опасно. Пока он служил в армии, девушка вышла замуж, а ефрейтор Михнеев написал первые стихи.
Михнеев то опускал тетрадь, вспоминая свое, то снова принимался делать карандашом пометки, и вдруг поймал себя на ощущении, что некоторые строчки ему знакомы.
Впрочем, Михнеев знал, большинство стихов в юношеском возрасте очень похожи и близки по настроению и темам, более того, когда лет восемь назад его приставили от писательской организации к школьному творчеству и три года подряд он был завален детскими тетрадками, ему приходилось встречать практически одинаковые стихи, присланные с разных концов области. Но таланты, разумеется, были. Михнеев очень старался тогда помочь им: выбивал деньги на различные семинары, проталкивал подборки в газетах, таскался по разным литературным местам, подбадривал, настраивал, увлекал, заставлял, и сейчас он мог бы гордиться, что почти в каждой областной газете были, так сказать, и его воспитанники. Но Михнеева это не грело. Наоборот, ему отчего-то становилось неловко, когда он встречал кого-то из своих бывших учеников, словно обманул их.
Об одной истории вообще вспоминать было стыдно, собственно, после нее он и оставил в покое детей. Была там у него любовь, правильнее – страсть, к одной красавице. Она заканчивала школу, писала и в самом деле неплохие стихи, а он настолько ошалел от нее, что таскал с собой везде, где только она могла блеснуть своим талантом. Она и правда блистала, только неизвестно, чем тогда больше восхищались: стихами или ее изумительной красотой? Он даже всерьез подумывал, не жениться ли, но Господь уберег: она закончила школу и канула где-то в пространствах между Питером и Москвой.
А вот уже строчки прямо-таки чуть ли не уставшей женщины:
Как просто все у вас, мужчин,
Вы или грешны, или святы...
Нет, откуда-то он определенно помнил эти строчки. Может, читал это уже где-то опубликованным. И та девушка читала и просто по девичьей простоте вписала понравившиеся стихи в свою тетрадь. Это тоже случается. И часто, между прочим.
Михнеев глубоко вздохнул, словно старый учитель, уставший от одних и тех же шалостей меняющихся из года в год учеников и пролистал несколько страниц. Его вдруг привлек год под одним из стихотворений. Нигде больше дат не было, а тут с точностью до дня было помечено, что стихотворение написано почти шесть лет назад. Он прочитал последнюю строфу, стоящую над датой:
Только нервно сжаты мои коленки,
Разрывая в клочья твои старанья.
Мне казалось раньше любовь – как птица,
А теперь – лишь смачный плевок на стенке.
Это был как раз год его любви («Нет, все же страсти», – поправился Михнеев) к шестнадцатилетней школьнице. Был поздний декабрьский вечер, свет в комнате не включался и, когда они целовались на диване, вдруг заглянула луна, и он ясно увидел эти «нервно сжатые коленки».
«Наваждение какое-то», – отмахнулся Михнеев и оттолкнул тетрадь, в голове же продолжало крутиться: «...плевок на стенке».
«Да не было у нас тогда ничего, – начал неизвестно перед кем оправдываться Михнеев. – Не было. После – было. Да, было. А тогда она встала и засобиралась домой, а я еще пошел ее провожать».
Звали ее Таня. На ней были короткая шубка и полусапожки, а голени оставались неприкрытыми. «И как она не мерзнет?» – думал тогда Михнеев, едва поспевая за ней и скользя по плотно утоптанному снегу. Раз и она, потеряв равновесие, качнулась, но он, идя в полушаге позади, успел подхватить под руку. После этого они пошли медленнее. Он отпустил ее руку, а когда они переходили опустевшую к ночи дорогу, она сама взяла его под руку, неуверенно и все еще страшась чего-то, держалась не за руку, а за рукав пальто чуть повыше локтя. Они перешли улицу и он поправил ее руку. Так и дошли до ее подъезда. У нее были темные глаза и густые почти сходящиеся у переносицы брови. Таня чмокнула его в щеку и убежала в подъезд.
Михнеев придвинул тетрадь, и она послушно раскрылась на тех же самых стихах с датой. На этот раз он посмотрел в начало стихотворения, и еще одна жгучая догадка, да нет, теперь уже не догадка, а точное знание поразило его. В начале стихотворения стояло посвящение, всего две буквы: «В. Л.». Именно такими были его, Михнеева, инициалы. И именно так полностью – Виктор Львович – она звала его, даже после того, как они стали любовниками.
Это случилось в субботу, в середине января, когда уже минули все старые и новые праздники. Они долго гуляли, а на улице было морозно и ветрено, и она снова была в короткой шубке и полусапожках, и ему все казалось, что она мерзнет. Когда же он заглядывал в ее красивое лицо, Таня улыбалась. И все же он чувствовал: что-то дрожало внутри нее. Михнеев сказал, что так они совсем замерзнут, и стал звать к себе домой пить чай, причем он и теперь был уверен, что тогда, в первый момент, и правда подумал о чае.
Таня сказала, что ей нужно позвонить подруге, и отошла к висящему под козырьком автомату. Михнеев, сделав вид, что ему вовсе неинтересно, о чем она будет разговаривать, отошел, но встал с наветренной стороны и, попинывая сугроб, расслышал: «Нет, мама... Скорее, не приду... Останусь у Светы... Холодно... Нет... Да... Скорее всего... Ну пока». И тут Михнеев почувствовал, что и сам начинает дрожать, и что это не холод.
Когда она вернулась от телефона-автомата и, зябко поежившись, попросила проводить ее домой, он не сомневался, что ночевать Таня останется у него.
Они пошли в сторону ее дома, но в первом же ларьке купили бутылку вина «Варна», которого Михнееву больше никогда в жизни не приходилось пить, и повернули к нему.
Он подумал тогда еще, что дрожь, охватившая его, больше похожа на дрожь преступника, когда уже невозможно отступиться от дела. И ее дрожь – тоже дрожь обреченного человека.
Таня задержалась у его открытых дверей и долго посмотрела в глаза Михнеева снизу вверх, словно требуя какой-то клятвы. Он смутился, как-то глупо пошутил и прошел в квартиру первым, следом зашла она.
Его поразили тогда две вещи. Первое: откуда у шестнадцатилетней девочки такое знание любовного искусства. Теперь он понимал, что это не знание, а дар, точно такой же, как дар живописи или дар к литературе, и как в литературе количество графоманов преобладает над числом талантливых людей, так и в любви. Поразили ее чуткость и умение угадывать его желания, он почувствовал, что в желании слиться, стать одной плотью она сильнее его. Но он не знал тогда еще, какой это страшный дар. Второе, поразившее – то, что даже в самые интимные минуты она называла его Виктором Львовичем.
5С этого момента и где-то до середины весны Михнеев испытал чувства, которые, казалось, уже никогда не должны были вернуться, все было, как в юношеские годы: провожание до дома, стояние под окнами с желанием уловить хотя бы силуэт в зашторенных окнах, хотя бы движение самих штор, раз ему удалось увидеть ее голую руку, закрывавшую форточку, и он был счастлив; он испытывал юношеские муки ревности, когда всюду ему мнились соперники и он ужасно страдал, если долго ее не было рядом; особенно терзали его всякие школьные вечера и дискотеки; он начал писать стихи, казавшиеся гениальными; он таскал ее на все окололитературные вечеринки, одновременно боясь, что кто-нибудь уведет ее. В апрельской книжке местного литературного журнала вышла ее подборка стихов.
Как раз в этот месяц и легла тень на их отношения. Ему стало казаться, что Таня начала капризничать, что ее забавляет поддразнивать его ревность, что она стала уделять другим мужчинам больше внимания, чем ему, и тогда он сделал ей предложение, а она в ответ рассмеялась. Она вообще была весьма жизнерадостным ребенком.
А он почувствовал усталость и надвигающуюся пустоту. Карнавал не может длиться вечно, в конце концов улицы пустеют и остаются лишь яркие, как сами воспоминания, конфетные обертки и прочий, уже не трогающий мусор.
Еще была какая-то до сих пор не понятная ему сцена со слезами, с метаниями от него к двери и обратно, когда он первый раз не пошел провожать ее.
Раз она пришла пьяная. Это шокировало, Михнеев даже вообразить не мог, что она может с кем-то пить. Ну с ним, вроде, ладно, но без него! Он холодно взял ее под руку и чуть не силком потащил домой, в какой-то момент ему, правда, показалось, что не так уж она и пьяна, но чувство гадливости, какое часто бывает у трезвого человека при виде пьяного, пересилило.
И все же они еще продолжали, хотя и реже, встречаться, но это были лишь отблески тех, первых встреч. Всякий раз он вяло напоминал ей, что не отказывается от своего предложения, она же больше не смеялась, а хмурилась и встряхивала головой, словно отгоняла муху.
В мае она сказала, что хочет поступать в Московский литературный институт. Он уговаривал ее не уезжать или хотя бы поступить на заочный, а сам тем временем подготовил все необходимые документы.
После того, как она уехала, он с неделю помыкался в тоске, а после с ощущением некоторого предательства, но все же с облегчением вздохнул.
Летом Михнеев блаженно отдыхал, словно свалил большое дело, – написал повесть или роман. Осенью все же через знакомых справился, учится ли такая-то в литинституте. Оказалось, что она даже не подавала документы. Это несколько озадачило Михнеева, но он почему-то не сомневался тогда, что Таня обязательно появится в его жизни. Сам же сел писать повесть, по-голливудски пошловато названную «Виктор и Виктория». А закончив черновик повести, охладел к ней и забросил...
6«Вот оно значит, как вернулось», – подумал Михнеев и с мазохистской неспешностью взялся за тетрадь. Это было все равно, что заставлять себя читать подробный отчет о проигранном накануне футбольном матче.
Яблоко с древа познания было съедено.
Дальше в стихах пошел какой-то сумбур, смешение, расхлябанность, и до Михнеева дошло, что яблоко было съедено не тогда, в субботнюю январскую ночь, а когда он втащил Таню в общество писателей, художников, актеров.
Он уже предчувствовал, что по всем литературным законам концовка в этой тетради будет трагичной, и здравый смысл подсказывал отложить, не бередить, не ворошить прошлое, но упрямо продолжал листать чужую жизнь, словно еще надеялся найти себе хоть какое-то оправдание. Но то, что он читал, вызывало лишь только новые приступы боли.
Теперь ее чувствами уже всецело правили «зеленые кошки», пошли «об пол разбитые коленки и поцелуйчики взасос», «под утро вялый отходняк и вновь по кругу сигарета» и совсем уж резануло окончание одного стихотворения:
...гадок и сладок внебрачный интим.
И все же за этими разухабистыми строчками читалась страшная тоска по чему-то безвозвратно утраченному. Так порою душа тоскует по Богу, даже не осознавая, что именно природа этой тоски Божественна, и оттого, что силится и не может понять душа, какая утрата гнетет ее, тоска наваливается все сильнее и давит, давит, давит...
В узелок завязаны ресницы,
Ночь до оглушенности проста,
Только слышно: из-под половицы
Выползает тихо пустота.
Михнеев и желал, и боялся встретить еще раз посвящение, но он встречал строчки, в которых, без сомнения, находил обращение к себе:
Мои слова летят вдогонку,
Но только где ты? Нем и глух.
Привычно хлещешь самогонку
И развлекаешь местных шлюх.
Или еще было стихотворение «надменным учителям», которым, кажется, что они «знают все и потому имеют право учить», но они не могут знать «устройства души» и потому губят души тех, к которым прикасаются «своим надменным словом».
«А ведь я действительно толком и не знал ее», – мелькнуло в голове у Михнеева. Дальше пошло уж совсем мрачно: «все в этой жизни подвергается гниенью», «мусоропровод разбитых надежд» и страшное пророчество перед отъездом: «тело мое обнаружат в Неве».
«Почему Нева? – удивился Виктор Львович, – она же собиралась в Москву? Может, поэтому я не нашел ее? Да искал ли...»
Вот оно – у Михнеева холодно заныло под сердцем:
В голове сплошной бардак
И не светят перемены.
Я – плохая, ты – дурак.
Вот и все. Вскрываю вены.
На словах «жизнь перечеркнута красным крестом» Михнеев не выдержал и отложил тетрадь.
Пролежав некоторое время без движения, он все же заглянул на последнюю страницу – она была девственно чиста. Он стал отлистывать назад чистые страницы, но последнее стихотворение, грустно-ностальгическое и доброе, не только не успокоило, но добило его:
Я и сегодня вспоминаю Вас
И те места, где мы бывали с Вами...
Вы на обложке книжной – гордый фас,
Я – вам ненужный сборник со стихами.
«Выжила», – подумал он, но стало нестерпимо больно и жалко самого себя. «Не хватало заплакать», – опять коротко подумалось, но Михнеев не заплакал, а поднялся с кровати, поставил на кухне чай и, прижавшись лбом к холодному стеклу, долго смотрел в заоконную тьму, пока не зашипел на плите чайник.
Он пил чай, а за окном медленно наползал рассвет, будто солнцу надоело смотреть на людские страстишки, и только ради нескольких праведников оно еще не бросало свою скучную работу.
«Надо что-то делать», – наконец решил Виктор Львович и тут же вспомнил о девушке, принесшей тетрадь.
«Ну, я ей устрою». – Все случившееся за ночь он почему-то обернул против нее и теперь с нетерпением ждал времени, когда пора будет идти в Союз писателей.
7В Союз он пришел первым, сразу отсел в угол большой комнаты, взял вчерашнюю газету и попробовал читать. Народ, собиравшийся в Союзе писателей, был опытен и мудр, потому, войдя и поздоровавшись с Михнеевым и сразу почувствовав его взвинченность, никто к нему с расспросами не лез, прошедший в пятницу вечер обсуждали приглушенно, как при больном человеке, а когда Михнеев вдруг резко вскочил и, туго сворачивая в трубочку газету, с каким-то непонятным и неприемлемым вызовом предложил: «Ну что, сбегать, что ли?», – его ласково усадили на место: «Отдыхай, дорогой, пошли уже...» Михнеев вернулся в свой угол и развернул мятую газету.
Девушка появилась около часа. Михнеев быстро подскочил, победно рванулся, но потом не спеша поправил задетый стул и, постукивая ребром тетради о ладошку, подошел к девушке и, не задерживаясь на ней взглядом, произнес:
– Пойдемте.
Девушка тоже не стала здороваться и пошла следом по коридору.
Михнеев заглянул в одну из комнат и обратился к средних лет даме:
– Галина Георгиевна, можно мне поговорить с человеком?
– Да-да, – отозвалась Галина Георгиевна и, прибрав со стола бумаги, поднялась и, выходя, внимательно, словно соперницу, осмотрела девушку.
– Проходите, – сказал Виктор и пропустил девушку в открытую дверь.
Она прошла и села на стоявший возле стола стул и положила ногу на ногу, у Михнеева еще мелькнула мысль, что она старше первого курса.
И тут он допустил первую ошибку: он не стал садиться рядом на соседний стул, а, обойдя стол, сел на место Галины Георгиевны. Затем он ошибся еще раз, положив серую тетрадь на стол, и она получилась как бы разделяющим их буйком.
В комнате повисла пограничная тишина, звонкая и настороженная.
– Ну, – начал переговоры Михнеев, – а где же автор?
– Что? – переспросила девушка и подняла на Михнеева удивленно-строгие глаза, а Михнеев опять подумал, что она все-таки старше первого курса.
– Очень хотелось бы побеседовать с автором этих стихов, – не изменив ядовитого тона, повторил Михнеев.
– Эти стихи написала я, – тихо, но четко разделяя каждое слово, произнесла девушка.
– Вы?
– Я.
И тут он совершил последнюю ошибку: он откинулся на удобном кресле Галины Георгиевны и тоном следователя, которому уже надоели отпирательства мелкого воришки, предложил:
– Ну хорошо, тогда продолжите мне строчку: «Я думала, любовь как птица, а оказалось...» – Он сделал паузу: – Ну, что же вы?
И тут девушка одним движением схватила со стола тетрадку и выскочила из комнаты. Произошло это настолько стремительно, что Михнеев поначалу даже не услышал, как за ней захлопнулась дверь и только чуть позже, как звук грома после молнии, до него дошел тугой хлопок.
И странно, все нервное напряжение сегодняшнего утра пропало. Михнеев поднялся, осмотрел комнату, словно припоминая, зачем он здесь, пожал плечами и вышел. Найдя в соседней комнате Галину Георгиевну, сказал:
– Я – все.
– Все? – удивилась Галина Георгиевна.
Виктор Львович кивнул, вернулся в большую комнату, сам налил и легко выпил полстакана водки.
8Проснулся он ночью от щемящего чувства беды или неотвратимости наказания. Он долго лежал, вслушиваясь в ночные звуки, словно и правда за ним должны были прийти, но ничего, кроме ширканья по проспекту редких машин, не слышал. Наконец Михнеев решил, что должен обязательно разыскать Таню. Он еще не понял, зачем, но все равно успокоился и стал забываться какой-то невнятной нелепицей: слышался стук колес, текла из крана вода и разливалась в море, зачем-то появился один из забытых студенческих приятелей, они куда-то шли вдоль моря, увязая в песке, а идти не хотелось, было жарко и хотелось пить...
Очнулся Михнеев от телефонного звонка: нужно было ехать на телевидение и что-то переписать в подтекстовке к сданному две недели назад телефильму. Разумеется, срочно. Ничего серьезного в общем-то не оказалось, но на телевидении он проболтался целый день и от царящей там суеты и постоянной спешки с вечными криками неимоверно устал. Дома ему вспомнился утренний жар и желание пить, он померил температуру, но она оказалась нормальной. На всякий случай Михнеев все же выпил шипучего аспирина и лег спать.
Однако сон опять был рваным и тревожным, Виктор часто просыпался и подолгу соображал, что на самом деле с ним происходит. Поднялся совершенно разбитым, снова померил температуру, но она опять оказалась издевательски нормальной, Тогда Михнеев оделся и пошел к дому, где, помнилось, жила Таня.
На улице было пакостно. Будто природа, как недовольный картиной художник, тщательно смывала остатки летних пейзажей. Все было в лужах, грязи, проезжие машины брызгались, встречные люди толкались и все были недовольны.
На удивление Михнеев легко и быстро нашел дом, где жила Таня. Он даже и не искал его, а просто вышел известным маршрутом, как птицы возвращаются домой на север. И ничто не изменилось в Танином дворе, разве что появился торгующий всякой снедью киоск, но и он, приунывший под дождем, казалось, стоит здесь с сотворения мира.
Михнеев увидел знакомое, только, показалось, с другими шторами, окно, на всякий случай еще раз вычислил квартиру и стал подниматься на третий этаж. Даже дверь нисколько не изменилась за шесть лет, та же пупырчатая пенопленовая обивка. Михнеев коротко выдохнул, словно сбрасывал мешающее, и позвонил.
За дверью послышались легкие шаги и молодой женский голос спросил:
– Кто?
Михнеев заволновался, и слова вышли хрипловатыми и какими-то простуженными:
– Мне бы Таню.
Зашурыкали замки, дверь распахнулась и Михнеев увидел ее.
Он не знал, когда шел сюда, к чему готовиться, да и вообще не было у него никакого четкого плана, но такой концовки своих ночных переживаний он не ожидал никак. Все, что угодно, могло представиться ему, но не такая сильно подурневшая да еще и беременная женщина. Сразу вспомнился нашумевший некогда роман, и Михнеев ухмыльнулся тому, как комично и по-литературному пошло обернула жизнь его ночные страдания.
– Что вы хотели? – не выдержала молчания молодая женщина, и тут до Михнеева дошло, что это вовсе не Таня.
Теперь Михнеев устало улыбнулся и, отерев капельки пота со лба, спросил:
– Простите, тут раньше жили Луговские...
– Ой! – облегченно выдохнула женщина и даже подалась вперед, упершись рукою в открытую дверь. – А они уж давно не живут здесь.
– Жаль, жаль... – повздыхал Михнеев, словно он привез от однополчанина с дальнего фронта известия, а родственников не оказалось дома. – А вы не знаете, куда они могли переехать?
– Нет, что вы, они уже лет пять, как съехали.
– Жаль, – снова погрустил Михнеев, но роль исполнил до конца: – А может, кто-нибудь из соседей знает?
– Не знаю, спросите... Вот внизу баба Нина живет, она старшая по подъезду, она, может...
– Спасибо, – поблагодарил Михнеев, – извините за беспокойство, – и, все еще не снимая вежливой полуулыбки, стал спускаться вниз. Когда он прошел лестничный пролет, женщина крикнула:
– Или еще в сорок пятой спросите.
Михнеев обернулся, еще раз благодарно кивнул ей, дождался, пока закроется дверь, и почти бегом, минуя и сорок пятую, и сорок вторую, сбежал вниз.
Он беспечно, словно отдыхающий на курорте, прокрутился по мокнущему городу, купил зачем-то в сувенирной лавке колокольчик, его уверили, что он с самого Валдая, звон у колокольчика и правда был чудесный и долго держался в воздухе, наполняя все тело тихой радостью и истомой – и Михнеев купил; еще в канцелярском магазине приобрел простенькую точилку для карандашей; а в магазине часов – симпатичный будильник с усиками вместо стрелок.
Вечером заломило во всем теле, и Михнеев, скорее по инерции, снова взялся мерить температуру, и термометр опять удивил: теперь он показывал тридцать семь и шесть.
К ночи стало совсем плохо, температура перевалила за тридцать восемь, начали слезиться глаза, сильно ломило голову и каждый чих или кашель отдавался в голове так, что рябило в глазах, как после хорошего боксерского удара. Тело и в самом деле трясло, но не как при обыкновенной простуде, а будто напала настоящая тропическая лихорадка и уже, когда он завалился, зарывшись под пару одеял, в постель, вдобавок ко всему заболел живот, причем с животом совсем было неясно, так как ничего необычного Михнеев в последние дни не ел. Боль же продолжала нарастать, скоро заставила забыть о голове и об остальных болячках, словно клубок утыканных иглами червей катался в его чреве и, не переставая, грыз нутро. Михнеев, как бесноватый, кидался по кровати, скрежетал зубами, червь на время замирал, приноравливался к новому его положению и продолжал изнурять тело.
«Господи, Господи, – не вытерпел Виктор, – за что ты меня так?» – и заплакал. И какой-то иной голос, но тоже откуда-то изнутри, отозвался: «Поздно теперь, поздно, душ-то сколько погублено...» «Я же добра хотел», – взмолился Виктор. «Как же ты мог дать добро, когда сам в душе мира не имеешь».
У него уже не было сил метаться, и он, по-утробному сжавшись в комок, тихо скулил. В этом положении клубок червей не грыз, а только шевелился, и его иглы продолжали больно ранить.
«Неужели в аду хуже? – пронеслось в голове и дальше как-то само собой пришло: – А ведь я в ад попаду».
И после того, как он понял это, червяк замер, словно ожидая, что он подумает дальше.
А дальше Виктор подумал, что непременно умрет.
И совсем простая вещь открылась ему:
«Помру вот сейчас, и помолиться некому обо мне будет. Вот для чего детишки-то нужны были...»
А ведь могли быть детишки, могли... А как хорошо и просто можно было бы жить: любить детей, жену, всех и все любить. Какой бес вдолбил ему в башку, что его место в литературе? Славы хотелось, поклонения, учить всех – а чему учить-то? Только разврату и мог учить. Вот теперь и будут грызть черви.
«Поделом, значит», – решил Виктор и приготовился терпеть дальше, но червь притих.
И тогда, улучив эту паузу в муках, он взмолился: «Господи, прости меня грешного! Разбойника, исповедовавшего Тебя, на кресте простил, за блудницу заступился, слепого пожалел. Хуже я, много хуже и злее их, но, если хочешь, верни паршивую овцу в стадо Твое. Помилуй, Господи!» И он стал вспоминать все известные Евангельские случаи милости Божьей.
И опять тот, другой голос изнутри произнес: «Ведь знал же все, знал, а творил. Благо, не знал бы. Горе тебе, человек, горе».
Но Виктор уже не переставал молиться, как вдруг ему показалось, что червь оставил ею. Он, еще опасаясь, тихонько расправил ноги, в животе чувствовалась тяжесть, но что-то рассасывалось и таяло.
«Слава Тебе, Господи!» – прошептал Виктор, и горячий пот прошиб все тело.
Пот был так силен и обилен, что разом намокло все вокруг и можно было подумать, что Виктор находится в бане, но он не шевелился и только продолжал благодарить Бога за исцеление, пока под утро сон не сморил его.
Проснувшись к обеду, Виктор почувствовал, что почти здоров, и лишь легкое недомогание еще слегка разливалось по телу, температура же оказалась детской – тридцать семь и три.
Он попил чаю и стал потихоньку прибираться в квартире. Когда Виктор менял белье, заметил телефон и удивился, что тот ни разу за все время болезни не зазвонил. Он даже проверил, не отключен ли звонок, проверил шнур, поднял трубку – но все работало. Виктору подумалось было ради интереса просто позвонить кому-нибудь, но так вдруг не захотелось, даже через телефон, касаться мира, что он бережно, словно мину, вернул трубку на место, подумал и все же отщелкнул звонок, а вслух над онемевшим аппаратом произнес:
– Ибо сказано: не искушай Господа своего.
Потом он еще попил чаю с медом, отыскал на полках Евангелие и лег выздоравливать.