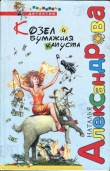Текст книги "Эта гиблая жизнь"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)
Как хороша и полезна бывает легкая температура! С чистой совестью можно выключиться из общей круговерти, лежать на диване и жалеть себя. Да и когда человеку можно побыть одному, как не во время болезни. Не под шум Нового года человеку проверять сделанное, а в больничном покое, когда в немощи, когда страсти и земные привязанности отпадают. Люди, которые не болеют, да еще и хвастаются этим – глупые люди. Сколько надо болезни, столько пусть и идет. Для всего есть свой срок. Вот и Виктор через пару дней чувствовал себя здоровым, ночь он спал отлично, крепко и без сновидений, а утром в субботу встал бодрым и свежим, и странно даже было вспомнить, будто и не с ним это было, что третьего дня собирался помирать.
Первым делом Виктор вымыл дома полы. Потом отправился в магазин.
Погода за болезные дни изменилась: проплакавшись, небо и все вокруг омылось и успокоилось, было тепло, светило солнце и мир поприветствовал выздоровление Виктора легким касанием паутинки.
«Хорошо», – подумалось Виктору.
Кроме хлеба, ничего покупать не стал, а, вернувшись, из того, что оставалось в холодильнике, сварил супчик, набросав туда всего, что брала рука, и супчик получился на удивление хорошим. Поев, Виктор снова подумал, что кругом хорошо, и даже решил оживить телефон.
И надо же, как только щелкнул выключателем, тот сразу истерически заверещал. Причем звук прорвался так резко и сразу, что Виктор, уже отвыкший от этого, одернул руку. Но тут же улыбнулся и поднял трубку.
– Алле-у, – нараспев и басом произнес он. – Нет, вы ошиблись, – положил трубку и с той же веселой улыбкой стал собирать небольшую дорожную сумку. Через сорок минут он был на железнодорожном вокзале, где купил билет на ближайший поезд.
Все складывалось замечательно в этот день. И попутчики в купе попались замечательные: пара молодоженов, две недели назад расписавшаяся и отправившаяся теперь в свадебное путешествие. Звали их Коля и Наташа.
Они весело, перебивая друг друга, рассказывали, как познакомились год назад; Наташа работала парикмахером, а Коля шоферил («тогда на „бычке“ мотался») и зашел в парикмахерскую постричься, и как он фазу увидел ее и пропустил очередь, чтобы попасть именно к ней, она же («сама не знаю, почему») разволновалась и, когда стригла вторую половину головы, задела кончик уха («так и стриганула с кровью» – «да ладно, чуть всего и коснулась»), он вскочил, наорал на нее, выбежал на улицу, впрыгнул в свой «бычок» и укатил, только прежде еще успел заметить, как молоденькая парикмахерша выбежала за ним, что-то кричала и чуть не плакала («я и убежал-то со страху» – «с какого страху» – «представил, что жениться придется»; «а я и правда плакала» – «из-за уха, что ли?» – «из-за тебя, дурачок, думала, что больше не приедешь, а я даже номер не успела запомнить»), и как неделю работала без выходных, все ждала, что он заедет, а он и правда заехал и попросил достричь его («а то, мол, перед людьми неудобно» – «и все извинялся, что нашумел тогда»), как они в тот же вечер пообещали через год пожениться и как целый год они только целовались, хотя обоим сильно хотелось («так чего ж ты молчала» – «а ты не спрашивал»), и вот теперь они едут в свадебное путешествие по Золотому Кольцу.
– А почему по Золотому Кольцу? – спросил Виктор.
– Не знаем. Так захотелось.
Счастье переполняло их и, казалось, что они даже немного стесняются, что у них его так много, и им очень хочется, чтобы и другие люди вокруг тоже были счастливы и, правда, все рядом с ними тоже начинало светлеть и радоваться. Заулыбался и еще один попутчик – поначалу хмурый и всем недовольный командированный – и после они, сговорившись на пару, принесли из ресторана шампанское и весь вечер кричали «горько!», а командированный даже пытался сплясать. А Коля и Наташа все звали с собой по Золотому Кольцу, им так хотелось рассказывать всем, что счастье – это так просто.
И тут Виктор поймал себя на мысли, что и у него обязательно будет такое земное счастье, и он тоже непременно будет делиться им со всем миром, и у него тоже обязательно (Коля и Наташа заспорили, какие у них будут дети: Наташа утверждала, что мальчик и две девочки, а Коля – девочка и два мальчика, в конце концов решили, что первым непременно будет мальчик, потом девочка, а дальше, как получится) будут дети.
Командированному выходить надо было раньше, и он все охал, что может проспать.
– У меня есть будильник, – вдруг вспомнил Виктор. – Я его тебе подарю. Командированный удивленно посмотрел на него и пошел еще раз на всякий случай напомнить проводнице.
– А вам я подарю колокольчик. – Виктор достал из сумки купленный недавно колокольчик, и чудный звон наполнил поезд.
– Какая прелесть! – воскликнула Наташа и, взяв колокольчик в руки, позвонила еще раз.
– Он отгоняет злых духов, – сказал Виктор.
– И вам не жалко? Нет.
– Нисколечко?
– У меня еще есть, – соврал Виктор.
– Спасибо, – и Наташа, перегнувшись через купейный столик, чмокнула Виктора в щеку. А Коля сказал:
– А знаете что, поедемте с нами по Кольцу.
– Ой, правда! Как я это я сама не догадалась, какой ты у меня умненький, – Наташа чмокнула и Колю. – Поедемте!
Виктор отнекивался, но ему и в самом деле не хотелось расставаться с этими славными людьми. Пришел командированный и полез на верхнюю полку.
– Поедемте, – попросила Наташа, ей тоже очень хотелось что-нибудь подарить, но чем они могли поделиться, кроме того счастья, которое было вокруг них, и спать легли только после того, как Виктор дал «честное-пречестное» слово («Как дети», – подумал он, хотя Коле было двадцать пять, Наташа была немного моложе), что завтра утром он вместе с ними выйдет во Владимире.
Утром рано-рано пришла проводница и стала толкать командированного, тот, поворчав, слез опять с недовольным видом, сходил умылся и стал собираться. Поезд начал притормаживать.
– Какой город? – спросил Виктор.
– Муром, – хмуро ответил командированный и вдруг, посмотрев на Виктора, широко улыбнулся, сказал: – Счастливо, – и вышел.
Наступила тишина, какая бывает только ранним утром в поездах на небольших остановках, с каким-то отдаленным, словно из другого мира, хлопаньем дверей, приглушенными разговорами, невнятным бормотанием и храпом.
Виктор вдруг вскочил, мигом, как в армии, оделся, подхватил сумку и бросился к выходу и, когда поезд, лязгнув всей своей массой, потихоньку стронулся, выбежал на подножку, отстранил полусонную проводницу и выскочил из вагона.
Его обволокла белая пелена тумана. И представилось, что некое иное бытие ожидает за этой пеленой, сквозь которую слабо пробивались только что такие знакомые и обычные предметы; набирая ход, словно большое доисторическое чудище, прошел поезд; что-то звякнуло справа, впереди послышался глухой деревянный удар и упругое, как теннисные мячи, раскатилось по земле и звонкий голос произнес: «От епсель-мопсель»; откуда-то издалека донесся мерный звук колокола, который казалось понемногу разгонял туман; проступило красноватое здание вокзала, стал виден мужик, присевший у перевернутой тележки, пробежала собака, проплыла большая ветвь дерева, совсем рядом возник и исчез человек; и, словно начало будущей жизни, по-набатному ширился и креп звук колокола...
Роман, который мне приснился (повесть)
Более всего я люблю утренние сны. Ночь тает, становясь вязкой и податливой, и все – краски, образы, звуки, – теряя очертания, растворяются друг в друге. И я тоже замешан в этом бредовом коктейле, где не я, а кто-то другой наблюдает за происходящим, и тот – во сне – живет своей отдельной жизнью, встречаясь с умершими родителями, попадая с только что придуманными типами в различные передряги и обсуждая с приятелями дочитанную вчера книгу. Я блуждаю по размытой кромке сна и начинаю путать, что большая реальность: мир или мой сон, в котором переплетается живое, мертвое и вовсе никогда не существовавшее.
Последнее, что доносится до моего сознания, это электрическое подвывание первого троллейбуса, который пустой консервной банкой, привязанной к проводам, протаскивается под окнами. Я еще представляю, как начинает оживать дом: треск соседских будильников, урчание водопроводных кранов, зубная паста, зевота, кофе... Но я уже не участвую в этом...
Просыпаюсь я поздно, около одиннадцати. Некоторое время лежу, отделяя сон от яви, начинаю различать ширканье машин, невнятный стук с отдаленной стройки, тявканье соседской собаки. Я открываю глаза и первым делом, вытягивая руку, щелкаю переключателем телефона и восстанавливаю связь с внешним миром. На этот раз – я еще не успел убрать от аппарата руку – телефон сразу зазвонил. Я поднял трубку.
Звонила секретарша Союза писателей, старенькая женщина, с тихим голосом и такой же, едва заметной жизнью. (Когда у ней не было работы – а это случалось часто – она читала Псалтырь, который старалась прикрыть, если в ее отгороженный уголок заглядывали неожиданно, но это не всегда удавалось, и можно было заметить крупный шрифт Псалтыри, каким обычно печатают детские книжки.)
– Разве вы не знаете? – мне сообщалось, что все начнется в двенадцать, а я не знал что именно. – Шадрин умер, в двенадцать вынос.
– Шадрин?!
– Да. Как же вы не знали...
Я положил трубку и, поднявшись, стал одеваться. Димка Шадрин. Весельчак, балагур, общий любимец. Димка Шадрин! Он был чуть старше меня. Года на два, на три. Значит, ему было около тридцати пяти... Господи, какая нелепица!
Я вышел из дому. На улице было мерзко. С погодой вообще последнее время творится невесть что – сейчас, в конце ноября, голо, сухо и страшно тоскливо. Снега нет, и только с тупым постоянством, без затиший и перерывов, словно где-то забыли выключить какой-то механизм, дует холодный восточный ветер. Впрочем, всем давно наплевать на этот мир. Снег ли там, дождь ли, ветер – значения не имеет... Когда я вошел в скверик, земля смотрела на меня дряхлым лицом изработавшейся женщины. Деревья стояли коряво и мертво, невозможно было представить, что через полгода все это может ожить.
Я вышел из скверика и снова наткнулся на ветер.
Димка Шадрин!
Резко взвизгнуло рядом, так что передернуло и пробежали противные мурашки. Водитель «Жигулей» покрутил пальцем у виска. Я, извиняясь, развел руками. «Жигули» уехали. Подумалось: вот, мне еще не хватало следом за Димкой, и долго стоял перед дорогой, ожидая пока она расступится, как воды перед Моисеем.
Перед самым домом, где размещался Союз писателей я нагнал старика Н. в поношенном плаще военного покроя и цвета, голову его облегала, как старый размокший блин, серая кепка, из-под которой торчали красные замерзшие уши. Некогда Н. считался ведущим критиком, сейчас – со спины – он выглядел жалко и скомканно, как выброшенный в корзину листок бумаги. Н. вытянул из плаща руку, мы поздоровались. Рука его была холодная и вялая.
– Вот так вот... – произнес он, и квартал мы прошли вместе, не проронив ни слова.
Н. двигался медленно, и у самого дома нас нагнал прозаик Т., и Н. снова вынул из плаща руку, поздоровался и сказал:
– Вот так вот...
– Да... – отозвался в той же интонации Т. и протянул руку мне: – Привет, давно тебя не видел. Как роман?
– Пишется...
– Вот так вот... – вздохнул Н., и мы вошли в помещение.
Собравшийся народ по кучкам толпился в фойе вокруг большого полированного стола, списанного некогда из обкомовских апартаментов. За этим столом устраивались писательские пирушки по поводу выхода книги, дня рождения, а чаще без повода вовсе – и тогда из-под лестницы доставался бильярд, снедь и бутылки перемещались на подоконник или на пол... Теперь же стол, за которым виднелась пара дешевых бумажных венков, ожидал Шадрина. Я, здороваясь, обошел всех и остановился с поэтами С. и М. Голос успевшего выпить С. звучал громко и развязано. М. молчал и теребил аккуратную бородку. Я спросил о Шадрине. С. замолчал и отвернулся. М. дернул себя за бородку, словно это был некий ритуальный жест, отворяющий его уста, и выронил слово:
– Сердце.
С. повернулся и зло почти выкрикнул:
– Да похмелиться не дали! – и отвернулся снова.
М. снова дернул себя за бородку.
– Говорят, его нашли на вокзале...
– На вокзале? Каком вокзале?!
– Да я и сам толком не знаю. Говорят, он последнее время бом-жевал.
Это меня ошарашило. У меня никак не соединялся веселый образ гуляки Димки Шадрина с бомжами, ошивающимися возле пивных и вокзалов.
– Говорят, его нашли на вокзале в Родинском... – досказал M.
– В Родинском? – я совершенно ничего не понимал. Родинское – районный центр, сто верст отсюда, туда он как попал? М. молчал. С. снова повернулся и прохрипел:
– А чего ты хочешь? Мало того, что на нас всем наплевать, так теперь нам самим на себя наплевать... Ты давно его видел?
– С год, – припомнил я и ужаснулся: неужели год прошел?! – Вот так вот...
Это вздохнул рядом подошедший Н. Старик тоже успел выпить, и любимая фраза его звучала несколько патетически.
Дымное облако под потолком качнулось, слишком резко распахнувшаяся дверь осталась открытой. Все разом стихли и повернули голову к проему, откуда слышались возня и пыхтение, потом показался чей-то оттопыренный зад. Это критик К., обхватив снизу и прижимая к животу, вносил край гроба. Стоявшие рядом бросились помогать и на какое-то время все смешалось и спуталось. Наконец гроб установили на стол и тут, когда толкотня улеглась, наступило оцепенение, причем наступило оно не сразу и везде, а шло волной от стоящих непосредственно у гроба к тем, кто стоял дальше, словно передавался какой-то страшный предмет, и тот, кто на секунду касался его, не различив и не узнав, но ощутив весь его мистический ужас, тут же передавал дальше. И вдруг кто-то охнул:
– Это не он!
Люди зашевелились, змейкой пополз шепоток, но все оживление разом перекрыл усталый голос поэта К.:
– Он это...
И все опять оцепенело.
Димку действительно невозможно было узнать. Все помнили его высоким щеголеватым красавцем, с очаровательной, чуть виноватой, но изумительно доброй улыбкой. Сейчас вид его был не только неузнаваем, но и откровенно омерзителен. Лицо стало худым, и смерть, заострив черты, придала ему страшное, демоническое выражение. Некогда пышные густые с рыжинкой волосы теперь свалялись шапкой и были темны, словно их измазали коричневым сапожным кремом. И еще эта новая для всех нас борода – козлиная, редкая, тоже вся свалявшаяся и казавшаяся приклеенной специально. Но всего отвратительней была кожа – словно серый асфальт. В воздухе быстро распространился тошнотворный запах... Я не выдержал и отвернулся.
Неожиданно позади себя я увидел Тишкина, появления которого сначала не заметил, вероятно, он проскользнул в сутолоке, когда заносили гроб, но меня удивило не столько само появление Тишкина, сколько то, что на его вечно виноватом лице лежала тень некоего тайного знания, словно у новообращенного иезуита. Мне вдруг показалось, что он подмигнул мне. Я кивнул и отвернулся. Мысли мои отвлеклись – с этим Тишкиным меня связывал один эпизод, которого я не то чтобы боялся или стыдился, но, вспоминая всякий раз испытывал чувство брезгливости.
Года два назад мне дали на рецензию небольшую рукопись, состоявшую из отдельных скорее наблюдений, нежели рассказов. Наблюдения порой были действительно любопытны, но не более того, в лучшем случае преобладали газетные штампы, в худшем – обрывки сочинения шестиклассника «Как я провел лето». Убив на эту галиматью вечер, я плюнул и занялся своими делами, но деньги все-таки были нужны, и на следующий день я изложил на трех страницах все, что думаю об авторе, отнес в Союз рецензию и получил гонорар. А через месяц в моей квартире раздался робкий звонок, даже не звонок, а звоночек. Я как раз собирался после обеда вздремнуть. Открыл – на пороге какой-то сжавшийся человечек с виноватым лицом и извиняющейся улыбкой. На вид ему было под сорок, и жизнь, видно, не то, чтобы не радовала, а просто забыла о его существовании, и за это он ее недолюбливал.
– Я – Тишкин, – сказал человечек, и голос у него оказался как ржавый гвоздь на старой стене.
– Чем могу быть полезен?
Он помялся. Мы все еще стояли по разные стороны порога.
– Видите ли, вы писали рецензию на мою книгу...
– Книгу? – удивился я, пытаясь вспомнить, что я мог последнее время рецензировать из книг.
– Да, она называлась «Полевая страда».
– Почему не «луговая»?
– Нет, «полевая», там были небольшие рассказы...
– А-а, вспомнил, – я даже немного обрадовался, что вспомнил. – Проходите.
Когда он вошел, я сообразил, что радоваться, собственно, нечему.
– Так вы о рукописи? – Нуда, о книге.
Я промолчал.
– Видите ли, вы написали такую рецензию... Нет-нет, там, конечно, много справедливого, спасибо вам большое... Но, знаете ли, с вашей рецензией... Понимаете, мне в нашей районной администрации согласны дать деньги на издание книги и просили привезти рецензию из Союза писателей... Вот... А теперь как я ее им покажу?
Я продолжал молчать. Он выдохнул и снова с паузами продолжил:
– Видите ли, мне скоро сорок лет... я бы хотел... все-таки что-то в жизни оставить... какой-то след... Я эту книгу всю жизнь писал, собирал... там все-все правда, я ничего не выдумывал... и вот... знаете ли... – он вытер пот со лба и вдруг ловко извлек из коричневого потертого портфельчика бутылку водки и протянул ее мне. – Вот... это... вы не могли бы переписать... или подправить... чуть-чуть...
Я человек слабый... Смелым я могу быть только на бумаге, в жизни же видеть чьи-то мучения для меня невыносимо. Ситуация оказалась настолько неприятной и противной, что хотелось как можно быстрее, любыми путями избавиться от нее.
– Вы из какого города?
– Из Родинского.
Ну и пусть в родинской глухомани выйдет книга этого Тишкина, ну дает администрация деньги, какое мне дело, пусть родинцы радуются.
– Вы зайдите минут через сорок.
– Хорошо. Да. Спасибо! А это куда? – он все еще стоял с бутылкой в руке.
– Давайте в морозилку.
Он уходил, когда я вдогонку крикнул:
– Бесцельно по городу не бродите – купите закуски.
Я быстренько отстучал на машинке, что провинция – это живой ключ, и что нужно приветствовать появляющиеся там таланты, которые, как ключ – тьфу, про ключ уже было (как гаечный ключ?) – пришлось один лист поменять, потом что-то про самобытность, про зоркий взгляд, и, несмотря на то, что автору не хватает пока должного мастерства, но можно надеяться, что он себя еще проявит во всей красе. Тьфу! И спасибо родинской администрации, что она так бездумно тратит деньги... Три раза «тьфу»!
Ровно через сорок минут он вернулся. Разговоры с Тишкиным о литературе меня никак не устраивали, я придумал, что мне нужно быть там-то и там-то, мы быстро распили поллитровку и расстались взаимно довольные – Тишкин рецензией, я – тем, что он ушел.
Через полгода он прислал мне экземпляр вышедшей книги.
К трупу стали привыкать. Кто, как и я, отвлекся мыслями, кто о чем-то перешептывался. Предлагали не ждать запланированного времени и ехать на кладбище немедленно. Все, кто его знал, собрались, а родственников у Шадрина не было.
Снова открылась дверь... И все опять замерли – вошла высокая женщина в черных плаще и платке, она была бледна, в руках держала красные цветы. Ее слегка вытянутое лицо вряд ли кто назвал бы прекрасным – курносый нос, тонкие губы – но глаза!.. Описывать такие глаза бесполезно: каждый расскажет о них по-своему, но о несомненном волшебстве, мерцающем в глубине, упомянут наверняка все. Стоявшие в холле невольно расступились. Женщина, ни на кого не глядя, подошла к гробу, положила цветы и, выпрямившись, несколько секунд стояла, потом едва видимая судорога передернула ее, она быстро оглядела собравшихся, затем так же быстро сняла перчатки, нагнулась и поцеловала Димку. Потом, снова ни на кого не глядя, молча вышла. Однако выходила она уже не твердо, ее слегка покачивало. Никто не предложил ей помощь, никто не распахнул предупредительно дверь – все стояли, освобождая дорогу.
– Это она, – прошелестело под ухом.
Я оглянулся и мне снова показалось, что Тишкин подмигивает мне.
Минуты две стояла тишина, потом раздался голос нашего «дядюшки Бу», как звали мы ответсекретаря Союза писателей, добряка, который любил и окормлял всех, за что и его любили, но больше, кажется, за то, что тот давно ничего не писал:
– Ну что ж, теперь давайте выносить...
Кладбище мне всегда напоминает свалку. Тем более наше, стоящее слегка на пригорке: когда к нему подъезжаешь, кажется, что насыпан небольшой курган из всякого мусора. Кладбище разрастается быстро, и, может быть, поэтому никакая зелень привиться не успевает, все голо, серо, убого – облезлые железные памятники, между ними сваленные скомканные бумажные венки, и все остальное – коричневый цвет с примесью песчаного на частых бугорках. Автобус подъехал к ряду из шести свежих могил. Будто конвейер, подумал я. Кладбищенский рабочий указал нам на вторую – кого-то мы опередили. Вынесли табуретки, поставили гроб. Все ежились от холода и ветра. Кто-то что-то сказал, прочли пару стихов покойного, дядюшка Бу, любитель говорить речи, на этот раз произнес нечто краткое и унесенное ветром, затем махнул рукой – закрывайте! – и сделал шаг в сторону. Гроб быстро заколотили – показалось, что даже чересчур поспешно – и также торопясь, опустили в могилу. Мы, те, кто помоложе, взялись за лопаты, и тут я почувствовал, что сам стараюсь работать как можно быстрее. Это было не оттого, что хотелось согреться от холода и ветра, это было, скорее всего, желание побыстрее отделаться и убежать с этого страшного места. Безумная тоска подхлестывала работу – казалось ты один среди нагромождения трупов, и, если не успеешь... Мы закончили, могильщик похлопал лопатой по бокам бугорка, установил венки и воткнул в головах дощечку с номером. Памятника, естественно, пока не было. Теперь быстрее в автобус! Автобус – это уже наша территория, посольство живых во враждебном государстве.
В автобусе старички наши смотрели веселее и покрякивали, выпивая.
– Вот так вот, – произнес при моем входе в автобус Н., и на этот раз в голосе звучало что-то от фокусника, показавшего номер: вот так вот, мол, раз и нету.
Мне тоже протянули полстакана, я мгновенно, не ощущая ни вкуса, ни жжения, выпил. Сунули пирожок. Я понюхал. Откусил. Автобус рявкнул и тронулся. Тут же, правда, пришлось съехать на обочину – навстречу нам чуть ли не по могилам ехал другой автобус, видимо, те, кого мы опередили. Мы разминулись и выехали на дорогу.
Неожиданно для себя я обнаружил сидящего рядом Тишкина. На коленях у него лежал потертый коричневый портфельчик, тот самый с которым он заявлялся ко мне два года назад. Тишкин глядел прямо перед собой и еле скрываемая улыбка радости хорошо чувствовалась.
– Что это вы носитесь с вашим портфелем?
Улыбка вырвалась и озарила физиономию Тишкина. Он посмотрел на меня ласково, словно я сделал ему подарок.
– О! – погладил он портфель. – Тут целое состояние.
– Чье? – спросил я. Тишкин замялся.
– Так получилось, – начал он вкрадчиво, – что когда на вокзале обнаружили труп Шадрина...
– Въезжаем в город, – сказал я и отвернулся к окну.
В Доме литераторов, на том месте, где час назад стоял гроб, был приготовлен скромный стол: бутерброды, сыр, огурцы, помидоры, минералка, водка. Сначала выпили молча, потом языки развязались и общество опять распалось на мелкие кучки и между этими кучками время от времени возникала перепалка. Около стола шатался поэт С. и читал свои стихи. Его добродушно слушали, затем начинали отворачиваться, потом гнали. Тишкин, хотя это было и неприятно, все время крутился подле меня, мы чуть ли ни в туалет вместе ходили. И почему-то, видя все время в его руках потрепанный коричневый портфельчик, я чувствовал себя спокойней. Один раз мелькнула мысль: «А ведь врет, шельмец, нет там у него ничего». И тут же, словно угадав, Тишкин подмигнул: «Ан нет, и не вру!»
От стола послышался звон ножа по стеклу. Все, обернувшись, примолкли, поднялся местный мэтр В., ныне отошедший от стихов и подвизавшийся на ниве христианства.
– Я что хочу сказать... – он стоял, сжав рюмку, и повторил, дожидаясь полной тишины: – Я что хочу сказать... – Шелест слов еще продолжался. – Да дайте же сказать! – вдруг заорал В.
Тут действительно все замерли, только кто-то проворчал: «Ты так идиотом сделаешь», а В., то ли израсходовав весь запас сил на грозный рык, то ли театрально выдерживая паузу, то ли просто подзабыв о чем, собственно, шла речь, тоже замер и недоуменно смотрел перед собой. Пауза затянулась. Однако он все же выпалил, кажется, первое, что взбрело ему в голову:
– Его убили!
И сел. Народ явно ожидал чего-то другого.
– Э, завернул, убили... Он сам себя убил. – Вот так вот...
– Кто не знал, что он обречен? Ну кто не знал?
– Но, согласитесь, это все равно, можно сказать, очень символическая для сегодняшнего времени смерть.
– Чем же это она символическая?
– Вот, писатель, можно сказать, большой писатель, да, теперь это можно сказать, умер бродягой на вокзале. Это символично.
– А вы тогда чего не умираете?
– Ему не дали похмелиться! Сволочи!
– Я почему не умираю?
– Да, вы. Именно вы, почему не произведете символическую смерть?
– Каждый должен нести свой крест до конца!
– Тьфу на вас!
– Кто-то бы рюмку поднес и жил бы... Жил бы!
– Друзья, друзья, потише, потише.
И тут, как бы обессилевший и задремавший после своего тезиса об убийстве, снова очнулся В. Он шатко поднялся. Народ как-то фазу сообразил, что изложенное ранее являлось лишь предисловием к основной мысли, и все разом затихли, с интересом ожидая насколько у В. хватит сил высказаться на этот раз. В. обвел всех мутным взглядом и вдруг прослезился. То ли его умилило, как вдруг все разом замолчали, и он увидел в этом знак уважения к своей персоне, то ли ему вспомнились его прежние христианские выступления, но он умилился и пустил слезу.
– Милые мои, – он сделал жест, словно хотел обнять всех и немножко расплескал из рюмки на стол. – Я вас всех так люблю... – Никто этого не ожидал, и все немного опешили. Но тут кто-то сплюнул, кто-то чертыхнулся, и это заставило В. напрячься и попытаться вспомнить, что же он хотел сказать на самом деле: – А знаете ли вы, что я хотел сказать? – этот вопрос, скорее, он задал самому себе, продолжая нашаривать обрывок мысли, и вдруг случайно мысль нашлась, словно кто-то шепнул ему, и все тем же елейным голосом он произнес: – А ведь это мы его убили, – и сам замер от сказанного. Стало ясно, что он вовсе не это собирался говорить, а все получилось само собой, так что сказанное можно было принять за откровение свыше, и В., сообразив, какое обвинение вышло из уст его, поднял палец вверх, посмотрел в потолок, потряс вытянутым перстом, вернул взор на окружающих и грозно заключил: – Вот! Выпил залпом рюмку и сел.
Мгновенно произошел взрыв, все разом заговорили.
– Что он сказал?
– Он сказал, что мы убийцы.
– Да он сам себя довел. Шадрин давно был конченый алкаш.
– А вы знали, где он живет?
– Да какое мне дело?!
– Вот так вот...
– Нет, я все больше убеждаюсь, что это символическая смерть.
– Да пошел ты со своей символикой!
– Нет, пусть он повторит, что сказал. С чего это я убийца?!
– Убийца тот, кто не дал похмелиться!
– Не надо ярлыки вешать!
– Успокойтесь, успокойтесь же!
– Налейте!
Я вспомнил, что виделся с Димкой около года назад. Он был тогда в очередном запое и, встретив меня на улице с поэтом С., затащил к себе. Впрочем, «затащил» – это неверно. Никто меня не тащил. Я сам слонялся без дела. Меня мучило и томило бездействие. Год получился скверным. Ничего путного не писалось, я сбился на заказные вещи, наскоро строчил всякие рекламные штучки, а потом вдруг подвернулся еще один доходный пунктик: подоспели выборы, и я писал выступления и статьи за разных кандидатов. Мне было плевать за каких, я не сомневался, что особых различий между ними нет – платили-то все одинаково – и что все это лишь игра и комедия, за участие в которой неплохо платят. Но мне было плевать. Поначалу, правда, я успокаивал совесть, убеждая себя, что занимаюсь этим из чисто профессионального любопытства, встаю то на одну, то на другую сторону и у меня получается нечто подобное длинным монологам различных лиц. Но в глубине-то я понимал, что ничего кроме вранья не получается. Мне это быстро опротивело, но связанный обязательствами и деньгами, бросить начатое я не мог. За два-три часа я клепал статейку, относил, получал гонорар и слонялся по городу. В моем столе лежали наброски романа, но я никак не мог к нему подступиться, все заполонили статейки, статейки, статейки... И я очень обрадовался, когда меня по плечу хлопнул Димка. «Затащил», надо же придумать такое? Обрадовался я, может, еще и потому, что сразу разрешилась проблема выматывающих меня халтурных денег. Я достал их и сунул Димке. Димка не особо удивился, а немного подозрительно спросил:
– Откуда такое богатство?
– Оттуда, – махнул я рукой, признаваться не хотелось, но Димка, кажется, сообразил и без этого.
– Тогда их надо срочно пропить!
– Надо, – поддержал я.
И мы пошли вместе, а Димка через несколько шагов нагнулся ко мне и шепнул:
– У меня, брат, самого паршивейшее настроение... Однако держусь.
Я кивнул, но почувствовал себя как-то бодрее.
Зашли на работу за какими-то знакомыми и уже впятером отправились к Димке. С. быстро отключился и его уложили спать. Один из приятелей тоже скоро уехал, а с другим мы долго играли на гитаре, пели, и все окружающее – грязь, тусклость – отступала, и мне казалось, что мы и есть тот огонек, от которого в мир пробивается свет. Засобирался домой и товарищ, игравший на гитаре. Он хотел бы остаться, нет, он обязательно остался бы, и как ему жалко расставаться, но надо домой – жена, дети, завтра на работу... Ну еще одну песню. Ладно! Ну, мужики, извините, правда, пора. Еще рюмку! Прямо уходить не хочется. А ты оставайся! Так ведь жена, дети, работа... Еще песню. Ладно! Рюмку... Теперь уж на посошок. Посошок впереди. Ладно... Но он все-таки, обнимая нас и пятясь задом, ушел.
Некоторое время мы сидели с Димкой молча: он опустив голову, а я просто так и чего-то жевал. Вдруг Димка поднял глаза и, глядя куда-то мимо меня, за черное окно, хрипловато произнес:
– Ты не представляешь, какая тоска...
Я перестал жевать и удивленно посмотрел на Димку – высокий, красивый, он весь сгорбился и сжался.
– Что? – не понял я.
Димка встряхнулся и пересел ближе ко мне. Поднял рюмку, но, подержав на весу, поставил. Обнял меня за плечи и тихо произнес:
– Понимаешь, Саня, не так мы как-то живем...
Я молчал.
Он убрал руку с моего плеча и некоторое время сидел, уставившись в стол, потом стал говорить, сначала не торопясь, будто рассуждая сам с собой, но постепенно возбуждаясь все больше, в конце перешел чуть ни на крик, и это становилось похоже на бред, на приступ шизофрении... Но начал он тихо.