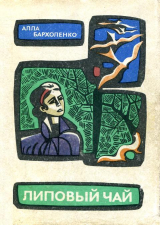
Текст книги "Липовый чай (Повести и рассказы)"
Автор книги: Авигея Бархоленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Позавтракав, они втроем отправились на дальний покос.
У покоса была своя история. Лежал он за отвалами огромных камней, когда-то бывших неприступной скалой, спускавшейся в озеро. Теперь скала потеряла силу и расслоилась. Был этот покос самый лучший, из года в год родились на нем густые и мощные травы, вызывавшие зависть соседей. Но завидовать завидовали, а брать себе не сильно спешили – ездового хода на покос не было, а был только пеший, с осторожностью, а с готовым сеном и вовсе возни не оберешься. И все-таки несколько лет назад вытребовал себе этот участок – благо рыжий Петя не возражал – скандальный мужичок Гавря. Откосился, пображничал и пошел по откосу домой, да так и не дошел. Хорошо, что Петя был в те дни не в лесу, а дома, у всех на виду, перекрывал крышу в дружбе с двумя соседями, а то прицепилось бы к нему подозрение. Прибежали тогда двое ребят, лазили по скальному сосняку за маслятами, прибежали и закричали на весь белый свет:
– Гавря утоп!
Сбежались мужики и бабы, двинули к Тихому озеру, спустились по отвалу к самой воде, да, видно, перепутали ребятишки место, ничего с берега не углядели. Только когда пригнали лодки и пропетляли мимо отвала и ближних камышей много раз, обнаружили под водой Гаврю. Стоял Гавря, погрузившись по колена в ил и протянув кверху руки. Волосы на голове его тоже стояли кверху и невесомо шевелились, как шевелятся водоросли.
Гаврю пожалели всем миром, похоронили, помянули первачком и забыли. Вдова его осталась жить с двумя дочерьми, про сено на дальнем покосе боялась думать. Пете, конечно, больше всех надо, перетаскал сено к берегу и лодкой перевозил к своей землянке. Выпросил на конюшне лошадь, запряг ее в телегу и затарахтел по сосновым и березовым корням к озеру. Поселок молчаливо за ним наблюдал. Петя нагрузил высоченный воз, перехватил веревкой и, не потеряв по дороге ни клочка, въехал во двор вдовы Гаври. Сам сгрузил, сам остоговал, сам придавил жердями и прикрыл целлофановой пленкой. В поселке закивали с удовлетворением: уж Петя-то чужого не возьмет. Будто не те же люди готовы были думать, что порешил бы Петя человека, не крой в тот день крышу в дружбе с двумя соседями… А Петя, отведя лошадь на конюшню, пропал куда-то на неделю. Даже в землянке на Тихом его не было.
На следующее лето дальний покос никто не хотел брать, и лесник Лекся, перестряв как-то Петю на дороге, сказал:
– Взял бы покос, Петя, чего добру пропадать.
– Возьму, – ответил Петя.
Он всегда начинал косить раньше всех, когда травы были в самой поре и сочности, не дожидаясь полного вызрева семян и самосева.
– Выродится трава-то, – говорили ему.
Но трава на его покосах не вырождалась, потому что осенью, перед листопадом, он подсевал свои покосы семенами, походя, без особого труда собранными за лето, и даже если засеянный им покос на следующее лето доставался другому, никогда не жалел об этом, и на следующий год делал так же.
Обо всем этом с подробностями и не без удовольствия поведала Лике Полина, пока они, приотстав от Пети, карабкались едва заметной скалистой тропинкой вдоль обрывистого озерного берега.
Сено высохло в самый раз, до сухой гибкости. Лика и Полина сгребали его в копенки и на легких жердях перетаскали к берегу. Петя пригнал лодки, припрятанные в камышах, и спросил у Лики:
– Ну, сумеешь? Не забоишься? Ты по берегу смотри, метров так на пятьдесят от него держись, пока землянку не увидишь. Ну, лезь, я оттолкну.
На какое-то мгновение Лике странным показалось все вокруг: какие-то лодки, какие-то жерди, какой-то Петя и какая-то Полина, почему-то нужно не забояться и плыть… К чему этот чужой, не ее мир, подробный, очевидный и ускользающий? Что она надеется найти здесь?
– Не забоишься? – повторил, уловив ее медлительность, Петя.
Она шагнула в лодку. Лодка накренилась, но Петя придержал борт рукой и коленом. Лика поспешила сесть на поперечную доску, старую и щелистую, нагретую солнцем. И сразу Петя исчез за сеном, и сзади тоже было сено, и только в промежутках, где весла, виднелась вода, весла жались к бортам, лодка плыла.
На половине пути ее обогнала копна сена, из копны белозубо улыбалась Полина, за ней вторая копна – с Петей. Петя притабанил, проговорил одобряюще:
– Ничего, ничего, так и иди, не спеши, а мы пока разгрузимся.
И, едва заметно тронув весла, быстро опередил, будто Ликина лодка вовсе не двигалась, а стояла на сухом.
Потом они еще грузили и разгружали лодки, а покончив с дальним покосом, свезли сено с ближнего, и из ближнего сена сметали стог, в нижней части которого на березовом остове устроили шалаш с сенным полом и сенными стенами, и оставили у лаза охапку, чтобы потом было чем закрыть его на ночь от комаров и прохлады.
– Вот и готов твой дворец, – сказал Петя.
Побежал к землянке, принес одеяло, сам залез в нутро стога и постелил, а из наволочки вытряхнул старое сено, и набил ее новым, и опять залез в стог, и, покряхтывая, устроил там и подушку. Из лаза торчали его ноги, носками вниз, потом ноги стали носками вверх – Петя проверял, удобно ли лежать. Вылез и определил:
– Вполне! До самых морозов можно, и в морозы тоже можно!
Лика пролезла внутрь. Оказалось вполне просторно, можно было уместиться вдвоем, а то и втроем. В светлый круг лаза виднелись озеро и костер, и Полина у костра. Полина повернулась к ним и крикнула:
– Эй, работнички! Ужинать! А то мне по темноте домой шлепать придется!
Лика торопливо выбралась из стога. Ей стало жарко от мысли, что Полина может заподозрить ее в нехорошем, и показалось, что даже на минуту задержаться в столь заботливо сделанном Петей жилье уже значило делать это нехорошее. Она не взглянула на ожидавшего ее Петю и поспешила к костру.
Ужинали в молчании. Лике казалось, что молчание тяжело и многозначительно и она виновница этой тяжести. Она не могла предположить, что можно относиться к еде с молчаливым уважением, что разговоры могут быть не нужны, потому что отвлекают от важного дела, ибо еда после дня физического напряжения – все-таки дело, и весьма важное, она подготовка к завтрашнему дню, и подготовку эту нужно совершать так же добросовестно, как добросовестен был сегодняшний и будет завтрашний труд.
Когда Полина собралась уходить, Лика тоже встала:
– Можно, я с тобой?
– А пойдем! – согласилась Полина.
– Я с Полиной, ладно? – повернулась она к Пете, будто спрашивала позволения, будто не вольна была распоряжаться собой, как хочет. – Я завтра вернусь, хорошо?
Петя закивал:
– А что? Вместе-то веселее, поди. А я сплаваю, фитиль поставлю, авось линишка заскочит…
Лика напряженно вслушивалась в его голос, пытаясь уловить в нем разочарование, намек на что-то тайное, но Петя говорил обычно, с приветливостью и расположением.
Лика шла за Полиной, тайком сжимала полыхавшие щеки. Я развратная баба, сказала она себе. Ему даже в голову не пришло ничего подобного. Будто я и не женщина, подумала она с замечательной непоследовательностью, уже почти обижаясь отсутствием в Пете того тайного, против которого восстала с таким возмущением и от которого торопливо сейчас бежала.
Да что же это?.. – в беспомощности и ужасе воскликнула она. – Я не такая. Я ничего этого не хочу, мне ничего не надо, я не знаю, откуда во мне это!
Подняв голову, она увидала, что Полина остановилась впереди и насмешливо, но, впрочем, нисколько не зло поглядывает на нее. Сверкнули в откровенной улыбке зубы:
– Ну? Чего сбежала-то? От постели-то сенной, душистой? Испугалась, что возревную? Напрасно испугалась, ей-богу! Да хоть бы и пожалел он тебя, жалко мне, что ли?
– Как… пожалел? – пролепетала Лика.
– Да натурально. Как баба мужика жалеет, а мужик бабу.
– Да почему же? Почему меня жалеть нужно?
– Да потому, что у тебя душа не спокойна, подруга.
Лика вникала в Полинин голос, искала в нем иной, недоброжелательный смысл, но голос вполне соответствовал тому, что Полина говорила, и это опять смешало все ощущения Лики.
– Глаза у тебя без света, – говорила Полина, – весь свет у тебя внутрь уходит, чтоб тамошние всякие потемки осветить… – Она глянула искоса. – Потеряла вот, а теперь ищешь. Когда человек в себе ищет, это всегда заметно.
– Странно ты говоришь… – после долгого молчания отозвалась Лика. – У меня и в мыслях про то, чтоб меня жалели, не было!
– Конечно, не было, – засмеялась Полина. – Коли б было, так это уже по-другому называлось бы, тогда и разговор был бы другой!
Лика вполне ясно представила, какой был бы другой разговор, и удивилась, что Полина находит разницу между одним и другим.
– Не понимаю что-то, – каким-то не своим, осевшим голосом сказала она Полине. – Разве может такое, чтобы… Ну, если что-нибудь такое… Чтобы женщина другой позволила?..
– Да отчего же не может? – по-прежнему насмешливо спросила Полина, и Лике непонятно было, серьезно та говорит или разыгрывает в отместку за что-то.
– Да потому что измена! – воскликнула Лика.
– Да какая же измена в том, что один человек другого жалеет?
– Да ты-то хочешь, чтобы твой муж тебя жалел, а не другую?
– Да с чего ему меня жалеть-то, когда у меня сейчас никакой беды нету?
– Но как же тогда? – не понимала Лика. – Вы с ним врозь, что ли?
– Зачем врозь? – рассмеялась Полина. – Мы не врозь, мы нормально. Да это другое вовсе, это семейное!
– Какая же разница? – спешила Лика.
– А такая разница, что то мужик да баба, а то человек с человеком…
Голос Полины звучал все так же насмешливо, но появилось в нем и что-то снисходительнее, словно Лика не понимала совершенно очевидных вещей. Но то, что говорила Полина, было диковато, строилось на какой-то иной логике, и у Лики не хватало внутреннего дыхания не то чтобы согласиться, а даже допустить возможность подобного.
Она зябко поежилась и взглянула на молчаливый, сумрачный лес, окружавший их со всех сторон, и вдруг захотела в город, в свою удобную квартиру, в которой невозможно столь беспокойное смещение понятий, в которой все выверено, избавлено от неожиданности, предопределено и скучно. Ей даже захотелось увидеть своего мужа, потому что захотелось успокоиться и почувствовать себя несколько пресыщенной и имеющей ни к чему не обязывающее право на недовольство.
Дальше шли молча. Лес медленно потухал, только верхние желтовато-голые и изломанные, будто искореженные ревматизмом, ветви сосен светились в затухающе-красных лучах заходящего солнца. От дороги уже тянуло прохладой, эту прохладу неожиданно пронзали теплые запахи то смолы, то фиалок, то скошенной и привялой травы.
Лес расступился, показался поселок, покрикивали бабы, ребятишки гнали коров после дойки в лес, брякали ботала на шеях баранов-вожаков, взлаивали собаки. Полина остановилась, смотря на деревушку с легкой улыбкой, одновременно и насмешливой и размягченной.
– Посидим… – предложила Полина.
Они очистили на земле место от шишек и устроились под сосной на колюче-мягкой подстилке из хвои.
Звуки в поселке никли, заползали в строения, умалялись до неразборчивого бормотания. Прозрачный воздух пополам с тенью и светом недвижно застыл над домами. Вдали бесшумно прополз по железной дороге товарняк. Все остановилось.
Полина, наслушавшись тишины, вздохнула удовлетворенно. Но не поднялась, а показала на крайний дом:
– Вот тот дом, видишь? Сейчас в нем другие живут, а тогда Мария с мальчишками. Двойняшки у нее были, лет по восемь тогда исполнилось…
Полина говорила медленно, ровно, присматривалась к дому, на который показала, словно ожидала снова увидеть в нем и Марию, и двойняшек, и еще что-то, о чем речь была впереди.
– Не везло бабе. Поначалу у нее дом сгорел, остались в чем были. Муж ей не помощник, больной да хворый, в плену был, день ходит, три лежит. Едва этот домишко осилили, свалился у нее мужик совсем, месяца не протянул и умер. Повыла Мария денек-другой, да жить-то все равно надо, дети есть просят…
Резкий взмах руки в сторону.
– Видишь пруд? Карьер раньше был, щебенку для железной дороги брали. Утонули в этом пруде ее мальчишки, сразу оба. Смастерили, дурачье, плот из коротеньких досчонок, уселись вдвоем да и перевернулись. Глубины там метров двадцать, вода подземная, лютая, как зимой. Мария тоже было в этот карьер кинулась, да выволокли, откачали. А только как человека жить заставишь, если у него сил к жизни нет? Истончала она, есть-пить забывает, не плачет, не жалуется, и каждому видно, что все равно помрет… – Взглянула на Лику ожидающе, словно решения требовала, словно винила за неизвестную судьбу. Лика ждала, чувствуя, что еще не конец, что зачем-то же рассказывается ей про Марию. И вот Полина усмехнулась знакомой усмешкой: – А время тогда самое такое было, как сейчас, косить начинали, и покосы у нас с Марией были рядом. Спровадила я туда своего рыженького, еды ему на месяц припасла. Мария уже там была, третий день на солнце сидела, а косить не бралась. Я обратно в поселок да и за все лето к ним ни ногой…
Лика смущенно отвела глаза, испытывая неловкость и растерянность от рассказа, а Полина продолжала:
– Явилась Мария домой уже когда дожди пошли, а мой еще долго в землянке оставался. Тогда эту землянку-то он и вырыл. Раз, уже совсем ночь легла, стучат ко мне. Открываю – Мария. Стоит, порог перешагнуть не решается. Ввела я ее, чай свежий липовый заварила, сидим за столом, молчим. Выпили две кружки, поднялись, она и говорит будто про чай: «Спасибо, Полина». А я ей: «Что ты надумала, Мария?» Она мне на это: «Завербовалась, – говорит, – уезжаю от вас». – «Счастливо, – говорю, – тебе, Маша, не забывай нас». Она голову опустила: «Как же, – говорит, – такое забыть, если такое не забывается?» Обнялись мы с ней и распрощались…
– И уехала? – тихо спросила Лика.
– Уехала, – кивнула Полина. – А рыженький мой в землянке обитает, на работу да с работы всякий раз по три километра шагает, а домой не заходит. Не тревожила я его. Пошла к нему в первый раз уже по снегу. Поговорили мы о том, о сем, мимоходом совсем, без всякого отношения, липового чаю опять-таки попили. На том и вернулась я, а он остался. Увидела я, что он виновный передо мной, что привязался к Марии сильно. Вот и выжидали мы, пока тоска у него перегорит, я ему в том не мешала… Вернулся он к Новому году.
– А Мария? – спросила Лика.
– А Мария приехала года через три… С дочкой.
– Она сейчас не на станции работает?
– На станции. Видела ее? Теперь уж дочь замуж вышла, внук родился… Вот так, моя хорошая, – заключила Полина и поднялась.
Когда они вошли в дом, Полина улыбнулась:
– Я чай поставлю, будем чай пить.
– Липовый? – спросила Лика.
– Липовый, – сказала Полина.
* * *
Утром Лика проснулась от того, что над ней стояла Полина, толкала в плечо и говорила:
– Пей!
И протягивала деревянный ковш литра на полтора.
Лика покорно взяла ковш, он оказался тяжелым, на голую ногу плеснулось молоко.
– Куда мне столько! – испуганно воскликнула Лика.
Полина нетерпеливо подтолкнула ее. Пришлось подчиниться и пить.
Молоко было мягко-теплым, с нежной кружевной пеной по верху, с вкусом удивительным, не городским, густым, переменчивым, то мягко-сладкое, то с легкой маслянистостью, то с летучим запахом миндаля, и даже теплота у него была особая, какой при подогреве не бывает, и пить его можно было неожиданно много, уж половину-то деревянного ковша Лика осилила без всякого труда. И пила бы еще, да застеснялась, что пьет не по городским меркам, неприлично много, и вернула ковш Полине.
– Чего мало-то? – с неудовольствием сказала Полина.
Лика махнула рукой на городские мерки, выпила до конца и сидела на постели, боясь шевельнуться и вздохнуть поглубже.
– И не поднимусь теперь!
– А и не почувствуешь! – весело отозвалась Полина и, блеснув крепкими зубами, шлепнула Лику ручищей по гладкой спине. Лика засмеялась в ответ, соскочила с кровати, подбежала к распахнутому окну, увидела, как хорош день, и обрадовалась тому, что он хорош.
Все утро они колготились по дому, перечистили посуду, вымыли полы, разложили сушить подушки и перины, развесили разные зимние одежки, потом взялись стирать, а перестирав, навесили белье на коромысла и отправились на пруд полоскать.
– Это тот самый пруд? – спросила Лика. – Карьер?
– Тот самый, – кивнула Полина.
– Послушай… Могла же она и не уехать?
– Кто? – не глядя спросила Полина.
– Мария, – сказала Лика. Мысль эта еще вчера возникла у нее, но вчера она не стала спрашивать, а сейчас, приближаясь к карьеру, вровень с землей заполненному водой, соприкоснувшись с местом действия старой истории, она вроде как получила право на этот вопрос. – Могла же она остаться и взять… что ей давали временно, взять навсегда, могла ведь?
– Нет, – не очень охотно ответила Полина.
– Почему? – настаивала Лика.
Полина смотрела с досадой, ей казалось, что вопроса тут нет и объяснять нечего. Но Лика повторила:
– Почему?
– Да потому, что она все равно что из мертвых воскресла, она все равно что заново родилась… А поначалу в человеке зла нет.
– Но все-таки? – заупрямилась Лика. – Не уехала бы и Петю твоего не отпустила бы – тогда ты как? Согласилась бы на такое?
Полина ступила на шаткий мостик, отвечать не торопилась.
– Согласилась, не согласилась… – сердито повторила она, вываливая на доски белье. – Уж стекла-то бить не пошла бы!
– Но ведь жалела бы, что так сделала?
– А не жалела бы! – воскликнула с сердцем Полина. – Будто все за ради выгоды только… Не жалела бы!
И с маху опустила в холодную воду Петину рубаху.
Они полоскали белье молча, недовольные друг другом и собой.
Когда возвращались домой, со стороны леса показался воз с сеном.
– Петя, что ли? – кивнула на дорогу Лика.
– Он, – не останавливаясь, отозвалась Полина.
Полина стала натягивать веревки поперек двора. Лика удивилась:
– А Петя? Как он проедет?
– Ничего, проедет!
Они развесили белье. Воз уже подъезжал к воротам, но Полина почему-то ушла в дом. Лика побежала к калитке и смотрела, ничего не понимая. Воз проехал дальше и заворачивал в чей-то чужой двор.
– Вдовы Гаври двор, – сказала Полина из окна.
Будто это объясняло все.
Гавря – тот человек, который занял дальний Петин покос и утонул. Вчера сено с того покоса сложили отдельно, в веселый стог с шалашом это сено не пошло.
– Вы что, так и возите это сено туда… с тех самых пор? Третий год?
– Четвертый, – усмехнулась Полина.
Усмешечка не слишком добрая.
Лика вышла на улицу, ей захотелось пройти мимо дома вдовы Гаври и посмотреть, что там делается.
Ворота во двор были открыты. Петя в одиночестве метал стог, лошадь лениво подбирала с земли сухие былинки. Хозяев, видимо, дома не оказалось, иначе почему бы Петя работал один. Лика уже хотела войти и помочь, потому что стог нужно все-таки метать вдвоем, она залезла бы наверх а утаптывала, а Петя вилами подавал бы ей вороха, как они делали вчера, и она уже хотела войти, и Петя видел ее, но почему-то не повернулся к ней, не окликнул и не заговорил, и это было на него никак не похоже, и она остановилась.
За тем стогом, что метал Петя, стояли еще два, пожелтевшие, явно прошлогодние. Лика перевела взгляд на дом и увидела в одном из окон два лица, старое и молодое. Две женщины наблюдали в окно за тем, как работал Петя. Петя работал для них, но они не выходили помочь, от этого Лике стало зябко, расхотелось смотреть на Гаврин двор, и она пошла по улице дальше. И уже не в первый раз подумала, что ей не понятны простые, казалось бы, отношения между этими людьми, и сами эти люди, такие вроде бы очевидные и открытые, совсем не так уж очевидны. И оттого, что они не очевидны и не просты, как она поначалу ожидала, в ней возникло раздражение. Не было никакого желания углубляться в эти отношения, и от этого Петя и Полина мгновенно отдалились от нее на расстояние, более недоступное ее внутреннему слуху, и она перестала о них думать.
* * *
В самом конце поселка стоял недостроенный бревенчатый дом, из пазов спутанными лохмами свисала пакля. Это было интересно, как строится дом, и Лика заглянула внутрь, а потом зашла с другой стороны. Там стояла на лесенке молодая женщина и конопатила стены.
– Бог в помощь! – сказала Лика.
– Спасибо, – отозвалась с улыбкой женщина и пригляделась к Лике: – А я вроде тебя видела уже, да и давно вроде видела… Это как?
– Я приезжаю к вам. В больницу.
– А, ну, ну, врачиха, знаю. Сейчас тоже в свой темный кабинет, наши потроха рассматривать?
– Да нет, рыбу на озере собралась половить.
– А умеешь, рыбу-то?
– А научусь, может.
– А конопатить – это знаешь?
– Не приходилось.
– Давай сюда! Там внутри лесенка, притащи-ка. Вдруг и сама дом затеешь? Веселое это дело – дом, ей-богу! Я уж третий ставлю. Один сгорел, другой первому мужику оставила, ушла от него, пил да бил, надоело. А этот – для новой жизни, сошлась тут с одним, а вдруг получится…
Лика пролезла в еще не до конца пропиленный дверной проем. Внутри сруба свежо пахло сосной, под ногой похрустывала щепа, стесанная с перекрытий. Дом еще не был жилищем, еще не отгородился от воздуха и солнца крышей и окнами, в нем гулял смолистый сквознячок и летали шмели, стропила были накрыты голубым небом, и была в этих свежих стенах такая благодать, такая незнаемая прежде радость для души, что Лика задохнулась вдруг и прислонилась к стене. И то ли оттого была радость, что стены стояли не каменные, а из живого дерева, еще недавно шумевшего хвоей где-нибудь неподалеку и вобравшего в себя за сотню лет роста столько живительных сил земли и света, что их хватит и на другой век дерева, на его домашний век. А может, оттого новой волной вернулась утренняя радость, что особенно голубым и бездонным было в этот день небо, а может, просто отворилась, наконец, запертая душа и обрела свое утерянное естество – радость жизни, и опьянилось тело смолистым, солнечным воздухом, шмелиным гудом и трепетом березовой листвы на свисающей до земли ветке.
Лика вытащила через проем лесенку, прислонила ее к стене и спросила:
– Ты как дом покупала? Лесом?
Женщина ответила обстоятельно:
– Мы-то лесом покупали, это дешевле, если есть кому плотничать. А так-то лесничество срубы делает, у них можно купить, там и с мужиками договориться, чтобы поставили. А в районе стройучасток есть, доски, какие нужно, приготовят, рамы, двери и все прочее. Влетит, конечно, в копеечку, да охота пуще неволи! А паклю сверху вниз заворачивай, чтоб дождик не затек, да потуже, чтоб птицы по весне на гнезда не выдергали, где жидко – добавь, чтоб зимой не свистело…
Женщина говорила с удовольствием, со щедрой радостью, которая удваивается оттого, что ею можно поделиться, говорила охотно и складно, и ее приятно было слушать, и вся она была ладная и чистая, и Лика уже представила, какой у нее будет порядок в новом доме и как будет доволен ее муж, но тут же вспомнила, что от мужа та ушла, а новая жизнь еще неизвестно как сложится. «Не очень-то везет бабам, даже самым расхорошим», – подумала Лика и спросила:
– А другой-то у тебя как? Ничего?
– Пока-то ничего, – отвечала молодая, – пока-то я ему никто, снялась да улетела, он тоже с пониманием. А дальше-то как будет – кто знает.
– А если так и оставить, чтоб ты ему никто? – сказала Лика.
– А неохота никем-то быть, – доверительно ответила молодая, – неуверенное это дело. Найдется какая побойчей меня или какая-нибудь вовсе краля – враз и уведет, а я на это только глазами хлопай. А как бы мне ладно-то пожить охота, уверенно чтоб да навсегда, уж как бы хорошо-то было! Да я бы каждый выходной на весь мир праздники устраивала, пироги бы пекла да песни пела. Что пироги, что песни – это у меня получается. Хочешь послушать?
И, тряхнув головой, завела низким голосом:
Вниз по морю, вниз по морю,
Вниз по морю, морю синему
Плывет стадо, плывет стадо,
Плывет стадо лебединое…
Такой голосище, наверно, было слыхать километров на несколько, наверно, у Пети на озере было слыхать, под крышей бы такой голос не уместился, ему нужно вольное пространство, и как раз отлогие лесные склоны подходили ему.
– Ну, чего песне не помогаешь? – спросила хозяйка.
– Чтоб не мешать, – сказала Лика. – Да и песни не знаю.
– Ну? – удивилась та. – А эту знаешь?
Раскачалася рябина над водой,
Раскуражился мой милый надо мной…
Лика покачала головой.
– А эту?
Куманек, мое зернышко,
Не хватайся-ко за ребрышко…
Песни были незнакомые, ни разу не слышанные, где-нибудь вот так при стройке дома или в задумчивые летние сумерки и родившиеся, и никто не знал, кто в этой песне придумал слова, кто сложил напев. Просто песня жила, просто являлась к человеку в песенную минуту ниоткуда и пропадала в никуда до следующей минуты.
Из-за угла дома вышла маленькая девчушка с куклой, подергала хозяйку за подол, зашептала громко:
– Тетенька Люся! Тетенька Полина велела, чтобы другая тетенька обедать шла!
– Обедать так обедать, – согласилась Люся.
Девчушка взяла Лику за руку и повела как старшие водят малышей – чуть спереди. Вслед им покатилось веселое:
Дятел дерево рубил,
Филин по воду ходил,
Галка банюшку топила,
Утка щелочь щелочила…
* * *
Тем же вечером Лика вернулась в город, вошла в свою квартиру и застала мужа сидящим у нового телевизора. Он рассеянно кивнул ей, будто она не уходила дальше кухни.
Лика некоторое время смотрела на его редеющую макушку, потом вздохнула и сказала:
– Давай построим дом?
– Дом? – переспросил муж, кидая взгляд тона жену, то на телевизор и на всякий случай прикидывая, во что обойдется починка, если ее не удастся провести по гарантийному ремонту. – Какой дом?
– Деревянный, – сказала жена.
– Давай, – сказал муж, успокаиваясь: новому телевизору пока ничто не угрожало.
– Нет, серьезно, – заторопилась Лика, – я совершенно серьезно… Около Малушина есть озеро Тихое. Я бы хотела там жить.
– Жить? – наконец удивился муж.
– Ну, иногда, – вовремя отступила Лика. – Летом, на выходные… Это не так уж сложно, туда ходит автобус.
– Но дачу можно купить гораздо ближе, зачем же Малушино?
– Я не хочу ближе. Я хочу на Тихом.
– Там дачное место? Кто там живет?
– Там никто не живет. То есть там все живут.
– А кто именно?
– Лоси. Совы. Ну, и другие, я не знаю…
– Веселенькое место!
– Я там сразу заснула, – проговорила она через силу, теряя интерес к разговору.
– Заснула? А, да, да, – вдруг согласился он, – ты права. Конечно, ты права. Делай, как хочешь.
– Как – делай? А ты?
– Я в этом ничего не смыслю. Ты же сама знаешь, что я в этом ничего не смыслю. Возьми деньги и сделай, как тебе хочется.
Она молчала, стараясь понять, чего ей хочется, и хочется ли вообще.
– Денег, наверно, потребуется много… – неуверенно произнесла она.
– Я там взял на телевизор, – сказал он. – Если тебе не хватит, я займу.
– Спасибо, – сказала она, не чувствуя к нему никакой благодарности.
Он, довольный своей широтой и щедростью, кивнул. Она, помедлив, поцеловала его сверху в редеющие волосы. Он похлопал ее по руке, ласково и отстраняюще.
Лика прошла в дальнюю комнату и попыталась разобраться в своих чувствах. Она не предполагала, что муж согласится с ней так быстро, и это, вместо того чтобы обрадовать ее, угнетало все больше. Он откупился от нее этими деньгами. Свалил все на нее и дал понять, что не хочет иметь отношения к ее затее. И если она надумает строить, ей придется строить одной.
Опять одна, подумала она. Как будто в доме нет главы. Как будто нет мужчины.
Она включила торшер у тахты. Оранжевый свет лег на ковры и книги. На минуту ей сделалось приятно от вида своей комнаты. Эта комната предполагала существование нестертых мыслей и чувств, но ни мыслей, ни чувств не было, книги смотрели немо, будто стояли одни пустые обложки. За ее отсутствие на полу и письменном столе появился тонкий налет пыли. Лика начала уборку, движение несколько рассеяло ее. Она приняла хвойную ванну, думая при этом, что хвойный экстракт пахнет чем угодно, только не хвоей, и снова устроилась на тахте. Комната перестала смотреть отчужденно, признала ее хозяйкой, и Лика почти успокоилась.
Утром она позвонила Садчикову.
– Вы мне нужны, – сказала она.
– Надолго? – спросил он.
Она промолчала, думая о том, что при разговоре с Садчиковым всегда появляется двусмысленность.
– Если я вам нужен надолго, – услышала она его голос, – возьму выходной. Мне положен отгул.
– Возьмите, – проговорила она. – Отгул вам не повредит.
Он хмыкнул в трубку:
– Но учтите, я не выношу безделья. Если мне нечего делать, я сатанею. Мне нужны препятствия.
– Препятствия будут, – пообещала она.
– Встретимся в ресторане? – спросил он.
– Только не в ресторане! – испуганно воскликнула она. Он засмеялся. – Да утром там и не работают. Давайте где-нибудь… В сквере у памятника – вас устроит?
– Бр-р, – сказал он, – не люблю романтики.
– Романтики не будет, – пообещала она.
– Вы меня утешили, – отозвался он мрачновато и повесил трубку.
Она приняла душ, тщательно уложила волосы, потрудилась над гримом, выбрала нежаркий льняной костюм и белые туфли. И, осмотрев себя перед зеркалом в полной готовности, нашла, что выглядит привлекательно и с некоторой загадочной неуловимостью – неуловимостью возраста, настроения и желаний. По теории, подумала она, это должно привлекать мужчин. Впрочем, теперь мужчины предпочитают ситуацию попроще, чтобы не утруждать себя еще и в этой области. Похоже, однако, что Садчиков был приятным исключением, и ей стало любопытно, верно ли она определила его.
Он ждал, нетерпеливо прохаживаясь по теневой стороне песчаной дорожки в сквере, и, похоже, уже чертыхался. На нем были белый костюм и черная рубашка со свободным воротом. В сочетании с седеющими волосами это выглядело, надо сказать, неплохо – на соседних скамеечках уже роились девочки.
Вырядился, павлин, подумала она. Теперь она, кажется, выглядит рядом с ним бледновато. «Впрочем, все это не имеет ровно никакого значения», – сказала она себе и направилась к нему определенно деловой походкой.
Садчиков прошел отведенный себе для хождения участок песчаной дорожки и повернулся. В первую минуту он не узнал ее. Потом торопливо пошел навстречу, будто обрадовался на самом деле, и даже в глазах его было не видно всегдашней иронии. Лика подивилась: актер! Он взял ее руку и поцеловал с почтительной преданностью. Раскрашенные свистульки на скамейках умолкли.
– Демонстрируем высший класс? – спросила она с легкой насмешкой.
Он взглянул на нее одобрительно.
– То, что надо, – сказал он.
Она легко укротила возникшее волнение и перешла к делу:
– Мне нужна ваша помощь.
– Помощь хирурга? – спросил он. Опять с каким-то подтекстом.
– Совсем нет, – ответила она. – О хирургии я говорила бы в больнице.
– Я в вашем распоряжении, – сказал он примирительно. И не удержался: – По крайней мере на сегодня.
Она взглянула с недоумением. Удовольствие завяло на корню. Садчиков понял, что она готова уйти, и вдруг смутился.








