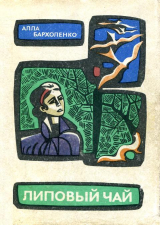
Текст книги "Липовый чай (Повести и рассказы)"
Автор книги: Авигея Бархоленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Павла процеживала молоко. На обеденном столе Матильда гладила свои шелковые вещицы.
Осторожно вошла Васюта, Мариина дочка, прокралась за спиной Павлы к Матильде, пошептала ей на ухо.
Матильда напряженно выпрямилась. Мельком взглянула на Павлу, выключила утюг. Прошла мимо с деланным безразличием, с необычной деревянностью в теле.
Павлу насторожила эта походка, она вытерла руки, подошла к окну и увидела, как Матильда легко, удивительно бежит по тропинке через огород. Павла нахмурилась, вышла из дома и тоже направилась к этой тропинке.
За огородом был покос, на краю покоса ольховые кусты. Павла подошла к кустам и сквозь зелень листьев увидела: стоит тот, с усиками. Матильда, обнимая его, сползает к земле, целует пыльные его, остроносые ботинки. А он стоит, засунув руки в карманы.
У Павлы тонко сжались губы и вздрогнули ноздри.
– Милый, милый, милый…
Павла не могла понять этих слов. Павла ничего не могла понять.
Шелестели в листве позорные Матильдины слова:
– Любишь?.. Любишь?..
Тот перешагнул кольцо Матильдиных рук, отступил на шаг. Матильда ползла за ним:
– Любишь?..
Он засмеялся.
Павла, чтобы не видеть, закрыла глаза.
Дома она собрала Матильдины вещи, всякие шелковые штучки, ничего больше и не было, и, зло шагая по грядкам, вернулась к тем кустам.
Она вышла прямо к ним, этим двоим. Остановилась. И смотрела вниз.
Там был шепот:
– Милый… Милый…
Павла разжала руку. Шелковое упало и закрыло их.
Обеда сегодня она не готовила.
Она поставила перед собой бутылку водки и граненый стакан. Она наливала стакан на треть и зло выпивала. Глаза были невидящими.
Застучал в сенцах, что-то складывая, Афанасий.
– Пришел? – спросила Павла, не оборачиваясь. И сама себе ответила: – Пришел.
Афанасий, не удивляясь, подошел к столу, взял бутылку, выкинул в окно, где на дороге приостановился, отыскивая спички, бабки Гланин старик. Бутылка шмякнулась в пыль, под самые ноги, бабки Гланин старик проворно подхватил ее, благодарно взглянул вверх – там самолет вонзался в небо, оставляя за собой серебристо-облачную полосу.
Павла усмехнулась. Не вставая, достала из буфета графинчик, поставила перед собой. Афанасий схватил было и его, но стало жаль выбрасывать, поставил графинчик на середину стола, сел напротив, налил и себе.
– Ладно, – сказал он. – Будем здоровы. – Чокнулся с Павлиным граненым стаканчиком.
Посмотрели друг на друга. Афанасию беспокойно стало от глаз Павлы, он снова выпил.
– Что же дальше-то, Афанасий Михайлович? – то ли с укором, то ли с жалостью спросила Павла.
– А что дальше? – не захотел понимать Афанасий.
– А то, что не задался наш номер, Афанасий Михайлович!
Афанасий поставил стакан на стол, спросил осторожно:
– Ты о чем, Павла?
– А все о том же, Афанасий Михайлович. Не ту жену ты выбрал, Афанасий Михайлович!
– Ладно-ко, – попробовал улыбнуться Афанасий. – Это мне лучше знать.
И осторожно:
– Не пей больше, лишку будет…
– Не бойсь, не опьянею, – усмехнулась Павла. – Не пьянею я, Афанасий Михайлович. Вот ведь какая беда – не пьянею!
– А коли так – добро не переводи, – тяжело пошутил Афанасий, – другим оставь.
– Дело говоришь, – вдруг одобрила Павла, – это ты дело сказал… Марью тебе надо было в жены. Ты меня послушай – женись на Марье!
– Ты, может, думаешь чего? – заспешил Афанасий. – Может, бабы чего наворотили?
– Что бабы! Если бы бабы… Ну, потягала бы тебя тогда за бороду, и конец! Не бабы, Афанасий Михайлович… Я виновата.
Афанасий уставился на нее.
– Не могу я в женах ходить, – сказала Павла. – Слабости мне не хватает. Хошь – рука на руку потягаемся? А что? Я иных мужиков укладывала. Ох, и сраму им было! Горькую запивали и в другое место жить подавались… С тобой – не стану. Хочу, чтобы ты для меня сильным остался… Афоня, отпусти меня по-мирному. А сам на Марье женись.
– Что говоришь-то… – Афанасий искал слов и не находил. – Что говоришь-то!
– Правду говорю, Афанасий Михайлович, – закивала Павла. – Скучно мне в женах…
Взгляд Афанасия стал тяжелым, напряглись желваки на скулах.
– Отпустишь? – спросила Павла.
Афанасий ахнул кулаком по столу. Стопки с графинчиком подпрыгнули. Павла вздохнула:
– И мне не сладко, Афанасий…
Афанасий во второй раз опустил кулак на стол. Стакашик покатился и упал на пол.
– Стерва! – сказал Афанасий.
Павла закивала, Павла согласилась.
– Стерва!.. – громче сказал Афанасий и озлобился. – Я тебя с дороги… С дороги! Нищую!.. Голую!.. Шоссейную!.. В дом пустил! В дом!.. Ноги мне мыть должна! Благодарна по гроб, что в дом… что хозяйство… что все это…
Павла смотрела на него с жалостью. Из-за нее мучился человек. Нехорошо. Ах, нехорошо!
– Ноги мыть! – кричал Афанасий. – Сапоги целовать!..
У Павлы вздрогнули, побледнели глаза. Вспыхнуло недавнее – Матильда ползет по земле, целует пыльные остроносые ботинки.
Павла выпрямилась и вдруг успокоилась. И даже вроде улыбка притаилась в губах.
– Сапоги!.. – остервенел Афанасий, почуяв эту улыбку. – Сапоги!..
Павла встала из-за стола, усмехнулась уже открыто.
Незаметно оказалась у двери, шагнула за порог. Дверь за ней закрылась бесшумно и плотно.
За это время ремонт дороги далеко ушел от деревни Шестибратово. И это было хорошо, потому что можно было не помнить ни о деревне, ни о сытом, добротном доме, ни о вполне хорошем, добром и чужом человеке, который продолжал называться ее мужем. Теперь у Павлы снова ничего не было, кроме койки в общежитии, и она снова трамбовала кувалдой уложенные камни.
ЛИПОВЫЙ ЧАЙ
Пятиминутка перевалила на второй час. Садчиков окрестил ее «пятичасовкой», другие слово подсократили и звали просто «часовкой», даже когда выступали в присутствии Главной. Главная терпеливо поправляла:
– Пятиминутка, уважаемый Иннокентий Савельевич.
– Да, да, вы совершенно правы, пятиминутка, уважаемая Роза Гавриловна, – наивно соглашался Иннокентий Савельевич.
А на следующий день говорили тоже самое. Игра на интерес. Надоест же когда-нибудь Главной поправлять их, как первоклассников.
Лика в этой забаве не участвовала. Рентгеновский кабинет и так ругали чаще других, требовали хороших снимков, легко зачисляя в плохие непонятные и неклассические случаи, а непонятных и неклассических было через один.
Сегодня про рентгеновский забыли, слишком скандальная получилась история.
В хирургию два раза поступал тридцатилетний мужчина, покушавшийся на самоубийство. Оба раза его оперировал Садчиков. В первый раз Садчиков сказал ему:
– Думаешь, приятель, без тебя здесь работы не хватает?
Месяца через четыре, увидев его снова в приемном покое, Садчиков сказал другое:
– Не там режешь. Хочешь умереть – вот здесь надо.
Вчера мужчина поступил в третий раз. Совету последовал, много зашивать не пришлось, умер.
Садчиков выступил коротко:
– Хочет человек умереть – не мешайте ему!
Главной после таких кощунственных слов пришлось подносить стакан с водой.
Садчикову, как считали, везло. Он делал операции вопреки медицинской логике, и больные, тоже вопреки логике, выздоравливали. А два года назад у него была операция, которая стала то ли легендой, то ли анекдотом: пошли на язву, обнаружили совсем другое, полагалось зашить и не вмешиваться, а он и не подумал зашивать, пошел кромсать и желудок, и кишечник, и еще всякое. Временами вспухала мысль: умрет, теперь этот мужик просто обязан умереть, а пальцы, не подчиняясь ослепляющей тяжести этой мысли, ревизовали внутренности.
Мужик выжил. Очень даже выжил: закидав облздрав и прочие инстанции жалобами на неправильный диагноз и требованиями взыскать с хирурга пожизненную компенсацию в его, потерпевшего, пользу. Садчиков хохотал:
– Он превзошел мои ожидания!
Веселый человек Садчиков.
А теперь на часовке-пятиминутке, несмотря на обилие слов, от выводов уклонялись. Лике казалось, не потому уклонялись, что хотели уберечь Садчикова от неприятностей, и не потому, что признавали его право на отклонение от шаблона, а потому, что предполагали втайне: и слова их, и они сами непременно окажутся поводом для замысловатой насмешки. Лика даже улыбнулась от понимания этого и сбоку поглядывала на человека, таким странным образом противопоставившего себя здоровому коллективу. Садчиков оглянулся и весело подмигнул ей. Главная внезапно объявила пятиминутку законченной.
Лика вернулась в свой кабинет, достала таблетки и запила. Слишком много таблеток в последнее время. Лучше бы не приходить сегодня, а прямо ехать в командировку. Но вчера она обещала описать снимки срочных больных. Лика нащупала артерию на своем запястье и прислушалась к пульсу. Опять подскочило давление. Стало теперь повышаться от малейшего напряжения, даже от вполне нормальных мелочей на работе: забыли, не принесли, не поняли с полуслова. Приходится замирать в долгой неподвижности, тогда боль в висках медленно утихает.
Но при всех этих неприятных ощущениях – и давящей изнутри, распирающей голову боли, и напрасно потерянного на часовке времени, и раздражения оттого, что долго не несут снимки и поэтому она опаздывает в подшефную больничку в маленьком районном центре, – при всех этих привычных, в общем, ощущениях было сегодня и что-то новое, какое-то неясное, слабое удовольствие. Лика поудобней устроилась на стуле, прикрыла глаза и двинулась вспять времени, выясняя источник удовольствия. И увидела насмешливое лицо Садчикова, дружно порицаемого коллективом.
Рано или поздно коловращение отношений и поступков выводит каждого к противостоянию одного и всех. Каждый кратковременно или надолго оказывается одним, а другие – всеми, протягивающими могучую руку массы к жиденькой позиции единицы. И сколько могла помнить Лика, один всегда выглядел жалко. Один или лгал, или каялся, не чувствуя раскаяния, или злился, мелко пощипывая других, чтобы ясно стало, что вы не лучше меня и тем самым я не так уж плох. Эти ситуации всегда вызывали в Лике стыд и портили настроение, она не любила подобного рода собраний и по возможности уклонялась от них.
Садчиков вел себя иначе. Он не оправдывался, не обвинял и не каялся. Он просто был тем, чем был. Естественно был среди всех, естественно был один. Он не испугался отъединения, потому что этого отъединения не ощутил. Едва пятиминутка закончилась, как он забыл о ней, подхватил под руку уролога Кириллова и заспорил с ним о ретропневмоперитонеуме по методу профессора Шарова.
От Садчикова и шло это ощущение удовольствия, удовольствия от здоровой, неущемленной натуры, удовольствия от дерзкого, выламывающегося из рамок ординарного порядка характера. В конечном счете, это было удовольствие от силы человека. Давно, надо сказать, не испытываемое ею удовольствие.
Санитарка положила перед ней снимки. Следовало сделать замечание за задержку, санитарка – неряха и растяпа, каждый день что-нибудь теряет, а разобидевшись, бежит подавать заявление об уходе, и Главная каждый раз лично упрашивает ее остаться, – санитарок хронически не хватает. Лика взглянула в упрямое, низколобое личико, прочла в нем торжествующую готовность в двадцать первый раз написать заявление и промолчала. Санитарка разочаровалась. Санитарка осталась в кабинете и двигала стульями. Стулья скрипели и взвизгивали. Как она умудряется выжимать эти звуки? Пять минут. Десять. Вместе с внезапным бешенством к голове хлынула новая боль. Стулья за спиной стучали и двигались.
Следующие мгновения выпали из памяти. Лика вдруг заметила округлившиеся глаза и открытый рот и поняла, что надвигается на санитарку, а та пятится, нащупывая рукой стену позади, нелепо приседает и кидается в дверь.
Зачем-то считая собственные шаги, Лика вернулась к столу, включила негатоскоп и положила на матовый экран один из снимков.
В кабинет вошла старшая сестра и сурово спросила:
– Что случилось, Гликерия Викторовна?
– За день случается достаточно много. Что именно вы имеете в виду? – то удаляя, то приближая к глазам снимок и не оборачиваясь, проговорила Лика.
– Катя снова пишет заявление!
– В самом деле? В таком случае скажите Главной, что я согласна мыть пол и вытирать пыль за полставки. Больница выиграет на этом тридцать пять рублей в месяц.
– Помилуйте, Гликерия Викторовна…
Лика с трудом отключилась от монотонного голоса. Она смотрела на смутную вязь теней освещенного снимка – каждодневно новый иероглиф, который нужно расшифровать. Смотрела и ничего не понимала.
* * *
Автобус медленно выбирался из города мимо бесконечных заводских заборов, вертикальных и горизонтальных труб, то дымящих, то пускающих пар, мимо кирпичных, мрачного цвета корпусов, еще старой, тогдашней кладки, мимо железных костяков новых, недостроенных цехов, мимо лязга, стука и висящей в воздухе пыли – в открытое пространство тишины и деревьев нормального цвета.
И едва въехали в эту тишину и зелень, как Лика заснула, и через два часа, у поворота на Малушино, ее будили всем автобусом.
Дела свои в районной больничке со старым рентгеновским аппаратом, который был исправным разве только в том случае, если им не пользовались, Лика закончила быстро, до обратного автобуса оставалось время, и она пошла побродить.
Тропинка привела к тихому озеру с землянкой на берегу и маленьким картофельным огородиком – кто-то жил здесь если и не постоянно, то часто. Озеро было сумрачное к середине, а у берегов вполне домашнее и ласковое. Лике захотелось обойти его кругом. Она двинулась вдоль берега, но там пошла низина, пошло болотце, какой-то безвольный ручеек не смог пробить себе ложе и сочился бесчисленными лужами. Лика повернула в другую сторону, мимо землянки, мимо развешенной на просушку капроновой сети, мимо прибрежной желтей осоки, а в осоке этой, через равные промежутки, словно посаженные, росли белые грибы. Лика не решилась их сорвать: вроде и белые грибы принадлежали неведомому хозяину, раз росли возле его жилья.
Берег повышался, выдвигая в воду слоистые камни, дно круто уходило вглубь, и из этой таинственной глубины всплывали и, сверкнув боком, снова терялись в темноте плоские серебряные рыбы. Лика не знала их названия и смутилась от этого, как смущалась в городе, когда кто-то из прохожих на улице здоровался с ней, а она, сколько ни вспоминала, никак не могла вспомнить ни кто он, ни как его зовут.
Она вышла на поляну, окруженную редкими соснами с черными обугленными полукружиями у комлей – следом давнего лесного пала, постелила плащ на пружинящую от хвои землю и легла. И ни о чем не думала, и это было хорошо – ни о чем не думать.
А проснулась от запаха дыма, совсем к вечеру. Дымок шел от недалекого костра, у которого бесшумно двигался какой-то человек. Первым ее чувством был испуг, но она тут же заметила, что испуг этот не настоящий, что бояться ей не хочется, а, скорее, хочется узнать, что это за человек у костра. Лика осторожно, из-под прикрытых век стала разглядывать его.
Человек сидел на чурбане, сидел плотно и естественно, как на стуле. Ей видны были ноги в крепких сапогах, давно принявших форму ступней, ноги стояли среди травы и сосновых шишек как-то очень кстати, и примятая трава рядом с ними была не напрочь примята, не раздавлена и уничтожена, а постепенно выпрямлялась, будто не человек придавил ее, а привычный к лесу зверь, что не станет губить лишнего и которому ни к чему оставлять заметных следов. Редеющие уже и не то чтобы вьющиеся, а легкие и пушистые, какого-то странного розоватого цвета волосы, рыхловатое, в красном загаре лицо, большие руки в слившихся, крупных, как незабудки, веснушках – человек этот и в самом деле был какой-то весь лесной, в крапинку, будто ствол рябины, и рыжеватость его была очень здесь уместна. При взгляде на него вспоминались непритязательные желтые цветы мать-и-мачехи, лютика или осота, первыми вырастающие на развороченной земле.
Все-таки она, видимо, пошевелилась или лесной человек как-то иначе определил, что она не спит, потому что повернулся к ней и закивал с улыбкой:
– Давай, давай, в самый раз, уха готова.
Она не стала удивляться, тоже кивнула, тоже улыбнулась, легко поднялась и села у костра. Он протянул ей жгущую пальцы миску, она взяла ее и вдохнула горячий запах, и он показался ей запахом вечернего озера, гудящих сосен, огня и человеческих рук.
Они почти не говорили, и Лика была рада тому, что не надо ничего объяснять и не нужно силиться поддерживать разговор.
Она иногда посматривала на нового знакомого, он при этом тоже смотрел на нее с готовностью: не нужно ли соль передать, четвертинку луковицы, хлеба кусок. Лика улыбалась благодарно, но потом услужливая готовность стала казаться излишней, вызвала что-то вроде пренебрежения к нелепо-розовому мужику, начальное приятное впечатление забылось, а усилилось чувство своего превосходства, чувство чуть брезгливой жалости к уроду.
Хоть она и не хотела этого, но перемена, видимо, отразилась в ее лице или еще в чем, так как рыжий мужичок взглянул на нее иначе: в ясных жидковато-карих глазах обнаружилось такое спокойное понимание, что Лику в жар бросило. В ответ на это понимание захотелось возмутиться, обозвать дураком (за что бы? за хлеб-соль и тепло костра?), да хватило ума признать, что сама дура, и виновато улыбнуться всему этому. Маленькие карие глаза тоже улыбнулись и замерцали дружески.
И теперь эту его готовность, согласие на то, на что другой не поспешит согласиться, Лика поняла иначе. Теперь она увидела не приниженность, а податливую доброту и догадалась, что доброту эту не очень-то замечают, попихивают и поталкивают, используют походя без стеснения, не давая себе труда за будничной молчаливой уступчивостью уловить неизнашивающуюся основу сознательной нравственности: очень уж не хочется, чтобы какой-то рыжий был лучше нас с вами, не хочется даже, чтобы он был такой же, как мы, – он обязан быть хуже…
Ей было почти стыдно за все эти ощущения. Если и не стыдно, то несколько не по себе. Поэтому, когда хозяин костра снова налил ей полную миску, даже не спросив, хочет ли она еще, она приняла еду с готовностью – можно было все свое внутреннее прикрыть обыденно-примитивным действием.
Это у меня от переутомления, подумала Лика. Или это болезнь… Мне надо отвлечься и жить нормально.
Она стала смотреть на зеркально-розовую гладь озера, на лес, накрытый тенью горы, за которую ушло солнце, стала доказывать себе, что перед ней удивительно прекрасная картина. Все было красиво и на самом деле, но воспринималось отчужденно или, вернее сказать, не воспринималось совсем, ибо не приносило ни радости, ни печали. Собственное равнодушие немного уязвило ее, но поскольку о нем никто не знал, то она и его запрятала в себе подальше и, сделав вид, что не может налюбоваться окружающим, перевела взгляд на ближние кусты и вдруг замерла.
За кустами стоял лось.
– Не смотри прямо, мимо смотри, – услышала она ровный голос хозяина.
Она послушно перевела взгляд на куст у могучих лосиных ног. Лося от этого стало видно хуже, и ей захотелось, чтобы он подошел ближе.
Ближе он не подошел, но и убегать не стал. И тоже смотрел не прямо на них, а чуть вбок. Потом повернулся и неторопливо направился в лес, двигаясь плавно, будто плыл, будто плыла по траве темная лодка.
Лось бесшумно пропал за деревьями. Лика подумала, что он не ушел совсем, а остановился и смотрит, как мальчишка, прячась за зеленью.
– Если с сыном приезжаю, он не приходит, – сказал хозяин костра. – Не верит, видать… А правильно не верит – браконьерит он. Не любит никого, беда…
Лика хотела спросить, как может животное определить, какой человек любит, а какой нет, но не решилась таким образом напомнить о никого нелюбящем сыне.
– Ты ешь, – сказал хозяин костра. – Меня зовут Петя.
– А отчество?
– Я Петя.
Она подумала, что если бы Петю звали еще и по отчеству, лось тоже не пришел бы.
– Если не любить, тогда все ни к чему, – сказал Петя. – Тогда тартарары, ничего понять нельзя. Затоскуешь, запьешь и погибнешь. Любить надо.
– А что любить? – спросила Лика.
– Хоть что, – ответил Петя.
У Лики уже давно не было потребности произносить подобные слова. Она считала, что они остались в прошлом, в наивном прошлом, когда у нее не было знания, когда эти слова выполняли назначение емкостей, которые со временем должны заполниться, но пока красовались пустыми гранями, громко звеня о своем особом назначении. Но по мере того как емкости наполнялись, их порожний и завораживающий гул утихал, слова все меньше требовались для употребления, а под конец представлялись всего лишь признаком голубого возраста или инфальтильности. И вдруг лесной человек Петя, никак не моложе ее, а, пожалуй, чуть постарше, озаботился словом любовь, определяет им свою не прошлую, а теперешнюю жизнь, и слово это звучит у него будто сейчас родившееся и позарез нужное.
– А что ты любишь, Петя?
– Сейчас это озеро люблю, – тут же ответил Петя. – Оно пустое было, я про него еще от деда слышал – вроде какая-то громадная щука всю рыбу перевела и сама с голоду себе хвост отъела. И верно, не было здесь рыбы. Я ее, мелочь всякую, сюда в ведрах таскал. Слышь, играет? И ее, небось, в ведре приволок вот такохонькой. А может, и самостоятельным путем уже появилась, это и еще лучше.
Петя повернулся к озеру с улыбкой – с такой улыбкой смотрят на детей. Там по зеркальной закатной глади шли круги, большие и малые, бесшумные от рыбьей мелочи и с плеском от крупной.
– Щука охотится, – довольно сказал Петя. Розоватые волосы его взметнулись от очнувшегося костра легким, бесплотным огнем.
– Опять щука? – с недоумением произнесла Лика.
– Все нужно… – тихо отозвался Петя.
Они замолчали надолго, и постепенно в Лику проникла тишина, и непривычный покой разлился в теле, Лика перестала заботиться о том, хорошее или плохое впечатление производит на Петю, а просто сидела и слушала озеро. В городе так молчать было невозможно, городское молчание было пустотой, было пропастью, которую торопливо забрасывали бесчисленностью болтливых слов. А здешнее молчание оказалось общением, и даже более полным, чем длинная исповедь.
Когда озеро притихло, Лика очнулась и торопливо поднялась.
– Мне пора…
– Так ты приезжай, – сказал Петя, – тут хорошо…
Лика кивнула.
* * *
Муж сидел в темной комнате перед телевизором. Его лицо бледно освещалось нервным телевизорным светом, и он казался включенным в электрическую сеть с прыгающим напряжением.
– Как съездила? – спросил муж.
– Как обычно, – ответила она.
Муж потянулся нетерпеливым взором к телевизору, говорящему понятными словами о чем-то непонятном.
– Интересная передача? – спросила Лика.
– Ерунда…
Она попробовала воспринять первоклассно-пафосный монолог, но вместо этого вспомнила Петино: «Не любит никого, беда…» И спросила:
– Зачем же ты смотришь?
– Что? – забыл муж.
– Ерунду.
Ответ задержался лишь на мгновение:
– А что делать?
И в самом деле, что делать, подумала она. Что делать, если муж отрабатывает свои восемь часов, бегает в магазин, чинит ломающиеся краны и выбивает по субботам ковры? Что еще может делать мужчина в современной квартире? Посуду она моет сама, белье отдает в стирку, обеды теперь на двоих…
– Писем не было? – спросила она.
– Нет, – ответил муж.
Она смотрела на него сверху. В самом деле он равнодушен к письмам сыновей или хочет казаться равнодушным, чтобы никто, даже она, не подумал, что тут что-нибудь не в порядке? У сыновей своя жизнь, они разъехались по институтам, старший в этом году защищает диплом. А может, муж прав, и редкие письма сыновей всего лишь признак их самостоятельности и нормально протекающей жизни? Может, начать новый круг?
Ей только сорок два. Она родилась, когда ее матери было сорок пять. Правда, и умерла мать через восемь лет, в начале войны, а отец тогда лежал в госпитале. Ютилась то у соседей, то у малознакомых родственников, и до сих пор в ней живет тоска по матери. Не по той матери, которая ушла в небытие, а по той, которая была бы рядом, если бы та не ушла. Временами до ревности остро завидует она своей подруге Ийке, которая и в сорок лет может прибежать в материнский дом то поплакать, то посмеяться, то перехватить десятку, то на ходу чмокнуть в седой висок.
Нет, ребенок в сорок два года это уже риск. Риск недовоспитать его, обречь на раннее одиночество, да и не явился бы он прикрытием от какого-то сложного вопроса, который встал перед ней и от которого человек не должен убегать, если уж ощутил в себе этот вопрос?
Она опять посмотрела на мужа, подключившегося к телевизору, и с определенностью, холодной дурнотой, прошедшей по телу, поняла, что не хотела бы иметь его отцом своего ребенка.
Она поспешила уйти к себе в комнату, самую дальнюю в их трехкомнатной квартире, плотно прикрывая за собой все двери. Но и сюда долетали вскрики телевизора, и это было слишком связано с мужем, а думать о муже было неприятно, и она завесила дверь одеялом. Можно считать, что настала тишина.
Она взяла книгу, которую не собиралась читать, но которая послужила бы объяснением на случай, если муж пожелает узнать, что она делает. Сказать: «Читаю» – гораздо приличнее, чем сказать: «Думаю». О чем ей думать? О чем думать благополучной женщине, у которой благополучные дети, благополучный муж и благополучная работа? Немало женщин, которые мучились то от болезней, то от измен, у которых слишком рано взрослели дочери или представали перед судом сыновья, с великой охотой сменили бы свои непрестанные неурядицы на ее очевидное счастье.
Все так, думала Лика, все так. Они живут хуже, чем я. Но следует ли из этого, что я должна ничего не хотеть? В конечном счете, моя жизнь не более как норма, как начальное условие для чего-то более полного, но мне не известного. Что такое моя жизнь, как не набор самых очевидных «не»: не больны, не пьем, не нарушаем законов, не бедствуем, не ленимся, не глупы, не злы…
Господи, опять этот телевизор! Теперь за стеной. Купить столько одеял, чтобы обить все стены? А потолок? Как крепить одеяла на потолок?..
– Я погуляю, – сказала она мужу.
– Подожди, – сказал муж, – сейчас кончится передача.
– Я одна, – торопливо сказала она.
* * *
Нарядный, вечерне-довольный людской поток катился по их новенькой улице с круглыми молоденькими липками. Новенькие девятиэтажки с бельем на балконах, с джазом из окон демонстрировали полированное благополучие. Красавицы на улице были упитаны, были в кримплене, мужчины были с брюшком и положением, на долговязых парнях болтались японские транзисторы и двухсотрублевые застиранные американские джинсы (младший сын изумил ее этой ценой до онемения, обретя же дар речи, она категорически заявила, что не даст и десятки, а наутро послала все, что он просил). Гуляющие были вальяжны, медлительны, выпукло счастливы. Лика натыкалась на них, бормотала извинения, но счастье было нескончаемо и полновесно, и она нырнула в боковую улочку. Улочка оказалась темная, затаенно-частная, ждущая сноса и недобрая. Лика вернулась в медлительный кримплен и свет, добралась до скверика у оперного театра и села на скамейку. Тут же материализовалась личность в красной рубахе и повела примитивное наступление. Лика пересела подальше. Личность лениво, нога за ногу, двинулась за ней и поведала о своих сексуальных пристрастиях. На крыше оперного театра мощная дева перебирала отсутствующие струны арфы. Лика устремилась на улицу, тараня собой неустойчивые людские объединения и чувствуя, что напряжение в теле становится невыносимым, что хочется расталкивать всех и зло ругаться, как ругаются в трамваях в часы пик.
Кто-то положил ей руку на плечо. Она рванулась.
– Ну, ну… – примирительно сказал знакомый голос.
Нужно было усилие воли, чтобы посмотреть на человека и узнать его. Садчиков.
– Что это с вами? – спросил Садчиков, насмешливо приподняв брови.
– Ничего, – сказала она через силу.
– С вами что-то, – проговорил он, вглядываясь.
– Я хочу быть одна, – сказала она, не глядя на него, глядя в толпу и никого не видя.
– Значит, вам нужно быть вдвоем, – усмехнулся Садчиков. – Я слышал, что более глубокого одиночества люди не изобрели.
– Мне нужно не глубокое одиночество! – почти крикнула она. – Мне нужно нормальное одиночество!
– Пойдемте-ка со мной.
– Никуда я не пойду!
Но Садчиков взял ее под руку, и она пошла.
– Я знаю, что нужно в этом случае, – легко сказал он. – Стакан вина. А то еще долго не начнется.
– Что не начнется?
– Истерика, – сказал он спокойно. Она дернулась, но он держал крепко. – Если вы не расслабитесь, будет хуже и вам, и вашим близким. Они перестанут вам нравиться.
Она смотрела на него без всякой симпатии. Он засмеялся:
– Наконец-то я встретил женщину, которой не нравлюсь!
…Ресторан грохотал. Квинтет духовых извергал звуки такой мощности, что Лика видела двигающиеся губы Садчикова, но не слышала его слов. Он понял это и наклонился к ней:
– Самое то! Можно делать операцию без наркоза – никто не услышит! Плачьте и рыдайте сколько влезет!
– Вы мне надоели! – крикнула она, но не услышала собственного голоса.
Он опять наклонился к ее уху, даже нечаянно коснулся его губами. А может, поцеловал. Она повернула к выходу. Он заступил дорогу.
– Не буду! Буду серьезный и честный! – В его глазах притаилось дружелюбное любопытство. – Не верите?
Она дернула плечом, не отвечая и брезгливо отстраняясь от танцующих. Садчиков ловко пробрался между дергающимися парами, скрылся за решетчатой перегородкой, на которой висели чахнущие от запахов кухни традесканции. Через некоторое время из-за перегородки показались ножки стола, две официантки втиснули его в промежуток у задней стены, молниеносно накрыли чистой скатертью. Лике подумалось, что их расторопность стоила немало.
Вернулся улыбающийся Садчиков, поставил в бокал розовую гвоздику.
– Будем страдать красиво, – решительно сказал он.
– Воды налей, – проговорила Лика, вдруг обращаясь к нему на ты.
– Воды? – не сразу понял он. Взглянул на гвоздику и воскликнул: – Ах, да!
С полной серьезностью взял бокал с цветком и снова отправился за перегородку, и с такой же серьезностью вернулся – в руке бокал, в бокале вода, в воде розовая гвоздика. Женщины за соседними столиками уже смотрели на него, их взгляды пробежались по Лике и, ничуть не заинтересовавшись ею, вернулись к Садчикову.
Кто-то и тут хотел бы оказаться на моем месте, подумала Лика.
– Так что же мы пьем, Гликерия Викторовна?
Лика поморщилась.
– Правильно, в этом похабном кабаке нужно пить только водку, – сказал Садчиков.
Официантка радостно улыбалась. Лика посмотрела на Садчикова с некоторым недоумением, она не могла понять, что же в нем привлекает женщин. Не найдя ответа в нем, она стала разглядывать тех женщин, которым он нравился, и опять ничего не нашла. Женщины как женщины, хорошо одеты, несколько больше, чем нужно, накрашены, все как всегда. Лика скользнула взглядом по их спутникам, в них тоже ничто не остановило ее внимания, и она не без иронии подумала, что уже слишком стара, чтобы понимать очевидные для всех вещи. Она пожала плечами, повернулась к Садчикову и безмерно удивилась: на этот раз он показался привлекательным и ей. Но это было совсем уж непонятно. Она опять оглянулась на соседние столики, оставила без внимания дам, дольше задержалась взглядом на лицах мужчин, уже раскрасневшихся от спиртного, уже туповатых и громогласных, уже готовых к скандалу и мордобою, и поняла, что Садчиков действительно лучше их, и ее вдруг оглушила нестерпимая жалость к женщинам за соседними столиками, и ко всем другим женщинам в этом зале, и ко всем другим женщинам на земле.










