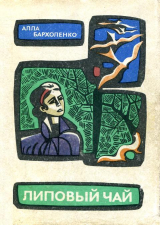
Текст книги "Липовый чай (Повести и рассказы)"
Автор книги: Авигея Бархоленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Впрочем, слезы вообще не вызывали у нее сочувствия, ни чужие, ни свои. Слезы требуют одиночества, а не публики, это сугубо личное дело. По одной и той же причине один смеется, другой плачет, третий ругается, так что это вовсе не показатель особых чувств.
Она прикрыла дверь кухни, вернулась в коридор, убрала кеды в шкаф, надела туфли и вышла. Она поняла, что не сможет остаться здесь не только навсегда, не только надолго, но даже на одну ночь и один вечер не может остаться. За последнее время муж стал для нее самым далеким человеком, более далеким, чем любой из этих прохожих.
Она поехала к Ийке, но на звонки никто не вышел, только обиженно промяукал под дверью кот, никого дома не было, ну да, Ийка говорила, что собираются всем семейством к бабке на клубнику.
Лика для чего-то позвонила еще раз, кот пожаловался еще более жалобно.
– Ладно, ладно! – сказала ему Лика.
И неуверенно стала спускаться по лестнице, забыв вызвать лифт. Оказывается, кроме Ийки, ей пойти некуда.
Были, конечно, знакомые, но не из тех, к которым можно явиться и сказать: у меня плохое настроение. Или: мне надоела моя квартира. Или: я не люблю мужа.
Мужа я не люблю, это не новость. И знакомые говорят, что это настолько естественно, что не подлежит обсуждению. Впрочем, среди знакомых есть исключение – сумасшедшая Ийка, которая третий раз выходит замуж и все по любви. Ийка тем и сумасшедшая, что без любви не может. Разлюбила – так и ляпает: разлюбила. И виноватой себя не признает. Дурочкой выглядит, с приветиком. А благополучная Лика рядом с ней – нищая. И даже пойти в пустую минуту, кроме Ийки, не к кому. Может быть, он плакал потому, что все понял? Понял, что я ухожу? Нет, это ненормально. Ненормально уходить ни к кому. Уходят всегда к кому-то. Уходят к другому. К другой любви и другой жизни. У меня нет другой любви. Я не могу представить, как может выглядеть моя другая жизнь. Я даже не знаю, чего я хочу. Только определенно знаю, что не хочу того, что есть. Или я задохнусь. Умру от сердечной недостаточности. Скоро мы все умрем от сердечной недостаточности.
Она отправилась на работу, хотя была суббота и хотя у нее продолжался отпуск.
Удивленной дежурной сестре она объяснила, что давно собиралась и, наконец, собралась поработать над заметкой для «Вестника рентгенологии».
Заметка и в самом деле была начата, у Лики скопилось штук двадцать интересных снимков, их нужно было проанализировать по теме.
Она достала снимки и включила негатоскоп.
Против ожидания, голова работала ясно. Глаза расшифровывали наползающие одна на другую тусклые тени, замечали особенности, которые раньше Лика пропускала. Вот этот снимок месяц назад вызывал у нее сомнение, никто не читал тут камней, а она стояла на своем, хоть и сомневалась. Диагноз написала без вопросительного знака. В хирургии пожали плечами и пошли на операцию, другого им не оставалось. Наутро делавшая операцию Ниночка Ивановна встретила в коридоре и кинулась обниматься:
– Умница! Пять камней! Подарить?
А сейчас Лика без всякого сомнения видит: камни. И чего тогда мучилась?
Лика обрадовалась, что работается хорошо. Слава богу, хоть занимается делом.
Потом и эти мысли, хоть и приятные, но посторонние, тоже исчезли, ничего Лика своего больше не чувствовала, были только снимки и экран, были сопоставления и выводы и удачно лаконичные слова.
Зачем-то заходила дежурная сестра, входила и уходила несколько раз. Потом вошел еще кто-то. Если нужно, спросят, Лика не оборачивалась.
Садчиков подошел к столу и сел сбоку. Лика взглянула на него и кивнула доброжелательно. И продолжала заниматься своим. Если захочет сказать, скажет. Ей жаль было терять свое радостное рабочее настроение.
– Какая выдержка, – проговорил Садчиков.
«Опять звучит двусмысленно», – подумала Лика.
– Мне хорошо работалось, – сказала она.
– Мне тоже, – сказал Садчиков. – У меня уже два покойника.
– Хватило бы и одного, – сказала Лика, хмурясь.
– Хватило бы, – кивнул Садчиков. – Но у одного ножевое ранение, а другой вывалился с балкона.
Он посмотрел на свои желтоватые, высушенные спиртом руки и спрятал их в карманы халата.
Бледен больше обычного. Осунулся. Вряд ли только от сегодняшних операций. Но думать о причине, по которой он мог осунуться, она не стала.
– Ты же не виноват, – проговорила она, приподняв на оконный свет снимок. Он поморщился и отвернулся. Ожидал другого. Это рассердило ее. – Что есть, то есть, – сказала она жестко.
– Отлично! – усмехнулся он. – Ты великий лекарь. Тебя-то мне и не хватало.
И цепко сжал сухой рукой ее руку. Она руку вырвала и поднялась.
– Послушайте, Садчиков, давайте без этих ваших штучек. На роман с вами я пока не настроена.
Он ответил:
– Настраивайтесь побыстрее, мне некогда.
– Вы хам, – сказала она тихо и, круто повернувшись, скрылась в комнатушке без окон, где проявляли пленки, и демонстративно заперла за собой дверь. Ей казалось, что она спокойна, но у нее тряслись руки.
Садчиков, тяжело ступая, тут же ушел. Она на всякий случай посидела в комнатушке еще. Не то чтобы боялась, а так, из какого-то упрямства.
Зазвонил телефон. Вызволял ее из заточения.
Она взяла трубку.
– Я не хам, – сказала трубка.
Лика нажала на рычаг.
Телефон тут же зазвонил снова и нудно трещал минут двадцать.
Лика стояла у окна с поднятой черной шторой и ни о чем не думала. В теле была расслабленность, как после испуга.
Телефон умолк. Стало слышно дребезжание близкого трамвая. Под окном рос куст сирени с равнодушными пыльными листьями. На веревках сушились халаты сотрудников. Откуда-то из желудка поднялось отвращение ко всему – и к старческому голосу трамвая, и к неопрятной сирени, и к этим халатам, и к примитивной больничке, которой место в каком-нибудь захудалом райцентре с гусями на дорогах.
Волна отвращения опала, и стало скучно. Все скучно – и Садчиков, и статья в журнале, и она сама.
Опять затрещал телефон. Могли звонить и по делу, она взяла трубку.
– Я не хам, – сказал Садчиков.
– Мне скверно, – сказала Лика.
– Что-то случилось? – с беспокойством спросил Садчиков.
– Ничего не случилось, – сказала Лика. – Поэтому и скверно.
– А дача? Уже не помогает?
– Помогает. Но сейчас я не на даче.
– Тебе хоть что-то помогает.
– Ты же не пробовал.
– Что не пробовал?
– Дачу.
Он засмеялся.
– У меня нет на это времени.
Она нахмурилась, будто он мог видеть ее.
Он, наверно, видел, потому что сказал:
– Не надо. Я так. Не уходи.
– У тебя там никого нет? – спросила она.
– Никого, – ответил он, и опять в сказанном было больше смысла, чем простой ответ на простой вопрос. Она приняла это большее и сказала:
– Я ведь тоже – никто.
– Ты понимаешь, – возразил он. – Значит, ты кто-то.
– Я ушла из дома, – вдруг сказала она.
– От мужа? – спросил он.
– От всего.
– Живи у меня. Я где-нибудь устроюсь.
– Нет. Не хочу быть обязанной тебе по мелочам.
– Да не буду я на тебя посягать! – воскликнул он.
– Лучше посягай, – сказала она. – Но не в своей квартире.
Он там, на другом конце провода, засмеялся легко.
– Телефон хорошая штука, а?
– Как все вещи – упрощает, – сказала она. – Можно предположить то, чего нет, и отбросить то, что есть.
– И как ты благополучно протянула столько, такая умная? – удивился он.
– Не знала, что умная, – сказала она.
– Когда человек не знает, что он умен, он глуп. Глупых у меня было слишком много – они любят преданно и скучно.
– Господи! – воскликнула она. – А еще жалуются на женскую логику!
– У вас рабская манера забывать о себе. Это оборачивается одиночеством для обоих.
– Похоже, что это интересно, но я ничего не понимаю.
– А, чего тут понимать…
– Ворчишь, как старая баба… Ну?
– Сколько у меня было – полюбит, в глаза смотрит, расстелиться готова, любое желание свято, чем хочешь поступится, о себе не помнит, лишь бы мне хорошо… Черт возьми, сколько в такой ситуации людей – один или двое?
– Похоже, ни одного.
– Гм… Ты смогла иначе?
– Нужно подумать… Нет, не смогла. Ты прав… Но для меня ты первый, кто возмутился этим. Я имею в виду мужчин. Обычно вам нравится послушание.
– Не равняй меня с этими дикарями! – возмутился он.
– Почему же ты не научил своих любимых женщин тому, что тебе нужно? – спросила она.
– Опять нужно мне! А вы?.. А потом, я поумнел совсем недавно. По-моему, недели две назад.
– Садчиков, я повешу трубку.
– Не надо… А где ты будешь спать?
– На рентгеновском столе.
– Я принесу матрац.
Возразить она не успела. Раздались короткие гудки.
О господи! Садчиков по больничным коридорам с полосатым матрацем на плече…
Но пришел не он, а пожилая санитарка. Санитарка принесла раскладушку и белье.
– Вам постелить, доктор?
– Спасибо, я сама.
Лика втиснула раскладушку в проявительную, приготовила постель и села. И почувствовала себя счастливой оттого, что не ночует дома.
Потом вернулась в кабинет и позвонила в хирургию.
– Это вы? – спросил Садчиков.
– Спасибо, – сказала Лика.
– За матрац?
– За то, что ты смог не прийти.
И она положила трубку. Разделась и легла на жиденькую раскладушку. И больше ни о чем не думая, погрузилась в сон.
* * *
Утро Лика провела над заметкой. Пожалуй, если ничто не помешает, сегодня можно закончить. Теперь непонятно было, почему эта давно запланированная (по настоянию Главной) и давно откладываемая работа казалась столь нежеланной. И вообще надо привести в порядок свои дела – уж сколько не отвечала на письма, делая исключение только для сыновей, да и то не утруждая их длиннотами, взрослые парни, пусть думают самостоятельно. И сходить к Тасе, это в первую очередь. Тася была ее лаборантка, около года назад внезапно разбитая параличом. Сначала ей очень сочувствовали и таскали апельсины и сласти, потом привыкли к ее отсутствию и к мысли, что она больна, и навещали все реже, только иногда вспоминали на словах, добавляя пожелательное: надо бы сходить. Но выкроить время на то, чтобы сходить, почему-то становилось все труднее. Лика держалась, навещала чаще других.
Позвонил Садчиков, пригласил на пищеблок снимать пробу. Можно было назвать это и завтраком. Когда она подходила, он сидел за столиком, смотрел с улыбкой, был необычно тихий и молчаливый, но молчалось с ним хорошо. Питались манной кашей и овсяным кофе.
– Ты могла бы посмотреть у меня несколько снимков? – спросил он. – Завтра операция.
– Конечно, – кивнула она.
Они направились в хирургию, там тоже стоял негатоскоп. Садчиков включил его и наложил на матовый экран снимок.
Эти снимки делала не она, а ее коллега Илья Федорович, она их видела впервые.
– Двадцать семь лет… – прочитала она наклеенную сбоку надпись.
Садчиков протянул другой снимок:
– Боковая проекция…
Голос был внешне равнодушный, но Лика уловила в нем темноту, провал. В темноте билась сдавленная ярость. Боковая проекция подтверждала то же самое, несчастное, неподдающееся, что было видно и на первом. Двадцать семь лет…
Как он вчера сказал? Он сказал, что не понимает, как она могла жить благополучно. Она тоже не понимает. Нужно оглохнуть и ослепнуть, чтобы жить благополучно.
Это у меня такое настроение, подумала она. Как обожженный палец, которому все больно. Такое сравнение как будто успокоило ее, даже как будто примирило с существующим положением вещей.
В сущности, ей не хотелось думать ни о том, что сказал вчера Садчиков, ни об этой цифре двадцать семь. Если думать обо всем этом, то нужно что-то делать, что-то менять, а она не знает, что делать и как менять. И она даже почти не лгала, что не знает, она лишь торопливо упускала, что никакого знания без желания знать быть не может. Она втайне, почти инстинктивно, опасалась, что, позволь она этим мыслям укорениться в себе, пришлось бы перестать прятаться в личину жертвы, которая так удобно прикрывала ее безответственность и даже помогала встать в позу обвинения: видите, как я страдаю, как мечусь, как такие-то и такие-то условия подавляют меня и уродуют мою чуткую, столь ранимую натуру, как мои прекрасные задатки обращаются в ничто, и само собой разумеется, что никакой моей вины в этом нет. Она спешила уйти от опасного края, к которому приводили ее собственные мысли. Двадцать семь? Ничего удивительного, умирают и раньше. И нечего Садчикову превращать ее благополучие в криминал.
Когда привезли больную, она объяснила Садчикову режим работы на пульте (обязанность лаборанта, которого нет), помогла больной встать за экран. Дальше пошло бесстрастное:
– Дышите. Не дышите. Налево. Направо. Все.
Лика прошла в фотолабораторию, проявила снимки, просмотрела их в одиночестве и сказала, что больную можно увезти. Пришел Садчиков и тоже взял снимки.
– Ладно… – после молчания проговорил он, будто грозил набегающим одна на другую теням. – Ладно… – И бодро-лживым голосом: – Мое дежурство кончилось. А ваше?
– Пожалуй, пройдусь немного, – сказала она.
Они вышли в больничный дворик с чахлыми, давно посаженными на каком-то осеннем субботнике деревцами, которые никак не решались пойти в рост.
– В больнице даже деревья болеют, – проговорила она.
– Зато какие ворота, – сказал он.
Ворота заботой Главной были замечательные, две четырехугольные тумбы громадные и две четырехугольные тумбы помельче, весной мастер с подмастерьями клали их недели три, Садчиков долго уверял, что в каждой тумбе спрятана потайная лестница.
Они вышли через новые ворота на жаркую, пахнущую асфальтом улицу и остановились в нерешительности.
– У вас дела? – спросила Лика.
Садчиков пожал плечами:
– Какие у меня дела…
Она неуверенно взглянула на него:
– Я собиралась навестить свою бывшую лаборантку, она болеет…
Он улыбнулся обрадованно, не ждал такой милости. Расслабленность в его теле исчезла, он подтянулся, стал стройным и красивым. Она изумленно взирала на это превращение, подумала с сожалением: я так уже не могу. А может, и никогда не могла.
На него опять смотрели. И девчонки, и не так чтобы. Какое уж там кокетство, откровенные, беззастенчивые взгляды, будто нагишом выскакивали. Ее игнорировали полностью. Не потому, что не выглядела, а потому, читалось, что она свое получила, не все же только ей. Равенство, как-никак.
Совсем спятили бабы. Рыщут, как в голодуху.
А Садчиков был элегантен. Был рыцарь. Купил цветы. Не только ей, но и лаборантке. А можно и наоборот: не только лаборантке, но и ей. Все равно рыцарь.
Любите его, женщины! Возьмите его, отдаю даром. Лелейте его в своей материнской люльке. И через сорок лет их порода вымрет.
– О чем ты думаешь? – спросил он. Голос деликатный, такому голосу хочется отвечать.
– Думаю, какими будут мужчины через сорок лет…
– А они еще будут? – спросил он.
Не шутил. Вполне серьезно. По глазам видно, что серьезно.
– Если бы у меня был сын… – начал он и вдруг сморщился. – Впрочем, у меня два сына. От первой жены и от второй.
Лика опустила голову, чтобы не смотреть на него.
– Нелепо все… Нелепо! – воскликнул он. – Я не виноват! – Несколько шагов молчал. – Нет… Я, конечно, виноват. Но я не мог… В первый раз женился в институте, на третьем курсе. Снимали комнатушку, платили из двух стипендий двадцать пять рублей. Кровать и стол. Стул был один. Когда родился сын, выкинули стол, чтобы поставить качалку. Конспекты писали на коленях. И вскоре писал только я, она бросила институт. Но и без института такая жизнь была ей не по силам. Сказала, что уедет к матери. Я согласился. Не без облегчения, надо признать. Через год она попросила развод… Рассказывать?
– Рассказывайте…
– Развелись, прошло безболезненно, отвыкли друг от друга. Сказала, что выходит замуж. Ну и правильно, сказал я. Дудки, подумал я после этого, или не женюсь, пока не получу квартиру, или женюсь на квартире… Ну, не совсем так пошло. Впрочем, пошлостью такие мысли считают те, кто углов не снимал. Однако получилось вполне благородно, ушел в работу, в клинику к Приватову попал, не до амуров…
– Но женился же?
– Женился, – кивнул он. – Моя первая серьезная операция.
Заметил ее недоуменный взгляд, пояснил:
– В прямом смысле – операция. Скальпелем. Спас. Она от благодарности влюбилась, я – оттого, что без меня это было бы тленом, распалось, не существовало… Пигмалиона переплюнул.
– Уважительная причина, – сказала она.
– Для женитьбы? Еще бы! Потом эта сентиментальная дура заела меня ревностью, шесть раз травилась, взяла клятву не оперировать женщин и еще бог знает что… И в один прекрасный слякотный вечер я сел в первый попавшийся поезд и прибыл в этот не менее прекрасный город.
– Ты сказал, что если бы у тебя был сын…
– Если бы у меня был сын, я ушел бы с ним в плотогоны.
– Тебе надоела твоя работа?
– Нет… Другое. Я ушел бы с ним в плотогоны, чтобы сделать из него мужчину… Мы выронили вожжи из рук, нас воспитывают женщины.
– Женщины всегда воспитывали, – сказала Лика. – Но устранились от воспитания мужчины.
Она не его конкретно имела в виду, а всех, и своего мужа в первую очередь. Но Садчиков принял это как обвинение себе. Лицо его побелело, он ускорил шаг.
– Все мы неучи… – проговорил он после молчания. – Когда начинаешь что-то понимать, исправлять уже поздно.
Они свернули – улица не улица, переулок не переулок, асфальтовая дорожка между стандартными пятиэтажками, единая и для машин, и для пешеходов. Поднялись на четвертый этаж и позвонили.
Открыл мужчина в майке, с такими джунглями растительности на груди и на плечах, что Лика и Садчиков профессионально им заинтересовались.
– Ну? – спросил мужчина.
– Извините, – сказала Лика. – Мы к Тасе.
– К кому? – изумился мужчина.
– К Волковой, – сказала Лика.
– Нет такой, – буркнул мужчина.
– Она что, переехала? – спросила Лика.
– Переехала, – сказал мужчина и захлопнул дверь.
– Какой экземпляр! – восхитился Садчиков и нажал на звонок.
Теперь открыла женщина, взглянула на цветы и кулек с подношениями, покачала головой.
– Но куда же она переехала? – спросила Лика.
– Да уж переехала… Сороковины скоро.
Лика и Садчиков замерли в одинаковом напряжении. Женщина спросила:
– А вы как – родня? Или так?
– Мы так… – побелевшими губами сказала Лика. – Извините…
Лика торопливо пошла по лестнице вниз, и Садчиков тоже пошел, а женщина из двери смотрела на них.
На одной из площадок Садчиков догнал Лику, взял у нее цветы и кулек, положил на пыльное лестничное окно. Лике показалось, что женщина из двери спустилась следом и взяла положенное.
Они долго шли молча. Шли по солнечным городским улицам, вместе со множеством идущих куда-то людей.
Он взял ее под руку, и она не отстранилась, а чуть прижала его руку к себе. Но они не испытали волнения от этого. Они были слишком одиноки в этот час, чтобы испытывать что-то еще, кроме своего одиночества.
* * *
Ийка хохотала до колик. Прямо-таки кисла от смеха.
За ней это водилось временами. Еще в институте, на четвертом, кажется, курсе, завалив по причине любовной депрессии третий экзамен подряд, приглашенная к ректору для вынесения окончательного приговора, она вдруг перед самой ректорской дерматиновой дверью согнулась пополам. Думали – плохо, кинулись за каким-нибудь врачом, а врача кроме ректора не оказалось, ректор ее и отпаивал, а она от этого и вовсе передохнуть не могла. После такого катаклизма всю ее любовь как рукой сняло, и месяца отсрочки для пересдачи хвостов хватило с избытком. Ректор этого случая не забыл, здоровался с ней почтительно, а через два года вспомнил об этом совсем некстати – на госэкзамене по политэкономии. Зашелся блеющим козлиным смешком, и чем серьезнее была Ийка, тем хуже становилось ректору. Сделали перерыв.
Еще Ийка ржала, получив прощальную записку от второго мужа, что-то вроде: прости, люблю другую. Только вместо «другую» уходящий муж от волнения написал «дуругую». Веселье было великое.
А сейчас Ийка сползала с кресла, услышав, что Лика ушла из дома, а прошлую ночь спала в проявительной. Особенно Ийку доводило слово прояви-тельная.
– Где, где? – в десятый раз спрашивала она. – В пр-роя-ви-тельной?..
И от несказанного удовольствия скребла кресло длинными ногтями.
Муж Васька испуганно толокся под дверью. Уже знал, что эти Ийкины смехи вроде черного пиратского флага: вот-вот кто-то с какой-то стороны кинется на абордаж.
Лика подумала: а может, и в самом деле смешно. Все на свете смешно. Зависит от точки отсчета. У Ийки счастливый характер.
Лика рассказала про лаборантку Тасю. Ийка притихла. А помолчав, возмутилась:
– Ну и что? Никто не виноват! Смерть есть смерть. Это атавизм – окружать смерть почтительностью. И похороны – атавизм. От пещер все это, от духов и рая. Произошло – значит произошло. Никогда не бывало, чтоб не происходило. Пора привыкнуть.
– Вот и привыкли, – сказала Лика.
Ийка повертелась, поискала лазейку, чтобы увильнуть, нашла:
– Здоровье не грех. Это болезнь – грех. Здоровые не могут заниматься только тем, чтобы болеть рядом с больными.
Звучало победительно. Лика молчала.
Ийка вздохнула:
– Сволочи мы, конечно.
Она вылезла из своего необъятного кресла, распахнула дверь на балкон. Позвала:
– Иди сюда!
Лика осторожно вышла. Не любила высоких балконов. Этот был на одиннадцатом этаже. Днем было скучно смотреть с такой высоты, потому что, хочешь не хочешь, возникал вопрос: неужели и ты такой же незначительный? Зато ночью картина открывалась поразительная. Всякие мелочи вроде ветхих домишек, которые, как болячки, лепились по бокам новостроек, в темноте пропадали, и во всем своем огненном великолепии выступал Город – красочное скопище освещенных окон, фонарей, автомобильных фар, аршинных реклам, установленных на крышах, – мелькающий, движущийся хаос, слитый воедино гулким, будто подземным шумом. Будто могучие провода уходили, как корни, в землю и там вибрировали и стонали, требуя соков для своего гудения и призрачного электрического цветения.
– Ничего картинка, а? – спросила Ийка.
– Ничего, – согласилась Лика. – Даже удивительно, что мы вообще существуем.
– А вот существуем! – торжествующе крикнула Ийка.
Лика напряженно слушала могучий шорох города, втягивала вздрагивающими ноздрями запах металла и дыма и чувствовала, как вздымаются под нейлоновым бельем давно рудиментарные, забытые, беспомощные, изнеженные волоски на спине и ногах, как хочется зажмуриться и сжаться в комок и бесшумно отступить, а потом бежать свободным, летящим бегом, едва касаясь босыми ногами сухих комков земли и шершавых трав, оставив позади то необозримое и чуждое, что дышит ей вслед запахом резины, пластмасс и искусственного камня.
– Послушай, – она дотронулась до Ийкиного плеча, – послушай, как дышит, как гудит… Все это само по себе… Мы тут не нужны.
Ийка вздернула нос:
– Мы тут, и весь разговор!
Она бесстрашно облокотилась на перила балкона, и Лике захотелось оттащить ее от пропасти, как неразумного ребенка.
Они постояли еще немного, глядя на миллионную россыпь огней, поежились и вернулись в удобную ограниченность комнаты.
Лика сжала ладонями виски.
– Я не знаю, как дальше… Я не знаю!
– Очень просто, – ответила Ийка. – Меняйся!
– Чем?
Ийка фыркнула.
– Можно мужьями, это, говорят, самое удобное. Можно – квартирами, тоже неплохо. Могу устроить, есть вариант.
– Только, пожалуйста, без мужа.
Ийка хихикнула.
– Потом найдешь! Звонить?
– Подожди! – испугалась Лика. – Надо же сказать!
– Что сказать? Кому?
– Что я ушла… Мужу.
Ийка выпучила глаза:
– Он что – не знает?..
Лика кивнула. Ийку опять повело. Сидела в кресле и тряслась, как трактор.
Зазвонил телефон. Ийка сняла трубку.
– Да. Здравствуй. У меня. Позвать? Ладно. Скажу. Будь!
Бросила трубку и посмотрела недовольно:
– Какой-то тип просил тебе передать: спокойной ночи.
– Спасибо…
Ийка взвилась:
– Твой Садчиков такой же ненормальный, как ты! У лягушек больше темперамента, чем у вас!
Лика устало прикрыла глаза.
– Вероятно, мы обуглились прежде, чем нашли друг друга.
– Ага, все-таки нашли! – придралась Ийка.
– Не знаю, – качнула головой Лика. – Это что-то другое. Это совпадение. Наши часы показывают одно время.
– Перестань морочить мне голову! – крикнула Ийка.
Лика перестала морочить голову, придвинула телефон и набрала свой домашний номер.
– Это я… Да, я приехала в субботу. Я заходила, но ты не заметил. Да, возможно, была интересная передача. Я хочу разменять квартиру. Не обменять, а разменять. На две. Я хочу жить одна. Нет, но я хочу жить одна. Если тебе не трудно, выключи телевизор… Никого у меня нет, но я хочу жить одна!.. Какие деньги? Ты рехнулся?.. Хорошо, я отдам тебе эти деньги. Но я буду жить одна… Одна!!!
Кинула трубку, бешено смотрела на телефон.
– Что за деньги? – изумленно спросила Ийка.
– На дачу, – равнодушно ответила Лика.
– Ну и на дачу, ну и что?
– Сказал, что я нарочно взяла. Потому что решила уйти. Чтобы оставить его без гроша.
Ийка поерзала в кресле, пробормотала:
– Плюнь… Обознался, с кем не бывает…
– Поеду и продам!
– Плюнь!
– Да я копейки из этих паршивых…
– Плюнь, говорю!
Лика перевела, наконец, дух и замолчала. Но тут же вскочила:
– Я хочу одна! Чтобы никого! Без телевизора! Обить стены ватными одеялами! И потолок!..
– А пол? – заинтересовалась Ийка.
– Ковры! В три слоя!
– А где достанешь?. – спросила Ийка.
– Одна! Боже мой, я буду одна!..
* * *
Садчиков подошел к ней в больничном коридоре. Возможно, ждал специально. Был желтый, злой, руки в карманах белого халата.
– А если я люблю вас? – сказал он.
Она пожала плечами, не остановилась.
* * *
Всю неделю они с Ийкой бегали, будто сдавали нормы ГТО. Лика плелась в хвосте. Ийка лидировала. У Ийки был опыт. Она знала и как расходятся, и как меняют. И потому, оставляя Лику в коридорах уважаемых учреждений (например, домоуправления), вступала в контакт с начальством лично (например, с секретаршей). То, что мужчины сдавались с первого Ийкиного захода, Лику не удивляло, но что и женщины порхали с Ийкиными (Ликиными) бумажками, как весенние бабочки, было непостижимо.
– Ты что – гипнотизируешь их?
– Больше! Я их хвалю!
– Кого хвалишь? – изумилась Лика.
– Кого – это не мое дело. Я хвалю что. Кофточку, помаду, бусы. Спрашиваю, где достали такую прелесть. Через секунду мне улыбаются, через пять посвящают в семейные тайны, назавтра встречают как позарез необходимого человека. Деталь: назавтра приходят в новой кофточке и новых бусах, а я бледнею от восторга. Что? Не веришь, что я могу бледнеть? Пожалуйста!
Ийка оскорбленно выпрямилась и начала бледнеть.
– Не надо, а? Как ты упражнялась в хатха-йоге, я помню прекрасно. Брякнулась без сознания, разбив себе нос.
Подобное утверждение Ийка оспорила как безответственное и нелояльное, и, взмахнув бумагами, многочисленными, как дипломатические ноты не доверяющих друг другу стран, умчалась на приступ следующего кабинета.
Жила Лика у Ийки. Вначале заикнулась было насчет проявительной, но против этого восстал даже муж Васька, произнеся энергичную речь из междометий и суффиксов. Речь Лику убедила.
Настроение было нетерпеливое, как на вокзале. Лика поверила, что вот-вот у нее начнется другая жизнь, не такая, как прежде, от утра до утра, с остановившимся в однообразии временем, а настоящая, наполненная особым смыслом и от этого энергично-радостная и для всех приятная. Лика напишет еще одну статью, а может, и две, или даже несколько, а может, сделает это вместе с Садчиковым, даже лучше если вместе. И заставит Садчикова закончить диссертацию, и у них будут отношения друзей, более интересные, чем отношения любовников, их свяжет не изменчивость и неуловимость чувственных настроений, быстро и легко заводящая в тупик, а игра ума и уважение равных – широкая улица, у которой нет конца. Они будут читать, делиться впечатлениями, ходить на выставки и концерты, регулярно наезжать на Тихое, чтобы отдыхать и возрождаться, потому что сколько бы ни ругала она город, она не могла без него существовать. Они научатся понимать и через это понимание войдут в общий поток духа и станут с о п р и ч а с т н ы. Это и будет счастьем.
Но вызывало недоумение, что столь отрадная гармония, для которой не требовалось ничего сложного, ничего сверх нормы, а может, требовалось даже меньше нормы, то есть меньше того, как казалось Лике, что захотели бы и потребовали другие, – гармония эта никак не наступала.
Во-первых, обмен, даже при Ийкином самозабвенном участии, оказался не столь уж приятной формальностью. По поводу него все заседалось, собиралось, решалось, а также не собиралось и не решалось, что было даже более существенно. Лика никак не могла взять в толк, почему столько инстанций должны тратить свое время на участие в решенном для нее вопросе и что от этого высокого участия меняется. Все равно вместо хорошей трехкомнатной квартиры Лика получает хорошую двухкомнатную и хорошую однокомнатную квартиру, а то, что Лика выложила в придачу еще и тысячу рублей (аварийно достала Ийка), тысячи все равно не вернет, да и знать об этой тысяче никто не будет, а подумать, так взяли с нее даже по-божески, и не столько выложишь, как припрет. На Ликин взгляд, всю эту канительную обменную процедуру можно было закончить в десять минут, выписав вместо одних ордеров другие, только и всего.
Лика за последнее время не раз уже натыкалась на такие никчемные, как ей казалось, сложности, и жизнь представлялась ей чем-то вроде корабля, днище которого облепили мелкие ракушки (читала где-то о таком), и корабль под их тяжестью вот-вот пойдет на дно. Впрочем, она тут же предполагала, что определенно чего-то в жизни не понимает, и в такие минуты особенно хотела поскорее от всего избавиться и поскорее запереться в своей однокомнатной квартире (двухкомнатную мужу – рыцарский жест презирающей женщины, легко принятый разучившимся презирать мужчиной).
Во-вторых, муж. Он надоедал звонками. Он требовал объяснений. Происходящее казалось ему легко исправимым недоразумением. Он согласен сделать телевизор с наушниками. И даже будет стучаться, входя в Ликину комнату. (Но согласитесь – это же чушь, стучаться к жене!)
Лика к телефону не подходила, объяснялась с мужем Ийка. Даже геройски пошла на личное с ним свидание. Разговор произошел в коридоре, до комнаты было некогда дойти.
– У нее любовник? Она из-за любовника сбесилась?
– Любовника нет. Она просто так сбесилась.
– И обязательно менять?
– Обязательно. А то она прикончит кого-нибудь. Деньги мы тебе отдадим позже.
– На черта мне деньги! Что я буду делать один?..
– Заведешь интрижку…
– Все вы стервы, – сказал он зло и бессильно. – С жиру беситесь. Для вас ничего святого!
– А для тебя что святое?
– Для меня все святое!
– Вот проститутка, – сказала Ийка.
Он сжал кулаки и попер на нее.
– Укушу! – взвизгнула Ийка. Оскалила зубы и зашипела по-кошачьи. Классный номер, еще со школы.
– Дуры! – крикнул он. – Твари!
Сел на трюмо и заплакал.
Больше на личные контакты Ийка не отваживалась и даже при телефонных звонках стала бледнеть без всякой хатха-йоги. Лика, видя это, усмехалась злорадно и с удовольствием протягивала ей трубку. Муж говорил о человеческом достоинстве и моральном долге жены.








