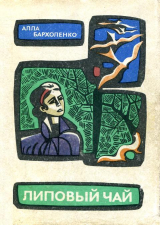
Текст книги "Липовый чай (Повести и рассказы)"
Автор книги: Авигея Бархоленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
И третье было.
Садчиков не спешил общаться с Ли кой ни на дружеских началах, ни на каких других. Он вообще умудрялся не встречаться с ней. Вышел, только что был, вернется через пять минут. Лика перестала его искать. А когда нечаянно вспоминались эти «пять минут», опускала голову, чтобы никто не видел ее лица. Ей было стыдно.
Ах, да не нужен ей никто! Устала она от всей этой суеты, неопределенности и бесплодных мечтаний о своем будущем. Все это копейки не стоит, ни суета, ни мечтания. Скорей бы выходной, чтобы убежать от всего…
Убежать она хотела в Малушино. Полагала, что может убежать. Во всяком случае, рыжий Петя и Полина – люди, которые при теперешнем комплексе ощущений наименее для нее нежелательны.
Но одно то, что она уже думала о Полине и Пете не безусловно, а с оговорками, не предвещало и здесь ничего хорошего.
Собственно говоря, не так уж и мудра малушинская жизнь, как показалось вначале, и не так уж безгрешны и сильны духом ее новые знакомые. Просто у них иной уровень отношений, связанный с предметными категориями природы, собственного дома, огорода, домашней скотины, и эти отношения показались ей более полными и ясными, как бы первичными и потому предпочтительными. Но разве, лишенные этой предметности, оторванные от начальных категорий человеческого существования – земли, хлеба, дающего видимый результат труда, – разве отношения людей в ее городе, оторвавшись, как от детской соски, от начальных категорий бытия, перестали быть теми же любовью или ненавистью, равнодушием, преданностью или предательством?
Она уже догадывалась подспудно, что ее побег в солнечную тишину лесов был бегом от себя, бегом на месте, коротким самообманом, наивным желанием решить сложнейшую проблему примитивным способом. Но признаваться в этом не хотелось, не хотелось даже думать об этом. Может быть, потому не хотелось, что она подозревала, что на истинный поиск у нее недостанет сил, ибо этот поиск требует не удобств внешнего и внутреннего существования, к которым она невольно стремилась, а отречения от них, а это ее почему-то не очень привлекало. И потому она, обнаружив недавно, что благополучный городской комфорт грозит довести ее до нервного расстройства, легко сбежала от него на природу, тоже в общем-то для Лики благополучную и в известном смысле комфортабельную. Столь же легко она отстранила от себя мужа, нимало не страдая комплексом вины или нерешительности по отношению к нему, он выпал из системы ее ощущений, как ненужная вещь. И сделав эти два, казалось бы, достаточно смелых шага, она уже жаждала немедленного вознаграждения хотя бы в виде приятного спокойствия, если уж нельзя в виде полного счастья.
Правда, раза два или три с ней это происходило – что-то похожее на счастье. Было зыбко, тревожно, любопытно, внутри замирало в предощущении чего-то неведомого, уже терялась привычная почва под ногами, еще немного – и она оторвется и полетит и тогда все привычное потеряет для нее цену, и этот момент полета (или падения) ужасающе приближался, оставалось только разжать руки и не сопротивляться, уже брезжили какие-то тайны, но она каждый раз зажмуривалась, чтобы не увидеть их, она напрягалась, сопротивляясь, боясь, что не хватит сил для возвращения, но возвращалась просто, ощущение полета разом прекращалось, она стояла на земле. И только по телу разливалась то ли усталость, то ли сожаление по чему-то утерянному. Нет, эти беспокойные ощущения не могут быть счастьем. И хотя плоскости мира и ее индивидуального существования на какое-то время перестали совмещаться, она не желала углубления разрыва.
И заранее подозревая всякие малушинские приятности в предательстве и опасаясь, что и они могут показаться ей ненужными и раздражающими, она сделала вид, что лишена, раз муж потребовал деньги назад, возможности ими пользоваться. Теперь сруб, стоящий на солнечной лесной поляне, и все остальное придется продать. Как ни жаль, но придется.
Вот она и поехала в Малушино – продавать. Сделать вид, что обстоятельства оказались сильнее ее. Она готова была начать новую жизнь, но, вы же сами видите, ей не дали.
Обычных красот по дороге она не замечала, ехала трезво, как на работу.
Пети и Полины дома не оказалось. Зато у дома вдовы Гаври толклась кучка баб. Стекла в двух окнах Гавриного дома были разбиты.
Кто разбил стекла, бабы не признались, а историю рассказали с подробностями.
У рыжего Пети, стало быть, все сено нынче сгорело. Ну, правильно, Лика об этом знает, сама видела. Не только у Пети, и у других сгорело немало, а скотину-то зимой кормить, а чем? В тюрьму бы этих бандитов, и нисколько не жаль. Да ты не про это, ты про Гаврину бабу давай. А что Гаврина баба, известное дело, что за баба, и девки у ней такие, и замуж девок никто не берет. Хотя, известное дело, и парней у нас не слишком. Да не про парней, а про стекла. А оно все одно к одному. Ну, так вот. Сено у Пети пожгли, а всем известно, что Петя в Гаврин дом уж который год сено за здорово живешь возит. Добрый он, Петя. То-то, что добрый. Только вот к кому он добрый-то? Добро для добра должно быть, а если для зла – то какое же тогда выходит добро? Да Гаврюхина баба тут же ему на шею и села, смотрит и не мигает. Вон с третьего года стог стоит, коровенка сжевать не успевает. Петя-то и надумай к ней: дай, мол, до следующего года сенца, корову, мол, жаль. А она ему: дам, чего не дать, а ты мне за это, голубок, сотню рублей выложь. Как так – сотню? Да и верно, говорит Гаврюхина баба, мало сотню-то, давай сто двадцать… Смотрит и не мигает. Повернулся Петя да на свой двор, губы трясутся, глаза стоят, схватил на кухне нож, не наточил даже, да в хлев корове горло резать. Тупым-то ножом, о господи! Что ведь проклятая Гавриха с человеком сделала! Она, Гавриха, думала вечно на Петиных закорках кататься. А и каталась бы, коли б поумнее…
– Да где он сейчас, Петя-то?
– Да на Тихом, шашлыки из говядины нижет. Ну, а мы тут по-свойски с Гаврихой поговорили…
Бабы хохотнули довольно.
Лика посмотрела еще раз на Гаврин дом. Там, за разбитыми стеклами, что-то метнулось. Вдова Гаври и ее дочери пережидали осаду.
Лика попрощалась с женщинами и двинулась по тропинке к озеру.
С полдороги послышался из лесной тишины перестук топоров. Может, строится кто-то, может, заготавливают еще один сруб. Топоры стучали ей навстречу все громче, как раз со стороны Петиной землянки. Может, ей повезет, и тот, кто строится, купит у нее если не сруб, то хотя бы заказанное на стройучастке. Лика прибавила шаг.
Она ошиблась. Те, что строили, ничего не могли купить. Потому что строили ее дом.
Сруб был вывезен и скатан, и посажен на мох, а Петя и еще трое мужиков ставили стропила.
– Не надо! – крикнула Лика. – Не надо ничего!
Петя широко улыбнулся. Там не было слышно ее слов.
– Я не хочу! – крикнула Лика. – Кто вас просил?..
Топоры зазвучали веселей.
Внизу была тень, а стропила и плотников освещало низкое солнце. Петина голова розово сияла.
– Дурак! – крикнула Лика. – Рыжий дурак!
Топоры вошли в ритм, стучали дробно и отчетливо, стропила отзывались им напряженным гудом, народившийся дом поскрипывал и покряхтывал, устраивая поудобнее свои ребра.
– Нет, – сказала Лика. – Нет. Все нет.
Повернулась и, ничего не видя и ничего не желая видеть, пошла прочь от дома, от Пети, от многоголосой тишины леса, от зыбких настроений, от своего хорошего и своего плохого, – прочь, скорее и дальше, в сторону асфальтированной дороги.
* * *
Садчиков вдруг уволился с работы и вообще уехал, и никто не знал куда. Ийка начала было доказывать, что дело тут не так просто, как кажется, но Лика взглянула на нее никакими глазами, и Ийка умолкла.
Желанную однокомнатную квартиру Лика получила, а Ийка помогла достать два ковра – на одну стену и часть пола.
Через некоторое время к Лике наведался муж, принес хрустальную вазу из прежнего общего хозяйства и цветы – три белые, экзотически равнодушные каллы.
Цветы эти Лика терпеть не могла, причина была давняя и располагалась между окончанием школы и поступлением в институт. Познакомилась тогда на литературном вечере с человеком, красиво обо всем говорившим и писавшим печальные стихи под псевдонимом Туманов. Месяц встречались и перезванивались, он говорил, что это навсегда, и наконец, пригласил посмотреть свое убогое жилище поэта. Жилище было двухкомнатное и гарнитурное, а на столе в хрустальной вазе – подороже, чем эта, которая из бывшего общего хозяйства, – стояли белые каллы. Поэт пошел приготовить кофе по-турецки, юная Лика благоговейно потянулась понюхать цветы и заметила брошенное на стол свидетельство о браке, из которого тут же узнала, что хозяин квартиры посетил загс три дня назад, и кроме того догадалась, что коварные каллы – из свадебного букета.
Лика налила воды в принесенную мужем вазу, сунула в нее толстые ноги цветов и, поскольку полированного стола еще не было, поставила вазу на пол. Получилось вовсе недурно. Муж смотрел робко. Лика сказала, что приготовит кофе по-турецки.
По-видимому, кофе мужу понравился, он стал приходить каждый вечер, помолодел и подтянулся, приобретя классические стати счастливого жениха, и Лика подумала, что он не так несносен, как казался раньше.
* * *
Еще через две недели прошел слух, что Садчиков умер. Ийка осторожно ей об этом сообщила, но Лика отмахнулась.
– Ты не веришь потому, что боишься, – недобро сказала Ийка.
– Чего же я, по-твоему, боюсь? – спросила Лика.
– Что это правда, – сказала Ийка.
Лика пожала плечами:
– Меня это не касается.
– Врешь! – закричала Ийка, и глаза ее заполыхали, как у кошки. – Я не хочу верить, что по этому человеку некому плакать!
– Не думаю, что некому, – сказала Лика. – У него две жены и два сына.
– Какое это имеет значение? Ты должна любить его!
Странно отозвалось в Лике это слово – любить, будто в ней, в самом дальнем далеке, в самых темных глубинах слабо мерцал крохотный, ничего не освещающий огонь, и не огонь даже, а тление, как в золе прогоревшего костра, а теперь слово это, произнесенное напористым Ийкиным голосом, придавало немощный полусвет, который давно ждал подобного случая, – он распластался и загинул, и везде внутри стало одномерно, безлично и навсегда.
Ийкин голос не отставал, все силился прорваться в глухие потемки, все повторял, будто бил в барабан:
– Ты должна любить! Ты должна!
– Да? – спросила она как бы издали, на самом пределе, на излете смысла и слов. – А почему?
– Потому что мы живем, чтобы любить! – кричала Ийка, будто ее резали по живому. – Если мы перестанем любить, то скоро перестанем жить!
Из ее темноты ничто не отозвалось этому крику, и она сказала:
– Пусть…
А сумасшедшая Ийка крикнула:
– Уйди из моего дома!..
Впрочем, Ийка кричала напрасно. Через несколько дней пришла открытка с видом на таежную речку. Садчиков слал всем привет и звал в гости. Приглашение всем понравилось, стали говорить, что можно было бы съездить – на будущий год или еще когда.
Ийка мельком взглянула на Лику. Лика молчала.
После работы Ийка занесла в рентгеновский кабинет чью-то историю болезни. Лика вежливо поблагодарила. Домой отправились вместе.
Когда молчаливо отшагали второй квартал, Ийка проговорила:
– Ты понимаешь, что он зовет тебя?
– Кто? – равнодушно удивилась Лика. Ийка возмущенно остановилась, а Лика усмехнулась: – А, этот…
Тут Ийку затрясло, хоть подключай динамо. Так она стояла, тряслась и смотрела Лике в лицо. А когда увидела, что никакого лица нет, то трястись перестала, а просто пошла в какую-то другую сторону.
* * *
Вечером в гостях у Лики был муж. Муж принес каллы, а Лика напоила его кофе по-турецки.
РАССКАЗЫ
СТАРАЯ
Она лежала без сна, не двигаясь, терпеливо дожидаясь утра. В густом воздухе мазанки с запахом увядшей травы, земляного пола и вареного в очистках картофеля висело сонное дыхание большой семьи. Изредка дворной пес, вздрагивая во сне, брякал тяжелой цепью. Старая не замечала этих привычных звуков, для нее дом был полон тишиной и ночью. За его стенами тоже были тишина и ночь.
Она лежала и ждала, когда можно будет встать и приняться за те повседневные дела, которые заканчиваются с каждым днем и с необходимостью возобновляются каждое утро.
Темнота в маленьком окне не стала бледнее, но давняя привычка сказала ей, что утро началось. Она поднялась. В ту же минуту осипшими голосами закричали два петуха. Привычным движением она нащупала подойник и неслышно вышла из дома. Корова позвала ее коротким мычанием.
– Иду, матушка, иду… – И, затянув потуже узел головного платка под подбородком, отворила хлев.
Корова ткнулась теплыми губами ей в щеку, ухватила за платок.
– Балуй! – нестрого и привычно сказала она, как говорила каждое утро.
Тонко зазвенели первые струи молока о дно ведра. Корова медленно выдавила из себя жвачку и медленно задвигала челюстями. Порой она останавливалась, не дожевав, и забывала проглотить. Корова была немолода и о чем-то думала.
Выйдя из хлева, старая взглянула на низкое, еще неразгулявшееся небо и что-то пошептала. Может, при начале дня ее губы заученно произносили молитву, а может, она и забыла, что это было когда-то молитвой, губы шевелились без звука и слов, и не возникало никакой мысли.
Она подошла к соседней двери и выпустила гусей. Последней в темноте дверного проема показалась большая белая гусыня. Гусыня пригнула к земле голову и что-то сказала.
– Неужто? – всполошилась старая и скрылась в сарае.
Там еще продолжались густые сумерки, предметы едва обозначались, но она знала этот сарай весь свой век, ей не нужно было видеть, чтобы найти там что-то. Она пошарила корявой рукой по соломе и натолкнулась на теплое тельце гусенка.
– Занемог, сердешный?
Гусенок попытался встать и не смог. Она взяла его и вынесла из сарая и, подстелив свой фартук, положила в сторонке так, чтобы солнце, взойдя, сразу стало его лечить и греть.
Гусыня, пригнув голову к самому подолу старухиной юбки, снова что-то сказала.
– Ничего, ничего. Живехонек будет, ничего…
Гусыня успокоилась и, подняв голову, степенно зашагала к ожидавшему ее стаду.
Быстро светало.
Росистое утро было прохладным, но босые ноги привычно проложили по траве две темных дорожки к колодцу. В доме просыпались, выходили на улицу и лили на руки и лицо студеную воду. Пес встряхивался, гремел цепью, приседал на передние лапы и взлаивал, приветствуя многих своих хозяев. Из трубы по скату крыши пополз дым. Вдали затрещала колотушка пастуха. Хозяйки выгоняли на дорогу скот и издали переговаривались. Из-за холма медленно поднималось солнце.
Старая поела отдельно, приткнувшись к краешку кухонного стола. Так повелось давно. Ни ее сын со своей семьей, ни она сама не считали возможным звать ее за общий стол. И не всегда ей наливали из общего чугуна, и она доедала то, что оставалось после всех. Она не обижалась и не роптала, она находила это естественным. Она не испытывала голода и принимала пищу больше по привычке, чем из желания есть.
Сколько ей было лет, она не помнила. Иногда у нее появлялось ощущение, что она никогда не рождалась, а была и есть все время, как та земля, по которой она ходит. Считали, и сын ее тоже, что она зажилась на свете, но поскольку она не жаловалась и не требовала ничего, то ее терпели и не попрекали тем, что она живет. За это старая в глубине своей души испытывала к сыну скрытую благодарность: хороший сын.
Она поставила есть поросенку. Поросенок очистил корытце, почавкал впустую и повалился на бок, приглашающе хрюкая.
– Ишь, шельма, ишь, нехристь! – ласково бормотала она, почесывая шершавое от щетины брюхо. Брюхо счастливо вздыхало. – Ну, будет, будет…
Животные не испытывали перед ней обычного страха, чувствуя в ней что-то равное себе. Все другие были хозяевами и властителями их жизней, и они из мудрой осторожности старались держаться от людей подальше. Ей же они добровольно давались в руки, охотно принимали ее ласку и часто внимательно смотрели в лицо. Она кивала этим внимательным глазам, вздыхала:
– Ах ты, господи!
Это могло значить что угодно. И жалость к безмолвным тварям, и радость, что бог послал щедрый день, и неопределенную жалобу на что-то.
И ее понимали.
Она сидела на земле, подстелив под себя ветхую ватную фуфайку, пасла гусей и теленка. Солнце вливало тепло в покривленную спину, а она смотрела вокруг выцветшими глазами и, пожалуй, ничего особенного не замечала. Все было как обычно, так, как было вчера и будет завтра. Тянулись поля без конца. Как гости не ко времени, стояли в них кучки деревьев. Трещал трактор. Двумя нестройными рядами стекали в низину хаты. Замерла река. Жужжали пчелы. У жаворонка в высоте перехватило дыхание. Бледно-голубое небо простирало над всем свою необъятность. Так было вчера и так будет завтра.
И как вчера, она сказала всему этому миру:
– Ах ты, господи!
Заслыша шепот старухи, теленок перестал щипать траву, посмотрел на нее овальными кроткими глазами, полными печали, ласки и немного удивления перед всем. Белая гусыня вытянула шею, высмотрела что-то и, что-то поняв, приказала стаду. Молодые тоже вытянули шеи и тоже смотрели. И все вокруг замерло в зное и солнце. Спохватываясь, она говорила:
– Ну-ко, милые, ну-ко. Паситесь, родные, паситесь…
Оцепенение проходило. Гусыня разрешала стаду заняться делами. Теленок, взмахнув хвостом, пускался вскачь.
А морщинистое лицо сжималось в медленной улыбке.
В полдень она привязала теленка к колышку и погнала гусей домой. За плечами у нее висел мешок с травой. Там же лежал больной гусенок, его лапы, обложенные листиками и корешками, были обмотаны тряпицей. Дома она долго держала гусенка у корытца с водой, ждала, пока он напьется, потом отнесла его в солому и прикрыла своей старой кофтой.
А потом еще нужно было переделать много дел: подоить корову, запасти травы на вечер для всей скотины, вычистить в сарае, начать окучивать картошку, наносить воды, полить огород… Делам никогда не было конца. Солнце уставало за день и клонилось к западу, а старушечья спина все кланялась то колодцу, то навозу, то русской печке.
Вечер принес прохладу и гомон. Перекликались голоса. Взревывали подкатывающие к домам мотоциклы. Стая грачей закрыла небо. Из какого-то окна ударил джаз. Кричала заблудившаяся овца. Чья-то корова, стоя на дороге, мычала протяжно и упорно. Потом звуки сникли. Скотина задремала в хлевах. Наскоро разметав неоконченные дела, захрапели хозяева. И лишь старая при свете тусклой лампочки еще возилась на кухне.
Но вот и она стелет на скамье одежку, осторожно укладывает на нее свое невесомое тело и неслышно лежит ночь. Она почти не спит и не видит снов. Сны принадлежат прошлому, а ее жизнь забылась и не существует, как забылся и не существует канувший день, и прошлого у нее уже нет.
Она лежит, терпеливо дожидаясь утра. В густом запахе увядшей травы, земляного пола и вареного в очистках картофеля висит сонное дыхание большой семьи. Дворной пес, вздрагивая во сне, брякает тяжелой цепью. А для нее дом полон тишиной и ночью.
И за его стенами тоже тишина и ночь.
РАДУГА В СТАРОМ САРАЕ
Горы. Лес. Солнце в высоком небе. Серая деревенька, как некрасивая девка, накинула на плечи яркий плат огородов. За обдутым восточными ветрами елтышем крепко стоит большеглазый дом мастера Ильи Федоровича Варфоломеева. Широкими окнами своими и тем, что стоит в уединении, дом отличается от остальных. Илья Федорович строил его сам, неторопливо и любовно. И хоть было это давно, дом крепок, как медведь-трехлеток. Пологие горы и простор неба. И вокруг зеленый шум тайги.
В доме пахнет мытыми полами и лекарством. Илья Федорович отводит руку жены с таблетками, говорит тихо:
– Не мешай, мать… Помирать буду.
– Может, подождал бы, отец? Дай к окошечку пододвину тебя. Небо-то нынче лазуритовое.
– Нет, Анюта. Трудно веки держать. А камень лазурит и с закрытыми глазами вижу…
Илья Федорович лежал, вытянувшись, большой, костлявый. Тонкие узловатые пальцы, пропитанные каменной пылью, чуть подрагивали, словно протестовали против непривычного покоя, словно хотелось им что-то сделать напоследок.
Кто-то прошел мимо окна. У крыльца неохотно тявкнул Полкан и уступил чужому дорогу – от старости пес стал относиться к людям снисходительно.
– Кто идет? Не Серафим ли? – с надеждой спросил старик.
Серафим был их сын, последыш, рыжекудрый, буйный и пьющий. Остальные сыновья погибли в войну.
– Нет, чужой кто-то… – вздохнула Анна Назаровна.
– Помереть не дадут, – проворчал Илья Федорович. Однако приоткрыл глаза и посмотрел на дверь.
Чужой вошел. Был он молод. Не то, чтобы парень, но и не мужик еще.
– Мастер Илья Федорович здесь живет? – спросил он. Заметив больного, принизил голос.
– Здесь-то здесь, – ответила ему Анна Назаровна, – да плох он. Отходить собрался.
– Как отходить?! – и не понимая и уже догадываясь, шепотом воскликнул человек. Почти подбежал к постели, хотел сказать что-то. Посмотрел на сложенные руки на груди и замялся.
– Пошто тебе мастер? – не открывая глаз, спросил Илья Федорович.
– Учиться хотел… – слова сказались неохотно, и скользнула в них наивная обида оттого, что невыполнимо желание.
Сложенные руки мастера зашевелились. Из-под морщинистых век взглянули и белесые вроде и голубые в то же время глаза. Смотрели неподвижно и непонятно как. Закрылись.
– А ты – кто? – спросил старик.
Молодой человек перевел взгляд на окно. Там к самому дому подступали таежные ели. И грибы, наверно, тоже под окошком растут. Ну, как скажешь о том, кто он, если он и сам толком не знает этого. Да и что можно сказать? Что не помнит родителей, что и фамилия у него – Найденов? Или что ему скоро двадцать пять и что был он почтальоном, трубочистом, столяром, механиком на обском катере, что мотало его по стране от Калининграда до Сахалина? Что на земле миллионы дорог и что каждая по-своему хороша, но которая-то из них – единственная? Он почувствовал, что она где-то близко, когда бродил с геологами и поднял в горах несколько ярких камней. Любовался камешками, как ребенок, а геологи добродушно сыпали к его ногам новые сокровища. Как сказать о том, что камень заинтересовал его? И о том, как радовался, когда поступил на гранильную фабрику, как послали его в техникум, как весело учился вытачивать овальные броши из халцедона, потом вернулся на фабрику, и засосала его тоска, потому что брошки оставались брошками и тогда, когда камень хотел быть чем-то другим – фабрика гнала план. И как ушел он оттуда, охотником бродяжил по тайге, стал даже старателем, но прикипело сердце к цветным камешкам, и попробовал резать самостоятельно. Получилась дрянь, отдал мальчишкам на забаву. И опять тянулся в тайгу за камнем, опять резал и опять выбрасывал. Так разве расскажешь об этом, да еще с ходу, да еще если человек умирает. И на вопрос, кто он, – он ответил:
– Алексей…
– Из города?
– По всякому было.
Старик молчал.
Алексей догадался, что молчание нужно старику, чтобы набраться сил для новых слов. Ждал.
– Про меня узнал от кого?
– Краевед наш сказал… Анисимов.
– Григорьич?
– Он.
На этот раз и совсем надолго замолчал Илья Федорович. Лицо, как из серого камня выточено, не дрогнет. Алексей взглянул на Анну Назаровну, а та стояла, не решаясь мужа окликнуть: если и умер – пусть подольше живым кажется.
– Покажи, что сработал, – внятно и строго велел Илья Федорович.
Алексей поспешно скинул с плеча потрепанный рюкзак, достал узелок, В узелке бренчало. Стал показывать цветные броши, ожерелья, белочек на дереве, медведя у муравьиной кучи. Из хрусталя, авантюрина, орлеца, яшмы. Илья Федорович долго не рассматривал, лишь медведя с муравьями попридержал. Спросил:
– На гранильной работал?
– Было… Как догадались, Илья Федорович?
– По работе скучной… Накорми его, Анюта.
Оставшись один, старый мастер вздыхал гулко, будто грудь прочищал. К вечеру, когда закатное солнце позолотило небо, попросил придвинуть себя к окну. Сказал:
– Сейчас не лазурит. Сейчас хризолитом пошло, а по верху зеленью аквамариновой…
Когда заглянул к нему, скрывая растерянность, Алексей, Илья Федорович велел жене принести ящик с камнями, заготовленными для поделок. Долго выбирал, кряхтел, прищуривался, а выбрав, сказал:
– Вот тебе, Алеха, кусок малахитовый. И задача тебе одна: должон ты показать в нем камень.
Принял Алексей от мастера камень величиной с хороший кулак. Был камень поверху мутноват, рисунок затаил. А старик так и впился в Алексеево лицо, выискивал, вычитывал в нем что-то. Встретил Алексей дедов взгляд и понял, что не камень показать должен, а себя раскрыть через камень. Хотел знать Илья Федорович, не только с каким мастерством, но и с какой душой пришел к нему человек. Алексей побелел от волнения. Пальцы так сжали малахит, словно разломить хотели, чтобы выискать сокрытое внутри – не зря же старый мастер из всех выбрал этот кусок.
– К завтрашнему вечеру приготовь, – устало сказал Илья Федорович. – До завтра погожу помирать.
Срок был сказочно мал.
Но у старика времени было еще меньше. Почти совсем не было времени. Алексей подумал вдруг, что не приди он сегодня в эту бревенчатую избу за округлым гранитным елтышем, уже, может, и вовсе кончилось бы стариково время.
Анна Назаровна провела Алексея в прохладную горницу, двумя окнами на север, со столом от стены до стены. На левом окошке висело на серебряной цепочке турмалиновое зеркальце – поперечный срез многоцветного кристалла турмалина. Алексей так и потянулся к нему, тронул цепочку – прозрачная пластинка засверкала жар-птицей, заиграли тонкие и чистые краски геометрически правильного рисунка. Сердце захолонуло от восторга.
Анна Назаровна пододвинула плоские ящички с инструментами, погладила по плечу и ушла. Алексей остался один в мастерской старика.
Долго сидел он, уставясь на цепочку с турмалином. Странное оцепенение не несло никаких мыслей, только поглощало минуты. Минуты, которых было так мало. Кусок малахита, как положил его Алексей на чистый стол, так и лежал нетронутый. Окна, обращенные на север, потухали, словно покрывались пылью. Погас и яркий турмалин. Темнело. И в сумерках отчетливее стал шепот вековых елей.
Всю ночь просидел Алексей, прислушиваясь к шороху ветвей за окном, да смачивая малахит то здесь, то там, чтобы резче выступил рисунок, да так и не тронул резцом ни одной стороны.
Утренняя заря растворила ночь до прохладной голубизны. Голубизна поднялась вверх и стала дневным небом.
Наконец заметил Алексей, что взгляд его чаще всего останавливается на самой малой стороне камня. Он стал смотреть на нее осознанно, пытаясь определить, чем эта сторона предпочтительнее других, но причины такой не понял. И все-таки глаз выбирал именно ее, и Алексей доверился чутью, перед которым ум его был пока бессилен.
Он тщательно шлифовал сторону, отгонял разочарование, – слишком незатейлив рисунок. Собственно, рисунка не было вовсе. Просто светлые линии уходили куда-то вглубь. Густота и сочность окраски усиливались к середине, и когда Алексей почувствовал, что шлифовать достаточно, и отставил камень подальше, чтобы понять все-таки, ради чего столько бился над ним, его обдало холодком волнения. Та самая густота тона в середине и уходящие вглубь линии, а вокруг необработанная, нетронутая тусклость создавали впечатление входа в камень, и начинало казаться, что там, в глубине, сокрыто что-то тайное, и хотелось войти в камень и узнать, что же это такое.
Тут же Алексей заметил, что от разных поворотов камня это впечатление то усиливается, то уменьшается, и понял, что камень нужно закрепить неподвижно. Он выбрал на дворе полешко попригоднее, отпилил часть, грубо и свободно обстругал, усадил камень в нужном наклоне. И по дереву слегка, намеком, вырезал кирку.
И эта маленькая деталь – означенный на подставке для камня инструмент геолога – вдруг вдохнула жизнь, наполнила смыслом отшлифованную грань. За ней ощутилось присутствие человека, долгих трудов его, увенчавшихся успехом. И то, что зеленый камень не обнажился весь, а лишь приоткрылся и манил в свою глубину, давало ощущение неоконченного пути, и понятно делалось, что на пути этом еще много будет находок.
И не раздумывая больше, не давая себе времени на сомнения, Алексей взял свою работу и пошел к Илье Федоровичу.
Старик, как и вчерашним вечером, лежал у окна. Когда он посмотрел на Алексея, взгляд его был далек, словно не успел вернуться из дальних странствий в прошлое.
– А-а… Ты, Алеха? Подойди…
Алексей подошел, не совсем уверенно протянул мастеру сделанное и тут же обругал себя последним дураком. Ну, что он смог? Где теперь та мысль, что казалась понятной еще пять минут назад? Ничего такого нет. Дерево и камень. Не ту, видно, сторону выбрал. Хотелось убежать от стыда. Старик помалкивал, глядел.
– Вона, как повернул… – сказал наконец. Вроде даже с уважением сказал. И помедлив еще, с горькой обидой воскликнул: – Где же ты ране-то был, Леха? Хоть бы на годик пораньше пришел…
Задохнулся и прикрыл глаза от бессилия.
И Алексея тоже охватила обида, и за старика обида, и за себя, словно виноват кто-то был, что не встретились они раньше. А Илья Федорович, то и дело прикрывая глаза от усталости, говорил:
– Сколь просил, чтоб мне парнишек способных в обучение дали… Невозможно, говорят, уж больно в глуши живете, – передразнил кого-то Илья Федорович. – Переезжайте, мол, в город, учите в техникуме… По два часа в день! – Руки старика сердито задвигались. – А чему я за два часа научу? Мастерству нужно жизнь отдать, а не по два часа, – жизнь, ты понимаешь?.. А в городе у меня рука не та, и голова шума не выносит, и глаз меркнет – свет в городе другой. Только в глуши этой самой я работать по-настоящему мог…
Он вздохнул, с усилием повернул голову к окну, посмотрел на мохнатые лапы елей.
– Глянь – гость какой…
На ветке у самого окна сидела ярко-желтая, как ранний одуванчик, иволга и любопытным глазом хотела рассмотреть, что делается в избе.
– А ты говоришь – город! – упрекнул старик, хотя Алексей ничего про город не говорил.
Иволга свистнула тонко, перескочила еще ближе и теперь заглядывала в окно другим глазом.
Вошла Анна Назаровна. Илья Федорович сказал:
– Обмыться приготовь, мать.
Встретив ее горестный взгляд, усмехнулся:
– Да ты не того… Не так поняла, Анюта. Раздумал я покуда помирать.
Остаток дня и ночь лежал он тихо, без сна. Утром велел подать чистую рубаху и порты, чистым застелить постель. Помолился истово, вдумчиво.
– Теперь приступим, Леха. Слушай и запоминай. А хочешь – записывай. Что узнал за свой век про каменное мастерство, расскажу. Только беда, малый, в том, что всего не расскажешь. Это, малый, как любовь – на сердце много, а слово одно. Ну, перво-наперво, когда работаешь, не отяжеляй себя пищей. Брюхо набито – на душе пусто…











