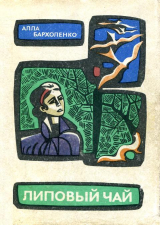
Текст книги "Липовый чай (Повести и рассказы)"
Автор книги: Авигея Бархоленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Над лесом разлилось прохладное сияние. Взошла луна.
Странная женщина села рядом с Павлой.
К привычным звукам вечерней тишины присоединился еще один, совсем непонятный, то ли плач, то ли стон, однообразный и нескончаемый.
Павла мгновение вслушивалась, не двигаясь. Потом повернулась к костру и увидела, что Катерина, сидя у огня, то наклоняясь, то откидывая назад голову, негромко и жутко воет.
Павла не сказала ничего, снова повернулась к дороге, в сторону темнеющего леса.
Ох ты, ноченька,
Ночка темная… —
завела Павла, завела ни на кого не глядя, глядя в темнеющий лес.
Ночка темная
Да ненастная…
Пела, выводила протяжно, чуть покачивая головой, и не пела даже, а выговаривала, и голосом выговаривала, и лицом, и бабьей печалью своей. И тихо стало у костра, сжала голову руками Катерина, закрыла глаза, наступила на боль свою. И с закрытыми глазами, так же покачиваясь, подсоединилась к Павлиному голосу:
Ночь осенняя…
У той, что пришла и села рядом с Павлой, было неподвижно лицо. Так, с неподвижным лицом, она и вступила в песню, вступила отчаянно прекрасным голосом.
Афанасий открыл хлев, сел на опрокинутый ящик около коровы, подставил под вымя подойник. Корова покосила на него большим глазом, в глазу отразился чурбан, об который колют дрова, а на чурбане – рыжий кот.
– Не балуй, – предупредил Афанасий корову.
Корова обмахнулась хвостом, осторожно переступила, нацелила глазом на подойник.
– Все, что ли? – спросил у нее Афанасий, разминая вымя. – Ну, шагай…
Корова мотнула головой и ловко попала задней ногой в молоко.
– Опять же дура, – спокойно сказал ей Афанасий. – Еще и смотрит. Ополоснулась? Ну, и проваливай!
Корова с ухмылочкой вышла из сарая, напугала кота рогами, мордой толкнула калитку и, разом остепенившись, выплыла на улицу, где приближалась колотушка пастуха.
Афанасий стоял у хлева, смотрел, раздумывая, в подойник. Пошел к другой двери, к страстному хрюканью, вылил молоко свиньям, остаток выплеснул в поилку для кур. Куры неторопливо подошли, стали пить, разом вздымая кверху клювы. Кот спрыгнул с чурбана и тоже направился к поилке. Залакал, брезгливо вздрагивая кончиком хвоста.
У плетеного забора остановилась соседка Мария.
– Доброе утро, сосед!
– Здорово, Мария Андреевна.
– Хозяйствуешь?
– Помаленьку.
– Не помочь ли чего?
– Сам.
– Эх, Афанасий! Чего уж так-то? Сам да сам… – сказала Мария, сожалея.
– Управляюсь… – Афанасий не захотел понимать намека, нацелил топором в полено.
– Экий ты… Слова по простоте не скажешь, – упрекнула Мария. – А со зверьми – разговариваешь… Слыхала ведь!
– То звери… – протянул Афанасий. – Звери ответить не могут.
– Полно-ко! – губами улыбнулась Мария, а глаза остались серьезными. Усталыми были глаза. – Разве баба не добрее?
Афанасий вздохнул, промолчал.
Мария сказала укоризненно:
– Жизнь-то уходит, Афанасий…
Афанасий и на это не отозвался.
– Принцессу ждешь, али что? – усмехнулась Мария. – Так принцесс-то нету ноне… – Окинула взглядом обтянутую выцветшей рубахой спину Афанасия. – Красиво колешь… А я пироги задумала, Васюта моя вчерась грибов нанесла…
Мария оглянулась, приникла к забору:
– Слышь, Афанасий… Взял бы ты меня женою!
Афанасий замер с занесенным топором. А когда опустил – даже в чурбан не попал.
– Ты смотри-кось! – изумился топору Афанасий.
– Хозяйство я держу исправно, – говорила Мария и вроде со стороны на себя смотрела. – Годами подхожу, гулящая была не больно… Может, сладилось бы напоследок?
И с тихим укором:
– Уж ответил бы!
– Ты вот не того, Марья… Не надо бы! – Афанасий попятился, наступил на кота, кот рявкнул дурным голосом и взвился на ворота. – А чтоб тебя!
– Или – тоже балованный? – позволила пробиться обиде Мария. – Молодую взять хочешь? Так на дочке моей женись. Молодости больше дается, закон уж, я отступлю, коли так. Не больно красавица Васюта, не дал ей господь, да по твоим-то годам и скидку можно сделать… Господи, хоть бы ей-то не маяться одной! Слышь, Афанасий, а в работе Васюта хороша, хоть с кем потягается. Ну, что ты молчишь-то? Четыре бы руки в дом взял, то-то бы все закипело!
– Бессовестные вы, бабы, вот что! – не выдержал Афанасий, пробуя пальцем зазубрину на топоре. – Разве в этом деле так положено?
– Да милый ты мой, – приникла к забору Мария, – да кто же мне теперь объяснит, что ныне положено, а что не положено? Эх, Афанасий, деревянная ты душа!
И оттолкнула забор.
– Да что уж, ей-богу… Затеяла вот… – вертелся и так и сяк Афанасий. – А еще говоришь – звери… Звери – они звери!
– Ну, чего извиваешься? – тихо сказала Мария. – Смотреть на тебя нехорошо… В глаза нужно глядеть, когда такой разговор идет!
– Ты опять здесь, паршивец?.. – крикнул Афанасий коту.
Кот от неожиданности изогнулся дугой.
Мария повернулась, чтобы уйти.
Вот в спину-то ей говорить куда просторнее, и Афанасий сказал:
– Я ведь и думал, раньше-то… Да вот как-то все… Ну, коль сорвется у меня дело одно – к тебе приду.
Мария остановилась.
– Какое дело-то, господи? – спросила она.
– Свататься иду, – сказал Афанасий и направился к дому.
В раскрытую калитку воровато пробралась Жучка. Жадно залакала молоко из куриной поилки. Заслышав шаги Афанасия, спряталась за бочкой.
Афанасий, по дороге надевая мятую кепчонку, вышел со двора.
Жучка и Мария проводили его взглядом.
Женщины, вялые с утра, сидели на краю канавы, лениво лузгали семечки.
Подошли Павла, Катерина и та, незнакомая, с неподвижным лицом.
– Ну, бабы, как спали, какие сны видали? – спросила Павла.
– Ой, подруги, а мне-то что наснилось! – тут же удивилась Клаша. – Будто бы вовсе голый баран!
– Без хвоста, что ли? – не поняла Таисья.
– Стою будто здесь на дороге, – все рассказывала Клаша, – передохнуть разогнулась, а из-за кустика вот так – баран! Весь голый, вот как ладошка, и даже цветом похож. Остановился он передо мной и говорит: ме-е…
– И что? – заинтересованно спросила Сима-Серафима…
– И все, – пожала плечами Клаша, – больше ничего не наснилось.
– Без фантазии ты, Клашка, – сказала Верка Стриженая. – Не было – придумала бы!
– Зачем же это я стану врать без всякой к тому причины? – удивилась Клаша.
Таисья все постреливала глазами в сторону новенькой и наконец не выдержала:
– Это кто же с тобой, Павла? Тоже с нами работать будет?
– Вроде, – не очень определенно ответила Павла.
– Эко, глазищи-то! – изумилась Сима-Серафима. – Где же ты себе такие глазищи отхватила, подруга?
Новенькая опустила ресницы, как забором прикрылась.
– Тебя как зовут? – подкатилась к ней Таисья, и нетерпеливое ожидание было на ее лице. – Слышь? – Толкнула в бок. – Как зовут, спрашиваю?
Губы новенькой разжались неохотно:
– Матильда…
– Господи-Сусе! – испугалась Сима-Серафима.
Клаша определила недоброжелательно:
– Манька, стало быть!
Таисья все не могла отстать:
– Платье на тебе какое… Нерабочее. Сама шила? У портнихи? Да куда ты все смотришь?
Матильда молча отошла от Таисьи.
– Она что – не в себе? – обиженно спросила Таисья у Павлы.
– Кончай базар, бабы, – недовольно проговорила Павла. – Иной раз и помолчать не грех. Да и время! Приступим, благословясь…
Подошла к Матильде, взяла за руку:
– Идем, подруга, покажу, как камешки укладывать. Той стороной, что поглаже да попросторнее – кверху. Да сверху молоточком – тук, тук…
Женщины раскидывали лопатами песок, который самосвалы заранее ссыпали по обочине ровными желтыми холмами, заваливали выбоины, трамбовали. Сторонкой к ним подошел Афанасий. Женщины будто не заметили его, только руки засновали проворней.
Афанасий сел на бугорок. Похоже, что решил смотреть долго.
Тогда Таисья возвестила:
– Глянь, бабы, штаны пришли!
– Ох, да никак Клашкин баран! – сказала Верка Стриженая.
– А чего он сел-то? – спросила Клаша.
– Ноги не выдержали, на тебя засмотрелся, – ответила Верка.
– А может, жена выгнала… – тут же пожалела человека Сима-Серафима.
А Катерина Павле, доверительно:
– Павла, это тот, вчерашний… Что на тебя смотрел!
– За погляд ныне денег не берут, не разбогатею, чай, – отмахнулась Павла.
А сама, наклоняясь, проверила – на нее ли смотрят.
Клаше стало неприятно, что заговорили о каком-то вовсе другом мужчине, и она сказала:
– А мой Аскольд Тимирязевич Птичкин вчерась конфет купил. Триста граммов, подушечками. Мы с ним чай пили. А в кино не пошли.
Верка Стриженая дождалась, когда Клаша свое доскажет, и снова к Павле:
– Не иначе он тебя, Павла, на свой аршин примеряет…
– Должно, лентяй мужик, с утра работы не нашел, – ревниво похулила Таисья.
– А мой Аскольд Тимирязевич Птичкин утром всегда на работе, – с удовольствием вставила Клаша. – Утюги чинит.
– А говорила – научный! – удивилась Сима-Серафима.
– Ну… Он научно чинит! – не растерялась Клаша.
– То-то у меня в прошлом годе электрический чайник после ремонта взорвался! – вспомнила Верка Стриженая.
– Он вовсе недавно стал с утюгами, – обиженно возразила Клаша. – До этого он был агентом.
– Шпиён?! – сделала круглые глаза Таисья.
– А да ну вас! – совсем обиделась Клаша.
Выведя Клашу на некоторое время из разговора, женщины вернулись к более интересной теме.
– Павла… Бригадирша, эй! Поиграла бы с ним… – подмигнула в сторону Афанасия Верка Стриженая.
– Это как поиграть-то? – будто не поняла Павла.
– Уж и не знаешь? – усмехнулась Таисья.
– А давай научу! – расщедрилась Сима-Серафима. – Одной к нему сторонкой повернись, другой к нему сторонкой повернись – ну-ка у тебя всего! На него смотри, а сама будто мимо… Враз взопреет мужик!
– Кошке-то игрушки, а мышке что? – засмеялась Павла.
– А ты серьезу не придавай, – сказала Верка. – Ты для веселья только, а там и от ворот поворот.
– Вот ежели бы меня растревожить… – замечтала Сима-Серафима и передернула плечами.
– Опять базар, бабы? – Павла хотела было пристрожить бригаду, да не получилось строгости, опять улыбка на губах, а внутри забытая радостная сила. – Что-то ноне работнички из нас хреновы? А ну, поворачивайся, а ну, живее, а ну, с музычкой!
И с призывом, будто к песне:
– Работа-ай!
Зашевелились бабоньки, и в них заиграло что-то, вялость будто сдунуло, все пошло быстрее, тела спружинились, и уже работа не в трудность, а в наслаждение. Руки не ощущают тяжести, играючи подваливают песок, весел перестук молотков, все ловко, споро, все вроде само собой, а внутри бьется радость, а работа все быстрей, быстрей, как в барабаны удары тяжелой кувалды, трамбующей уложенные камни. Мельканье рук, лиц, обтянутая ситцевыми платьишками грудь, радость тела, белозубые, веселые рты.
Афанасий снял кепчонку, вытер ею пот, будто сам уработался, водворил кепчонку на место. Неотрывно, сопереживая, соучаствуя, получая истинное удовольствие, следил за работой. Показали сорт бабоньки, ах, тудыть их в качель, вот это сорт! Так, милые, так, вот хорошо-то! Наддай, наддай, да ах боже мой! Ну, милые, ну! Вот так, распервейший сорт дело!
Пыль под глазами и у рта, еще ослепительнее зубы, работа – никакой осечки, ритмичный блеск лопат, у каждой свое мгновение, носилки только не заденут друг друга, молоток на волос от пальца, кувалда-баба рядом с босой ногой, инструмент послушен как руки, – это уже не работа, это взлет души.
Павла с наслаждением, как выдох:
– А-ах!.. – Сорвала с головы пропыленный платок. – Передых, бабы!
Звякнули брошенные лопаты и молотки. Бабы повалились в придорожную пыльную траву – лица и руки к солнцу.
– Клашка, воды! – умоляюще приказала Верка Стриженая.
– Ох, передохнуть бы… – протянула Клаша.
– Ничего, быстрей утрамбуешься! – крикнула бесчувственная Таисья.
Клаша недовольно поднялась, но Павла опередила ее:
– Я принесу.
И пошла к вагончику. Афанасий встал ей наперерез.
– Поговорить бы, – остановился на тропинке Афанасий.
– Ну, говори, – остановилась перед ним Павла.
– Хорошо работали, – улыбнулся Афанасий.
– Бывает и хорошо, – улыбнулась Павла.
Помолчали.
– Можно считать – поговорили? – усмехнулась Павла.
– Замуж за меня пошла бы? – серьезно поглядел в глаза Афанасий.
– Отчего не пойти? – легко ответила Павла.
– Дом у меня… хозяйство… – добросовестно стал отчитываться Афанасий.
– Велико ли? – спрятала ухмылочку Павла.
– Все, что положено, – обстоятельно ответил Афанасий. – Корова, телка… Свиней двое. Курей сколько-то… Десять, должно. Больше было – загинули. Лиса повадилась.
Клашка с ленцой прошла мимо:
– Я принесу воды-то…
Павла смотрела на Афанасия, улыбалась, всерьез не принимала, как-то просто быть такого не могло, чтобы всерьез. Поди, деревенские подослали после вчерашнего. Не выйдет шуточка-то. Посмотрим еще, кто смеяться будет.
– Продаешь, значит, хозяйство? – спросила Павла.
– Зачем продавать? – ответил Афанасий. – Так отдаю, коли возьмешь.
– Али в деревне баб недостача! – удивилась Павла.
– Баб-то с избытком, да такой нету. Наши помельче будут.
– Тебе лошадь, что ли, нужна?
– Так ведь сила и человеку не во вред.
– Верно, силы невпроворот. Пятаки гну.
– Эй, Павла! Чего долго? – орут шоссейные.
– Да тут сватают меня, да сват вроде как с придурью, боюсь, как бы и жених таким не оказался! – не стояла, поворачивалась перед Афанасием Павла.
– А ты скажи, чтоб других прислали! – орут шоссейные и хохочут.
– Скажу! – ответила Павла.
И в глаза Афанасию взглядом – самой не понятно каким, только в груди вдруг жарко от этого своего взгляда, а лицо Афанасия расплывается, как-то не видно ни глаз, ни бровей, – ах, да какая разница, хоть он, хоть другой, любого бы сразила сейчас напрочь, позабыл бы про свои сараи думать!
И сквозь жаркую толчею ощущений глухо прорвался неторопливый голос Афанасия. Афанасий не слушал бабьей трескотни, говорил:
– Павла… Вот и имя у тебя основательное, без легкомыслия теперешнего…
Павла уняла себя, поиграла с насмешечкой:
– Самого-то, поди, Иваном звать?
– Иван – тот другой, тот безрукий. А я – Афанасий. У нас полдеревни Шестибратовы, полдеревни Винокуровы. Я из Шестибратовых. Наша фамилия давняя, по ней и вся деревня прозывается…
Спадает, спадает жар. Неинтересно чего-то. Скучно вдруг.
– Ну, ладно, пойду я, – сказала Павла.
– Подумала бы, может? – не то чтобы удерживает или настаивает Афанасий, а так – с рассуждением: – Хозяйство у меня крепкое, в колхозе платят хорошо. В бедности не будешь.
– А самовар есть? – непонятно зачем спросила Павла.
– А как же? – ничуть не удивился Афанасий. – Без самовара какая жизнь.
– А телевизор? – сухой блеск заиграл в глазах Павлы.
– Тут – приемник… – В голосе Афанасия досада: не доглядел.
– Ну, какой же ты жених без телевизора? – засмеялась Павла.
– Да купим, велика важность! – с полным убеждением сказал Афанасий. – И телевизор купим, и все, что хошь… Еще как жить станем!
– С телевизором чего не жить… – запрятала потайное Павла.
– Так пойдешь за меня? – все хотел точности Афанасий.
– А вот я сейчас у своих шоссейных спрошу… Эй, бабы! Человек в мужья просится! – Павла подтолкнула Афанасия к женщинам. – Иди, иди, покажись, они в этом толк понимают… Ну, как мнение – идти за него?
– В годах, пожалуй… – прогудела Сима-Серафима.
– Внуков-то сколько? – спросила Таисья.
– Пиджачишко жиденький… – усомнилась Верка Стриженая.
– И вообще! – высказалась Клаша. – Мой Аскольд Тимирязевич совсем другое дело!
– Рубаха стираная – кралю под боком держит!
– И глаз хмельной – ой, Павла!
– Однако же нам и повеселиться бы не грех.
– Давно я, бабы, стюдню не ела…
– Ну, женишок, чего молчишь-покряхтываешь?
– Поди, рад ноги унести!
– Чай, знал куда идет, мы, чай, с дороги, отчаянные!
– Эй, на что тебе Павла, я-то лучше! – разошлась-таки Сима-Серафима. – Уж так ли уголублю, а-ах!..
– Ой, Павла, держи! Удерет!
– Ох-хо-хо!..
– Ах-ха-ха!..
– А что, казак, коль сегодня свадьбу сыграешь – отдадим тебе Павлу, – решила Таисья.
– Наша власть – мы ей вместо родни, – подтвердила Катерина. – А то оговорим – смотреть на тебя не захочет!
– Сегодня – согласен? – пристала Таисья.
– Чтоб как в сказке! – обрадовалась Сима-Серафима.
– Ну, и что скажешь? – насмешливо спросила Павла.
Перевел дух Афанасий, оглядел каждую, прикинул что-то, ответил:
– Сегодня… повечерее будет… приглашаю!
Через луг к деревне, срезая угол, шли бабы. Умытые, прибранные, с развеселой песней и плясом впереди.
У края картофельного поля, под кустом, Жучка нализывала щенка. Живот лизала, спину, лизала курносую морду. У щенка один глаз щелочкой, а другой не успел, появиться вовсе. И ничего еще единственному глазу непонятно. Мокрое, мягкое и нежное накрывало его, и это было хорошо, так должно было быть, ничего не могло быть лучше теплого, кольцом, языка матери.
Нализывала, нализывала Жучка своего щенка, уши следили за песней. Беспокойно стало, слишком близко песня, выглянуть бы, а может, не выглядывать? Щенка носом, лапами под свой живот, грейся, питайся, расти, и вдруг ноги, совсем рядом столько ног, голые, загорелые, разные, песня оглушающа, отчаянна, ноги, ноги, спереди, сзади – крепкие, стройные, толстые, рыхлые, как столбы, как деревья, а если увидят, а если наступят, завизжать бы, убежать, или впиться зубами в мягкое тело, или ждать…
И вот как тихо теперь. Где ты есть, слепой и горячий. Мой язык распухает от нежности к тебе, я лижу твою курносую морду, песня – это совсем не страшно, видишь, я лижу твою морду.
Шоссейные шли по улице, по которой вчера брели с такой обидой. Обида была еще жива, усиливала их громкость и бесшабашную отчаянность, но сегодня они были веселы, сегодня они гости – а ну-ка, ваши или наши лучше пляшут?
Конечно, может, и не совсем гости, может, и тут подвох, да там разберемся. Только бы миром-то лучше, хоть вечерок у домашнего, парного, своим хлебом и мужиковой рубахой пахнущего – прикоснуться, втянуть носом, посидеть о бок, растравить себя до кровавой боли. Ну, а в случае чего – в долгу не останемся, отбреем, а там и в волосы вцепимся, мы ведь с дороги, шоссейные, хо!
Впереди излишне чинно, скованно, с деревянными лицами шествовали Афанасий и Павла.
Для Афанасия этот проход по деревне вроде принятия парада. Сейчас он был главным лицом, вся деревня на него смотрела и этим взглядом, этим вниманием к нему выражала ему, Афанасию, свое уважение, свое удовлетворенное признание его, Афанасиева, существования.
Он знал, что все думали сейчас про него примерно так:
– Крепкий мужик.
– Работник без отказу.
– Войну до Берлина прошел.
– Чужого не брал.
– Чужого – ни-ни! А придешь попросить – даст.
– Хороший человек.
– Хороший.
– Все бы такие…
Знал и чувствовал Афанасий, что не всякому дано таким парадом пройти по своей улице. И только бы дела не испортить, только бы камень какой под ногу не сунулся, не оступиться бы, чтобы торжества смехом не спугнуть.
Всю жизнь ходил он по этой улице, ни о каких камнях не думал. Да и не водилось их сроду в лесной деревне. Однако же – опаска. По этой причине и деревянность в теле.
Павла тоже не хотела ударить лицом в грязь. Смехом ли, на серьезе ли, а пусть смотрят. Вот баба какая – хоть в шелк, хоть в рядно, хоть молись, хоть бревна вози. Но тут же и насмешливое крылось в глазах – мол, и я позабавиться не прочь.
И вся начеку была: не упустить бы, когда подвох выскочит наружу. И вот, дождалась, кажется. Сельсовет был закрыт.
Вот оно, подумала Павла. И взглянула на Афанасия.
Афанасий негромко спросил у бабки Гланиного старика, переобувавшегося на крылечке правления:
– А председатель где?
Бабки Гланин старик с готовностью повернулся, поискал, у кого бы узнать, заорал во всю мочь:
– Маруська-а! Где председатель?..
– А в бане парится!.. – закричала в ответ Маруська.
Афанасий, не теряя спокойствия, повел Павлу дальше.
Толпа повалила за ними к председателевой бане.
В бане сумрак и белый пар.
– Чегой-то шум, – сказал председатель и посмотрел в оконце. – Народу-то… Что это? Не война ли?
– Какая война, батя… – распаренно ответил ему сын с полка. – На войне гармошки не будет.
В оконце забарабанили.
– Ты скажи, – удивился председатель, – вымыться не дадут!
Вынырнул из пара в крохотный предбанничек и схватил штаны.
В дверь нетерпеливо застучали, крючок, не рассчитанный на опасность, соскочил.
– Эй-эй-эй! – предостерег председатель.
За дверью сколько-то помедлили. Потом в приоткрытое пространство пролезли руки, нащупали на председателе рубаху, возвестили кому-то:
– Готов!..
Ввалились две ражие бабенки, подхватили председателя под руки, поволокли к конторе.
Разрывалась гармошка, улица гомонила и хохотала – слава богу, не война.
Бабенки водворили председателя за стол и скрылись за спины других. Рубаха на председателе криво, один рукав не застегнут, волосы торчком. Впрочем, ни он сам, ни другие этого не замечают, да и не имеет это никакого значения.
Все затаили дыхание, вовсе не дышат даже. Хохолок на макушке председателя подрагивает от усердия.
Вносятся в книгу имена Павлы и Афанасия. Громко пришлепываются печати.
С лица Павлы медленно ушла улыбка. В глазах испуг и растерянность.
Она повернулась к своим. Что это, подруги? Как же такое? Да полно, не может всего этого быть!
И шоссейные удивлены не меньше. И они верили, что шутка, колобродили с полным удовольствием.
Первой опомнилась Верка Стриженая:
– Да чего там, Павла! Плясать пошли!
– И то! – воодушевилась Сима-Серафима и уже шлепнула ногой. – И-ех, ех, ех!..
Добрая душа Серафима. А у Катерины-то чуть не слезы, у Матильды глаза что блюдца, а Таисья и взгляд в сторону – ей бы, а не Павле, в этой деревне свадьбу играть. Хорошо, хоть гармошка свое дело знает. И деревенские гульнуть не дураки, ногами с удовольствием так и этак выделывают. Да и кому в голову придет, что на свадьбу шли – не верили?..
Председатель встал. Хохолок пригладил, чтоб не мешал торжеству.
– С законным браком! Поздравляю, Павла Дементьевна, поздравляю, Афанасий Михайлович!
Павла и растерянно, и виновато, и с боязнью, что праздник все-таки кончится сейчас – ладно уж, не надо, чтобы кончался! – посмотрела на Афанасия.
У Афанасия улыбка на лице – доволен. И смущен немного, застеснялся вдруг на Павлу смотреть.
Павла ощутила за спиной бабий шепот:
– Гляди – по любви ведь Афанасий-то…
– А она-то… Что-то улыбка у ней не такая!
– Погодь, станет и такая…
Все углядели глазастые бабы. Чего это они про Афанасия-то? Про любовь что-то?..
Господи, да неужели и вправду, – свадьба?..
Столы и снедь сволокли со всей деревни. У кого что было, а было у каждого немало. Афанасий заартачился поначалу, полез за деньгами, но на него прикрикнули, даром что герой дня, а народу все-таки не перечь. Не свадьба, а снежный ком с горы, сам собой родившийся праздник, который тем и хорош, что без подготовки и заученности, без колготни, без расчета – того звать, а этого? – все были равны, все участники, все будто только и хотели этого – распахнуто, стихийно, со щедростью, без оглядки и сожаления.
Но веселье весельем, а языком почесать – тоже не последнее дело.
Палага принюхалась, сморщила нос:
– Слышь, бабы? Нигде не горит?
– Да нет, кажись, – удивленно ответила Исидора.
– А вроде как от Афанасия дымком тянет, – притворно вздохнула Палага.
– Ах-ха-ха!..
– А я и ведра прихватила – пожар, думаю! – подхватила молодайка.
– Их-хи-хи!..
– Два года терпел, тут удумал! – не могла угомониться Палага.
– Любаша-то его славная бабеха была, – вспомнила бабка Гланя. – Да вот как под лед зимой угодила, так и чахнуть стала.
– Я уж думала – навсегда вдовцом останется, – сказала Домкратиха.
– Ну уж, навсегда! Все живые люди, – сказала Исидора.
– Да вы, бабы, стюдню, стюдню моего попробуйте! – угощала всех Домкратиха. – Кабы знать, что такое дело, больше бы наварила!
– Приперло, видать, Афанасия, и дня не подождал! – покачала головой бабка Гланя.
Исидора взглянула на молчаливую Марию, вздохнула с сочувствием:
– Не повезло тебе, Марья… Кабы не эти шоссейные – тебе бы тут хозяйкой быть.
– Чего уж тут… – отвернулась Мария.
– А она ничего из себя, невеста-то, – присмотрелась бабка Гланя.
– А это что у них за краля? – взглянула на Матильду Исидора.
– Аль завидно? – засмеялась Домкратиха.
– Мне-то что, – протянула Исидора, – ты за своим поглядывай – вишь, глаз не отрывает!
– Ах ты, перечница колченогая, телячий хвост! – взвилась Домкратиха под смех соседок. – Ты это куда уставился?.. А ты, мать моя, поприкрыла бы грудь-то, чего всему миру на обозренье выставила, думаешь – у нас такого нету?..
Матильда испуганно натянула косынку на плечи, завязала косынку узелком.
Домкратиха шумно села на место и больше не упускала узелок из виду: не развязался ли?
Шоссейные сидели за другим концом стола, своим маленьким обществом, поближе к невесте.
– Чего ты молчишь все? – тихо спросила Катерина Матильду. – Какое горе ни будь, говорить надо. От этого облегчение горю наступает… Неживая ты вовсе!
Матильда медленно качала головой, не отвечала.
– Ты пей, – не отступала Катерина. – Пей, пей! Бывает, что помогает. Сглотни, и дело с концом.
Матильда послушно выпила.
– Вот и все! – ободряюще сказала Катерина.
– Обожгло… – непонятно на что пожаловалась Матильда.
– Всех нас обжигает, – с сочувствием согласилась Катерина.
Матильда схватила еще чей-то стакан, выпила залпом. Хозяин стаканчика уважительно на нее посмотрел.
– Эко! – покачала головой Катерина. – Ты не сразу по стольку-то, тоже не дело. Осовеешь – ни себе радости, ни другим.
– Жжет… – посмотрела куда-то вдаль Матильда.
– Поди с мужем нелады? – выспрашивала Катерина. – Есть муж-то?
– Мужа – нет! – усмехнулась Матильда.
– Ну, кто ни то… Полюбовник, может? – Катерина принизила голос.
– Полюбовник – это есть, – опять усмехнулась Матильда.
– Ты потише бы… – укорила Катерина. – Всеми знать об этом ни к чему… Бывает, и не муж, а уважает. Вон ты красивая какая. Только разжаться тебе, расправиться бы, чтобы дышать свободно, все и пойдет как по маслу… Поди, любишь больше меры?
– Люблю, – согласилась Матильда.
– Это ведь погибель – сверх меры-то любить… Ох, погибель! – покачала головой Катерина. – Ну, а он что?
– А он об меня папиросы тушит, – сказала Матильда.
В дальнем углу шел деловой разговор:
– Вот такого карася поймал! – завирал бабки Гланин старикашка.
– Я давно говорю – пруд очистить и карася туда, а также всякого другого линя, – стоял на своем Исидорин мужик.
– А что, Поликарпыч, – вопросил Домкрат, – раз у председателя руки до пруда не доходят, давай-ка сами за такую нагрузку возьмемся, на общественных, я говорю, началах, правильно говорю?
– Так ведь трактор потребуется? – усомнился бабки Гланин старик. – Очищать же надо?
– Возьмем трактор! – совсем загорелся Домкрат, кося глазом на Матильдин узелок. – И очистим, я тебе говорю! Вон молодого попросим, Афанасий теперь нипочем не откажет, верно говорю?..
– Девчатам поднесите! – закричали женщины.
Девушки кучкой стояли в дверях. Им поднесли красного, девушки жались, отворачивались. Васюта, дочка Марии, совсем отошла в сторону и смотрела на Матильду, глаз оторвать не могла, не мигала даже. Некрасивая она была, Васюта, – белесая, скуластая, остроносая.
Бабки Гланин старичок вылез из-за стола, потянул ее за руку:
– Придержи-ка мое место, Васют, я в один момент, проверю, как бы мерин не убег…
Васюта села. Сосед налил ей стопку:
– Ну, девка, поехали! В праздник трезвым быть – грех…
Перед ней, как на картине, обособленно, отъединенно от всех было лицо Матильды – бледное, застылое, красивое страшной, обреченной красотой. Васюте казалось, что красивее быть ничего не может, и было ей непонятно, как сидящие за столом мужики говорят кто о чем, когда нужно говорить только о ней, об этой непонятной и, конечно, ни для кого не досягаемой женщине.
Перед Васютой из ничего, сама по себе возникла стопка. Коварный сосед поглядывал в сторону. Васюта машинально взяла стаканчик, соседовы брови вздрогнули и замерли в ожидании, а через стол крикнула что-то и погрозила кулаком мать.
Васюта замигала белесыми ресницами, оттолкнула стопку. Сосед разочарованно поник. У матери вина в глазах и привычная растерянность.
И опалила Васюту жалость в эту минуту. И к себе жалость, а еще пронзительней к матери своей жалость, и ко всем другим, у которых что-то никогда не сбудется, и среди этих других оказалась Матильда, и догадалась Васюта, что роднит ее с Матильдой рабская приниженность, добровольное согласие на милостыню.
– Нет! – крикнула она самой себе и всем – и тем, кто собирался кинуть ей стершийся пятак, и кто не додумывался до этого. – Нет!..
В спину Васюты осторожно постучали. Бабки Гланин старик проверил мерина и хотел занять свое место.
– Нет, понятно?.. – крикнула ему Васюта.
– Однако же, то есть? – изумился бабки Гланин старичок, поспешно собирая доводы в пользу своего законного места.
Однако доводы не потребовались. Васюта поднялась и ни на кого не глядя направилась к выходу. И впервые шла прямо, и впервые заискивающей улыбкой не просила прощения за свое присутствие. И впервые какой-то парень уступил ей дорогу.
Из-за стола поднялась Катерина, поднялась из-за бутылок, из-за студня, налила себе в стакан белой, прозрачной.
– Бабы… – позвала Катерина.
Обвела всех взглядом, и шум медленно стих.
– Бабы, послушайте меня… Не любите вы нас, шоссейных. Бездомные, мол… А нам уж по сорок да сорок пять, а кому и пятьдесят… Которой, может, и удалось ребеночком на стороне разжиться, так и это счет вполовину. Где их взять-то, мужей, когда от них уж и праха в земле не осталось. Нас двадцать баб на дороге работает, так у двенадцати похоронки в коробочках хранятся. Беречь бы нам друг дружку, бабы… Да не о том я хотела. Вот подруге нашей счастье выпало. Радуемся за нее, благ всяких желаем, а в душе-то говорим: почему не мне – счастье-то?..
Павла слушала, хмурилась, вспоминая, отдаваясь Катерининым словам. А Катерина говорила:
– Горько на душе-то! Так вот, чтоб легче стало, помянем, бабы, наших первых – кто мужа, кто нареченного, а кто и такого, которого и встретить не привелось, времени недостало… Помянем, бабы!
И выпила ее, белую, прозрачную, горькую.
И закивали бабы, и донеслись до их слуха взрывы и пулеметные очереди, и увидели они каждая своего, увидели, как упал он, скошенный пулей, и закричали они душой, а иная и живым тихим вскриком, и, отвернувшись, проглотили застрявший в горле комок их мужья, и помянули бабы слезами и зельем своих первых.
– Силушки нету… Песню бы! – как стон, прошел над столом бабий вздох.
И откуда-то из угла выступил чистый женский голос, а к нему с жаждой, как хотят пить в полдневную сушь, присоединились остальные. И посветлели, будто вышли из тени, лица, и уже кто-то потребовал с ликованием:
– Горько-о!
Павла и Афанасий посмотрели друг на друга. И растаяла, наконец, настороженность в теле Павлы. Глаза Афанасия приблизились, заслонили собой многолюдье и шум, увиделись огромно и странно, сквозь прозрачные тени ресниц.
Ночью Павла вышла во двор. Деревня еще гомонила песнями, но уже в отдалении, Около дома Афанасия было лунно и тихо. Павла медленно пошла по двору. Осторожно потрогала поленницу, сарай, какие-то непонятные в ночи, забытые предметы.








