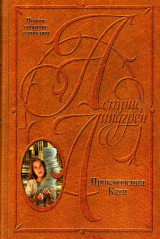
Текст книги "Приключения Кати"
Автор книги: Астрид Линдгрен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– Хочу, чтобы вы оба были счастливы, – сказала я. – А я всегда буду для вас родной матерью. Если у вас будут какие-нибудь огорчения, помните, что дома, на улице Каптенсгатан, у вас есть старушка Кати.
«Коммодор Вандербилт»[214] должен был уже отправляться в путь. Я прыгнула в вагон. (Спокойствие, спокойствие! «Коммодор Вандербилт» вовсе не человек, а поезд!) Тетушка издала вопль, похожий на вой пожарной сирены, так что люди стали озираться, чтобы посмотреть, где же пожар. А «Коммодор Вандербилт» все быстрее и быстрее увозил меня от нее. А она, моя маленькая седая Тетушка, стояла там, на перроне, с патетически простертыми мне вслед руками. Но я едва различала ее, потому что глаза мои были полны слез. Ведь все равно больно, когда перерезаешь пуповину, соединяющую тебя с Тетушкой.
Я пошла в пассажирский салон-вагон с баром и села. Я чувствовала себя лошадью, все время поворачивающей голову в сторону дома. Но это была очень печальная, брошенная на произвол судьбы лошадь. Однако такое состояние длилось все же недолго, до тех пор, пока лошадь, попивающую маленькими глотками фруктовый сок, не вовлекли в беседу окружающие ее пассажиры, которые все без исключения усердно советовали мне, как провести оставшиеся у меня два дня в Нью-Йорке. Они хотели также услышать, что я думаю об Америке. Какой-то пожилой джентльмен предупредил меня, что я не должна внушать себе, будто знаю что-то об этой стране, прежде чем не проживу в ней по крайней мере несколько лет. Все здесь противоположно тому, что я думаю, и пусть я буду так любезна не забывать об этом! Я смиренно согласилась с тем, что он, пожалуй, прав, и решила, когда вернусь домой, не высказываться об Америке вообще. А если меня спросят: «Ну, как там было в Америке?» – я буду отвечать только одно: «Спасибо, хорошо, как поживаешь?»
На следующее утро я прибыла в Нью-Йорк, и Боб уже ждал меня на перроне, когда я выскочила из поезда на вокзале Грэнд Сентрал[215]. Чувство было точь-в-точь такое, будто встретилась со старым другом детства.
Я рассказала ему о Тетушкином romance и предстоящей вскоре свадьбе. Он молча застыл на месте, меж тем как глаза его все больше и больше расширялись от удивления. Под конец он сказал, что всегда был богохульником и насмешником, не верившим в чудеса. Но теперь ему явили доказательство того, что для Бога нет ничего невозможного, и в будущем он, Боб, станет совсем другим человеком.
Я сказала ему, что хочу получить большую дозу Нью-Йорка! Пусть, когда настанет осень моей жизни, мне будет что вспоминать!
– А ты уверена, что, когда настанет осень твоей жизни, ты не будешь жить в Нью-Йорке? – спросил Боб, и я сказала, что абсолютно в этом уверена.
Вид у него после этих слов стал чуточку пришибленным, но солнце светило, и небо было таким голубым, и воды реки сверкали ниже улицы Риверсайд-драйв, по которой мы как раз ехали. Лужайки парков были такими зелеными! Люди кучами лежали повсюду, прежде всего вокруг табличек, на которых написано: «Keep off!»[216], потому что американцы – народ свободолюбивый!
Ах, мои несчастные два дня, как они быстро пролетели!
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал Боб, когда мы направились к поразительнейшим маленьким ресторанчикам в Гринич-Виллидж.
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал он, когда мы ехали через страшные трущобы восточной части города.
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал Боб и повел меня вдоль Bowery[217], «улицы забытых людей», где самые опустившиеся индивидуумы мира, стоя в воротах, пьют прямо из бутылок, греются у небольших костров на тротуарах и меняются друг с другом своей непритязательной одеждой.
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал Боб, проталкиваясь локтями к столику в баре Сэмми, где дюжина толстых, густо накрашенных старушек танцевала на эстраде, это называлось «the gay nineties»[218]. Когда старушки исполнили свои веселые песни и достаточно набрыкались своими толстыми ножищами, они уселись в углу, каждая на свой деревянный стул, с таким видом, словно мечтали умереть или по крайней мере отдалиться от всякого шума и грохота. Они были старые и усталые, и ни следа gay nineties в них не было. Нью-Йорк – жестокий город для тех, кто беден и стар.
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал Боб и потянул меня вверх по лестнице, возле Бродвея, к залу, где катались на роликовых коньках. Какое фантастическое смешение людей лишь на одной только дорожке для катания! В Нью-Йорке можно выглядеть как угодно! Вот едет девушка, которую нежно поддерживает рукой кавалер, действительно элегантный и очаровательный. Однако девушка определенно весит не меньше ста килограммов. Нужно жить в Нью-Йорке, чтобы настолько незакомплексованно кататься с такой фигурой на роликовых коньках на глазах у множества зрителей! И там же катается начальник канцелярии, да, он, должно быть, начальник канцелярии, иначе он не выглядел бы таким серьезным, и корректным, и аккуратным. Он катается на коньках, словно находится при исполнении служебных обязанностей, и это выглядит неописуемо смешно! А вот едет старая бабушка, вернее, она пытается кататься на роликовых коньках. Ей наверняка скоро исполнится восемьдесят лет, и она никогда прежде не стояла на роликовых коньках, но в Америке никогда не бываешь слишком стар, чтобы попробовать испытать какое-то новшество. Двое служащих держат ее под руки, и ее неустойчивые ноги скользят то в одну, то в другую сторону, но она решительно катится вдоль дорожки. Движение полезно, а движения здесь предостаточно. Для служащих! Вот катается молоденькая негритянка, нет, она не катается, она танцует на своих роликовых коньках, да так грациозно, что глаз от нее не оторвать.
– Это и есть Нью-Йорк! – сказал Боб, когда мы бросились вниз, в пропасть, с американской горки в Кони-Айленд[219], да так, что я подумала: «Настал мой последний час!»
– Разве не чудесно? – крикнул Боб. – Ты чувствуешь радость оттого, что живешь на свете?
– Радость? – закричала я в ответ. – Не подходит! Удивление я чувствую, вот что!
– Looks like New York![220] – сказал Боб, указав небрежно большим пальцем на фантастическую панораму, открывшуюся нам внизу с высоты сто второго этажа на Эмпайр-Стейт-Билдинг.
– Я думаю, что и это Нью-Йорк! – сказала я, закрыв глаза. Музей «Метрополитен»[221] – вот что это было. И от его вида кружилась голова.
– И это тоже Нью-Йорк! – сказал Боб, когда в последний наш горький вечер расставания мы ехали на извозчике в Центральном парке.
Потом он долго молчал. Издали слышался шум города, города, который никогда не спит! Издали светились рекламы над Бродвеем!
– Кати, ты абсолютно уверена в том, что не будешь жить в Нью-Йорке, когда настанет осень твоей жизни? – спросил Боб.
– Да, Боб, я абсолютно уверена в этом! – сказала я.
На следующее утро он отвез меня в аэропорт, и я от всего сердца поблагодарила его за все то чудесное, что мы пережили вместе.
Он воткнул две орхидеи в петлицу моего плаща и сказал, что там, на севере Европы, среди белых медведей, мне не следует быть слишком уверенной… в один прекрасный день он наверняка свалится как снег на голову в Стокгольм… и тогда, Кати!..
– Бог да благословит тебя, Боб! – сказала я. – Сохрани как можно дольше свою детскую веру.
Там, на летном поле, ждал самолет. Я обняла Боба и побежала.
– Однажды, пожалуй, приедет он и заберет свою невесту… – вполголоса напевала я, поднимаясь по трапу.
Но я совершенно точно знала: он, пожалуй, этого не сделает, и очень хорошо, что он этого не сделает.
Для меня настало время вернуться домой. Пора было снова вернуться к блокноту со стенографическими записями, к болтовне с девочками, к ленчам в «Норме» и к маленькому жалованью, которого должно хватать на так много всего! Пора снова вернуться в город, где у людей такие серьезные лица, и где все так прямолинейно и правильно, и где никто не разводит костры на тротуарах, и никакие конторские шефы не катаются на роликовых коньках! Я хотела домой в Стокгольм, в мой город, где сизые сумерки простираются над Риддархольмским фьордом, а вода в бухте острова Юргорден так мягко плещется о берег! Мой любимый город, который так тихо спит в светлые весенние ночи, что не смеешь громко говорить, чтобы не разбудить его!
Да, пора было возвращаться домой. И может быть, пора было возвращаться к Яну. В последнее время он писал такие по-настоящему милые письма. Он писал, что встретит меня в аэропорту Бромма.
* * *
Breathes there a man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land?
Whose heart hath ne’er within him bum’d
As home his footsteps he hath turn’d
From wandering on a foreign strand?[222]
Я тихо читала это стихотворение самой себе, пока самолет шел на посадку в терминале стокгольмского аэропорта Бромма. Внизу раскинулся красивейший город! И где-то внизу ждал Ян!
* * *
Я увидела его сквозь прозрачную стеклянную стену, как только вошла в таможню.
– Ян! – закричала я, проклиная разделявшую нас прозрачную стену. Он серьезно кивнул мне. О, какой он был бледный. И какой высокий! Я и забыла, что он такой высокий!


КАТИ В ИТАЛИИ
I
 еликолепно! – воскликнул Ян. – Раз так, мы сейчас же поженимся!
еликолепно! – воскликнул Ян. – Раз так, мы сейчас же поженимся!
– Правда? – удивилась я, задумчиво склонив голову.
Я буквально сию минуту рассказала ему, что Тетушка уехала и вышла замуж за своего старого поклонника из Чикаго. Да, именно Тетушка, заменившая мне мать! Тетушка, с которой я делила двухкомнатную квартиру на улице Каптенсгатан[223]. И теперь я стала обладательницей этой маленькой квартирки на четвертом этаже! Более того, я внезапно стала богатой невестой! Лучше две комнаты с кухней и с Кати на улице Каптенсгатан, чем маленькая отвратительная меблированная комната у грубиянки вдовы на Кунгсхольмене[224]. Ею Ян вынужден был довольствоваться, а для молодого многообещающего архитектора это не так уж и много. Неудивительно, что он счел просто великолепным переехать ко мне домой. Он долго и без перерыва говорил, как это чудесно будет. Но мне все время казалось, что чудесна моя двухкомнатная квартирка, а вовсе не я. В конце концов я спросила Яна, слышал ли он известную историю об агрономе, поместившем брачное объявление в газете:
«Молодой агроном, рассчитывая на возможную женитьбу, ищет знакомства с дамой – владелицей трактора. Пришлите в ответ фотографию трактора!»
– Что ты имеешь в виду? – раздраженно спросил Ян.
– Мне кажется, ты похож на этого агронома.
Но Ян не понял.
– Не мели чепуху, надевай плащ и пойдем дадим объявление о помолвке! – воскликнул он.
– О нет, дорогой Ян, мне страшно идти за тебя. В один прекрасный день ты, возможно, встретишь другую с тремя комнатами и кухней, и тогда я останусь с носом.
Ух как Ян рассердился. Он сказал, что если я так глупа, отвергая любовь благородного человека, то сама буду виновата, если останусь старой девой, а он не станет мне больше докучать.
Он и не стал мне докучать. Целых два дня. Все эти два дня я судорожно размышляла. Он сказал «старая дева»! Я начала осторожно привыкать к этой мысли. Можно завести себе маленького мопса и несколько канареек, совершенно не обязательно иметь при себе Яна. Да, чем больше я думала о Яне, тем сильнее склонялась к мопсу. Мне было двадцать два года, и с девятнадцати лет я постоянно встречалась с Яном. Да, так легко влипнуть в беду со скороспелым замужеством! А я не желала влипнуть в беду с замужеством, которое не считала надежным. Ах, откуда знать, какое замужество надежно?
Не завести ли какую-нибудь «волшебную лозу»[225], чтобы испытывать всех своих поклонников? (У меня, разумеется, был всего один, но все-таки…) Если бы такая «волшебная лоза» опустилась внезапно на чью-то голову, то можно было бы сразу уверенно сказать: «Это он!» Кто знает, быть может, где-то в мире есть кто-то совсем другой, не такой, как Ян, который только и делает, что ждет, когда моя «волшебная лоза» укажет на него, Единственного и Настоящего. Я иногда сомневаюсь, что Ян и есть тот самый Единственный и Настоящий! Правда, Ева утверждала, что мужчины существуют лишь для того, чтобы закалять нас, и с этой точки зрения Ян, возможно, настоящая находка. Ян действительно был чрезвычайно склонен к тому, чтобы меня закалять или, скажем, изменить. Он постоянно пытался сделать меня другой, не такой, какая я на самом деле. Мне не следовало быть слишком веселой, потому что тогда Ян считал меня примитивной, мне не следовало быть слишком серьезной, потому что за маленькими выпуклыми девичьими лобиками не должно скрываться слишком много «мыслей и обрывков мыслей». Но мне следовало интересоваться всем на свете, чтобы он мог обсуждать со мной ту или иную проблему. Он должен говорить со мной о работе. Разумеется, о своей работе. Не о моей же! Стоило мне хоть когда-нибудь случайно попытаться рассказать ему о моей увлекательной жизни стенографистки в адвокатской конторе, как он сразу впадал в рассеянность, и разговор кончался тем, что я, вздохнув, говорила:
– All right! Поговорим лучше о твоих эскизах. Как ты представлял себе северный фасад народной школы в Пюттокре?
Об этом я размышляла все два дня, пока Ян не давал о себе знать. Но было еще одно: мне, как я уже говорила, исполнилось двадцать два года, и все-таки до сих пор я ходила, держась за Тетушкину юбку. Я никогда и не пыталась стать самостоятельной. Жизнь была полна практических мелочей, о которых я и понятия не имела. Нужно было подавать декларацию о доходах, и вешать платья в специальных мешках, предохраняющих от моли, и смотреть в оба, не жилистый ли кусок мяса покупаешь, и внимательно следить, не истекает ли срок страховки, и знать, как вести себя, чтобы денег на еду хватило на целый месяц. Все это делала для меня Тетушка. Я была не в состоянии выполнить все сама. Мне надо было этому научиться. Я не могла прямо из Тетушкиных объятий перекочевать в объятия Яна теперь, когда я наконец получила возможность стоять на собственных ногах.
В самом мягком тоне я попыталась объяснить это Яну, когда мы встретились вновь.
– Похоже, ты не хочешь меня больше знать! – бесконечно оскорбленный, сказал он.
Нет, это было не так. Частенько внушала я себе, что влюблена в Яна. Во всяком случае частенько думала, что он и есть тот самый Единственный и Настоящий. Но мне хотелось удостовериться в этом. Мне нужно было немного времени.
– Дай мне год! – попросила я Яна.
– Делай как хочешь, – мрачно ответил он. – Но за год многое может случиться!
Я допускаю, что в этих словах таилась угроза, но для моих ушей они прозвучали как обещание чего-то светлого в будущем.
После того как Ян ушел, я долго стояла у открытого окна, задумчиво глядя на пунктир редких звезд в ночном летнем небе за рядами домов на улице Каптенсгатан.
– Многое может случиться за год, – в ожидании чего-то светлого в будущем сказала я себе. А потом пошла и позвонила Еве.
– Хочешь один год делить со мной холостяцкое хозяйство? – спросила я.
– Что делить? – переспросила Ева.
Я повторила свое предложение. В трубке наступила полная тишина.
– Ты слышишь меня? – нетерпеливо спросила я. – Почему ты не отвечаешь?
– Я упаковываю вещи, – сказала Ева.
II
 а, Ева, что можно сказать о Еве? Она блондинка, и очень любит поговорить, и довольно остроумна. И все это плюс известная склонность к капризам и переменчивость ее настроений сливаются в своего рода весенний апрельский шарм, перед которым не в силах устоять многие несчастные юнцы.
а, Ева, что можно сказать о Еве? Она блондинка, и очень любит поговорить, и довольно остроумна. И все это плюс известная склонность к капризам и переменчивость ее настроений сливаются в своего рода весенний апрельский шарм, перед которым не в силах устоять многие несчастные юнцы.
– С любовью я определенно покончила… временно, – часто говорила она.
Ева то и дело влюблялась, но любовь эта быстро кончалась. А объекты ее любви так быстро менялись, что от одного вида этого кружилась голова. Пока я встречалась со своим старым Яном, храня ему верность, Ева уже назавтра после новой встречи не знала, к кому питает вечную любовь.
– And if I loved you Wednesday
Well, what is that to you?
I do not love you Thursday
So much is true, —[226]
безжалостно заявила она исполненному надежд юноше, который позвонил ранним утром в четверг и напомнил ей все нежные любовные слова, сказанные ему накануне вечером. Но ему оставалось только винить самого себя за то, что он позвонил Еве до девяти часов утра – до того как она попила чаю.
Колыбель Евы качалась в Омоле[227]. В двадцать лет она отправилась в столицу. Должно быть, в Омоле тогда стало ужасно тихо!
Мы с Евой служили в одной конторе и всегда хорошо ладили друг с другом. Никого, кроме Евы, я бы не хотела видеть в бывшей Тетушкиной комнате, а она была в восторге, что может туда переехать. Уже два года она жила в Стокгольме. За эти два года ей довелось пожить в семи разных местах, где ей было почти так же «уютно и приятно», как Дрейфусу[228] на Чертовом острове, утверждала она.
Сейчас Ева снимала комнату на улице Дебельнсгатан[229]. Там стояли кровать, стол и две огромные пальмы в кадках.
– Когда окно открыто, листья пальм шелестят, и я представляю себе, что здесь Средиземное море, – говорила Ева. – По-другому, вероятно, мне никогда не доведется побывать на Средиземном море, – добавляла она.
Время от времени по ночам на подушке Евы обнаруживался какой-нибудь заблудившийся клоп. Она тут же ловила его и запирала в специальную маленькую коробочку, которую называла «клоповня» и хранила возле кровати. Утром она исправно передавала коробочку хозяйке, утверждавшей, что вредных насекомых в квартире нет. Хозяйке совсем не нравилось, когда ей приносили «клоповню». Она поджимала губы, и выражение лица у нее становилось такое, словно она подозревала, что у Евы есть собственный клоповник, а коробочка представляет собой своего рода клоповореставрационный питомник, где Ева выращивает особо выдающиеся особи.
– Два года страданий сделали меня абсолютно беспардонной по отношению к теткам, сдающим комнаты с полным пансионом, – предупредила меня Ева.
– Звучит многообещающе! – ответила я. – Одно, во всяком случае, точно: ты не переступишь порог моей квартиры, пока не пройдешь основательную санобработку.
Уже на следующий вечер, преисполненная ожиданий и, по ее собственным уверениям, абсолютно продезинфицированная, Ева поднялась ко мне на четвертый этаж в сопровождении носильщика, который тащил все ее земное имущество.
Я живу в старом, слегка модернизированном доме, где нет и намека на лифт. С тех пор как я в шестилетием возрасте причалила у Тетушки, я бегала вниз-вверх по этим лестницам. Вот была бы работа статистикам – сосчитать, сколько раз обежала я вокруг Земли лишь по этим ступенькам!
– Только поэтому ты такая стройная и злющая, – говорила Ева.
Как мы веселились в тот вечер, когда она переехала ко мне! Сначала мы произвели осмотр всех покоев. Много времени на это не потребовалось, потому что двухкомнатная квартира совсем невелика. Да, более того, она мала, расположена на самом верху дома и по-старомодному уютна со своим скошенным потолком и оконными нишами. В одной комнате – маленький альков. А кухонька, должно быть, самая маленькая во всем Эстермальме.
В квартире, естественно, бросается в глаза след, оставленный Тетушкой, чрезвычайно мрачный след – табачно-коричневый, но мы решили как можно скорее покончить с этим.
Усевшись в оконной нише, мы начали строить планы. Ели и строили планы. В Омоле родители Евы были абсолютно уверены, что их крошка дочурка умрет с голоду в столице, если время от времени не присылать ей посылку с домашними припасами. Такую посылку с домашней колбасой, жареным цыпленком и печеньем она получила как раз сегодня.
Мы ели, сидя в оконной нише, и, держа в руке цыплячью ножку, я расписывала те изменения, которые собиралась сделать в квартире.
– Взорвем все ради воздуха и света! – сказала я, а Ева согласно кивнула.
Через открытое окно мы слышали звуки шагов внизу на уличной мостовой. Ах, только шаги звучат так по-летнему! Только летом так весело звучат шаги на улицах Стокгольма! Теплый вечерний воздух овевал наши лбы, а ландыши в вазе на подоконнике обдавали нас порой самыми опьяняющими волнами аромата. Все вместе было очень приятно!
– Как чудесно будет сегодня спать! – сказала Ева. – Без шелеста пальм и клоповни.
Ill
 аждой женщине необходимо когда-нибудь устроить собственный дом – не важно при этом, замужем она или нет. Живущее в ее душе стремление подрубать полотенца, скупать маленькие грубые огнеупорные формы для печенья, украшать настенные полки кружевными оборками должно быть, вне всякого сомнения, удовлетворено независимо от ее гражданского состояния. Как это часто бывает, девушка, стремясь окутать себя всей этой мишурой, легко может внушить себе, что влюблена в какого-нибудь парня, который может принести ей только несчастье. В любого парня, который даст ей возможность удовлетворить свою жажду обустройства и покупки мебели и одновременно назовет ее женой, что, разумеется, не менее важно.
аждой женщине необходимо когда-нибудь устроить собственный дом – не важно при этом, замужем она или нет. Живущее в ее душе стремление подрубать полотенца, скупать маленькие грубые огнеупорные формы для печенья, украшать настенные полки кружевными оборками должно быть, вне всякого сомнения, удовлетворено независимо от ее гражданского состояния. Как это часто бывает, девушка, стремясь окутать себя всей этой мишурой, легко может внушить себе, что влюблена в какого-нибудь парня, который может принести ей только несчастье. В любого парня, который даст ей возможность удовлетворить свою жажду обустройства и покупки мебели и одновременно назовет ее женой, что, разумеется, не менее важно.
По вечерам, подшивая с Евой занавески, я излагала свои взгляды.
– Желание обустроить дом и удостоиться звания жены погубило многих девушек! – уверенно заявила я. – Да, да, и это, возможно, не так уж странно.
– Да, – согласилась Ева, – не так уж странно сделаться вдруг, к примеру, фру[230] Юханссон! А бедняге Юханссону, должно быть, станет не очень весело, когда до него дойдет, что в каком порядке приобретала его жена. Сначала полотенца, потом кофейный сервиз, потом довольно долго совсем ничего и только потом уж Юханссон!
Нам было несказанно жалко этого незнакомого господина Юханссона, и мы были очень довольны своими великолепными взглядами и тем, что нам нет необходимости принуждать мужчин к браку, на самом деле стремясь воплотить потаенную мечту о тюлевых занавесках в крапинку. Кроме того, мы сохранили чудесную, никем не нарушаемую свободу пришивать воланы к занавескам. Мы делали это чрезвычайно основательно, и выходило нарядно. Шили метр за метром. Да, и не только это! Мы переоборудовали всю двухкомнатную квартиру, да так, что у Тетушки, увидь она это, обозначилась бы строгая морщинка у рта. Ян, мой милый, правда немного ожесточившийся, Ян помогал мне. Ему, наверное, было не слишком весело вечер за вечером клеить обои или, сидя на четвереньках, покрывать лаком пол, постоянно думая о том, что, не будь я так упряма, сюда переехал бы он, а не Ева. Он считал меня ужасной дурочкой и постоянно говорил мне об этом, энергично обрабатывая малярной кистью мрачные Тетушкины стены. И хотя он вообще-то хорошо относился к Еве, он, конечно, не мог слишком радужно воспринимать ее переезд в мою двухкомнатную квартиру.
– Через год ты съедешь отсюда, заруби себе это на носу! – уверял он ее.
– За год многое может случиться! – отвечала ему Ева.
Когда я вновь услышала эту фразу, во мне что-то дрогнуло в тайном ожидании, хотя я никоим образом не могла тогда предвидеть свое будущее.
Но я быстро отбросила все мысли о том, что может случиться, и сосредоточилась на том, чтобы как можно уютнее разместить старый Тетушкин диван времен Карла XIV Юхана[231] и расставить книги на новой полке, сделанной Яном. Мои дорогие старые книги!
– Не читай так много, Кати! – частенько говаривала мне Ева. – Лучше живи!
Но ее призывы были тщетны. Я как была книжным червем, так им и останусь. Жизнь, описываемая в книгах, была для меня более реальной, чем сама реальная жизнь. Сколько себя помню, я собирала книги и теперь с чувством тихой внутренней радости перенесла их в новое хранилище.
Июньские вечера были долгими и светлыми, и мы работали допоздна. Но все-таки не уставали, – должно быть, потому, что нам было так весело! Нам так долго было весело! Каждый день, когда часы били пять, мы с Евой поднимали усталые головы над пишущими машинками, бросали блокноты со стенограммами в ящик, накидывали курточки, бросались в сутолоку движения на улице Кунгсгатан[232] и как можно быстрее мчались домой, в наше гнездышко. У нас едва оставалось время для еды. Мы запустили все остальные дела.
Стояла пора белых ночей, благословенных белых ночей! Расчет доброго Господа Бога, когда Он создавал стокгольмские белые ночи, состоял, конечно, в том, чтобы молодые мужчины и женщины, крепко обнявшись, медленно прогуливались летней ночной порой под сенью дубов Юргордена[233], мечтательно странствовали вдоль тихих синих вод. А мы? Что делали мы? Мы шили занавески! По вечерам к восьми часам приходил Ян, поначалу немного угрюмый, чуть ершистый, но потом мало-помалу его захватывал архитекторский энтузиазм – переделать две маленькие мрачные каморки в мансарде во что-то светлое и просторное, в квартиру, где можно дышать. Часов в двенадцать ночи мы пили чай и обсуждали итоги дня, а потом Ян шел домой, к своей вдове на Кунгсхольмен. И, слыша, как звуки его шагов постепенно затихают на лестнице, я всякий раз испытывала угрызения совести, но недолго.
В конце концов все было готово, и в один прекрасный вечер мы пригласили Яна отметить окончание ремонта. Я обнаружила, что готовить еду вообще-то не так уж трудно, если только пунктуально следовать указаниям поваренной книги. А у Евы были врожденные кулинарные способности.
– Самое лучшее у Евы – ее котлетки! – заявил Ян, положив себе на тарелку целую гору котлеток.
Он не сказал, что самое лучшее – мои тушеные сморчки, но я-то сама считала, что они фантастически хороши. И настроение у нас тоже было хорошее. Даже Ян расслабился и хохотал так, что стекла звенели. В самый разгар веселья в дверь позвонили. Я открыла. Предо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек с веселыми голубыми глазами, держа в руках лютню. Он быстренько вторгся в наше общество и сказал:
– Какой тут шум, смех и болтовня, дорогие друзья! И почему меня никогда не бывает там, где царит веселье?! И почему меня не приглашают к столу?
– Мы думали, вы уже поели, – сказала я.
– А кроме того, мы думали, что от тушеных сморчков у вас начнутся колики, – сказала Ева. – А между прочим, кто вы такой, собственно говоря?
– Альберт конечно, – весело сообщил голубоглазый. – Уже несколько недель я ваш ближайший сосед!
– Приятно! – сказала Ева.
– Я довольно долго сидел и слушал, как вы веселитесь, – продолжал Альберт. – Могу вас уверить, вас замечательно слышно со всех сторон! Но потом какой-то коварный негодник так понизил голос, что я не все мог разобрать, а в таком случае теряется смысл происходящего. И я подумал, что лучше мне прийти сюда.
– Совершенно правильно, – подтвердила Ева.
Но тут пробудился к жизни Ян. Смерив пришельца с ног до головы бодрящим, как открытая могила, взглядом, он было начал:
– По какому праву…
– Минутку, Ян, – предупреждающе сказала я. – Это мой дом, и я охотно приглашаю Альберта отведать тушеных сморчков.
– Во имя святого соседства, – подтвердила Ева и поставила на стол чистую тарелку.
– Да, спасибо, раз вы так настаиваете… – поблагодарил Альберт.
Отставив лютню в сторону, он без всяких церемоний сел за стол. Веселый, ничуть не смущающийся, шумный, он совершенно не обращал внимания на то, что Ян был поначалу немного мрачен.
Альберт рассказал, что снял комнату у пожилой супружеской пары, жившей рядом с нами. Он артист и недавно вернулся из длительных гастролей по провинции. Мы вспомнили, что видели в газетах его фотографии. Он сказал, что играл Отца[234].
Ян заметил, что если несчастная провинциальная публика узрела Альберта в роли Отца, то скука в провинции стала от этого еще более удручающей. Но Альберт только расхохотался и взял еще одну котлетку.
Все это время лютня стояла в углу, словно мрачная угроза нашему веселью.
– Думаешь, он будет петь? – боязливо прошептала я Яну.
– Не представляю, как тебе удастся ему помешать, – прошептал мне в ответ Ян.
Вообще-то звуки лютни – чудесны… только потому, что, когда она замолкнет, наступает благословенно прекрасная тишина. Но большая часть поющих под лютню обычно как можно дальше отодвигает этот сладостный момент. И у меня всегда становится тоскливо на душе, когда огромные сильные парни, по виду профессиональные боксеры, встают в позу и возвещают: «Я девушка, что бродит в лохмотьях вокруг…» – а затем до бесконечности: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, хопп-сан-са…»
Но Ева, видимо почувствовав к Альберту известный интерес и зная, как лучше польстить мужчине, пока мы с Яном ставили на стол кофейные чашки, явно улучила момент, чтобы подстрекнуть его спеть что-нибудь. Потому что Альберт, внезапно поднявшись, с наигранным смущением сказал:
– Кое-кто просил меня спеть!
– Кто этот идиот?.. – спросил Ян.
Но Альберт не позволил сбить себя с толку! А Ева сидела рядом с ним с горящими глазами, и в конце концов он и в самом деле перешел к песне: «Сходим-ка мы за пивом, за пивом, за пивом, ХОПП-сан-са…» – но тут мы с Яном вышли на кухню и поставили кипятить воду для кофе. А Ян поцеловал меня и сказал, что если бы я не была такая глупенькая и непонятливая маленькая дурочка, то мы могли бы быть уже женаты и иметь свой дом без всяких там певцов с лютней и все было бы хорошо.
И как раз в этот момент я почувствовала, что по-настоящему влюблена в Яна. И он держал меня в своих объятиях, пока кофе не сбежал, а я подумала, что, возможно, поступила неправильно. В комнате Альберт по-прежнему «ходил за пивом», а я сказала Яну, что об этом усердном хождении следовало бы, вероятно, доложить в Общество трезвости.
Но если не считать пения под лютню, Альберт был совершенно нормален и по-настоящему мил и приятен. И даже Ян стал в конце концов привыкать к нему. Мы завели граммофон и танцевали, пока не стало совсем светло. Потом сели в машину и покатили в Юргорден и мерзли, сидя там на скамейке на террасе Русендальского дворца[235], пока солнце не выползло из тумана за Йердетом[236], а маленькая певица малиновка совсем рядом не рассыпала первую трель наступающего дня.
IV
 то сказал, что в конторе должно быть скучно? В нашей конторе настолько весело, что это почти опасно для жизни! Во всяком случае, Барбру, сидя за пишущей машинкой, однажды хохотала так, что свалилась со стула и сломала ребро.
то сказал, что в конторе должно быть скучно? В нашей конторе настолько весело, что это почти опасно для жизни! Во всяком случае, Барбру, сидя за пишущей машинкой, однажды хохотала так, что свалилась со стула и сломала ребро.
Когда мы – Ева и Барбру, Агнета и я – хохочем как сумасшедшие, выходит из своей комнаты Сова-Халва и смотрит на нас. Сова-Халва – это фрекен Фредрикссон, кассирша. Ей абсолютно не трудно быть серьезной. Думаю, она и на свет родилась с серьезным жизненным мировоззрением и с двумя глубокими морщинами на лбу. А у Агнеты с Барбру и у нас с Евой взгляд на жизнь более радостный и светлый. По-видимому, так считает и Сова-Халва, когда говорит, что никогда в жизни не встречала четырех таких хохотушек. Морщины на ее лбу всякий раз обозначаются резче, когда ей надо пройти мимо «Моря рабов», где сидим мы – каждая за своей машинкой. «Море рабов», – возможно, слова эти звучат как что-то невероятно огромное и пустынное, но это абсолютная ошибка. Это – совершенно обычная комната, где наши четыре письменных стола стоят, плотно прижавшись друг к другу посреди комнаты. Кроме них остается место только для четырех пишущих машинок и для нас. «Квартет, Которому Тесно»[237] – это мы и есть! Каждая из нас – секретарша своего адвоката.








