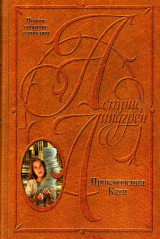
Текст книги "Приключения Кати"
Автор книги: Астрид Линдгрен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Через час появилась аварийная машина, чтобы спасти нас. Там сидел юнец лет семнадцати, в синем комбинезоне. Прежде чем начать буксировать нашу машину, он приподнял капот двигателя. Присвистнув, он сунул туда руку.
– Пять долларов! – сказал он Бобу.
Затем влез в свою аварийную машину и уехал.
Выяснилось, что в этот момент Боб абсолютно и бесповоротно махнул рукой на камни, где играл ребенком. Он хотел как можно быстрее вернуться в цивилизованный мир. Кроме того, мы потеряли много времени, а хотели до вечера добраться в дом родителей Боба близ Вашингтона, где мы с Тетушкой должны были провести несколько дней.
Мы начали отступление. Мотор урчал ровно и приятно. Он сыграл уже свою весеннюю шутку и не собирался больше бастовать, пока не окажется снова на достаточном расстоянии от больших дорог.
Но если кому-нибудь удастся случайно обнаружить банку гусиного паштета в Соединенных Штатах Америки, будьте добры, пришлите ее мне. Я обожаю гусиную печенку! И я знаю одного маленького ребенка, которого попрошу открыть эту банку.
X
 елые деревянные виллы в колониальном стиле вдоль всей улицы. Веранда со стороны фасада. Узенькая полоска сада между домами. Где-то на заднем плане – гараж. Сколько же миллионов американцев так живут?!
елые деревянные виллы в колониальном стиле вдоль всей улицы. Веранда со стороны фасада. Узенькая полоска сада между домами. Где-то на заднем плане – гараж. Сколько же миллионов американцев так живут?!
Так жили и родители Боба в маленьком пригороде Вашингтона, куда мы поздно вечером наконец прибыли после долгого дневного путешествия. И необыкновенно приятная, по-домашнему уютная картина открылась перед нами, когда мы увидели, как багровое вечернее солнце освещает все эти белые виллы, утопающие в сирени и вишневом цвету. Кое-где на верандах сидели веселые молодые люди, а добрые дядюшки бродили в садах, подстригая траву на лужайках и болтая друг с другом прямо через забор. И все закричали:
– Привет, Боб!
А многие подошли к нам поздороваться, усердно заверяя, что рады нас видеть. Да, тут легко было прийти к выводу: вся их прошлая жизнь была одним сплошным ожиданием того, что мы с Тётушкой наконец-то удосужимся посетить Америку. Я почувствовала, какая это хорошая страна, от нее издалека веяло демократией.
На веранде Боба не было веселых молодых людей, зато там сидел кто-то другой. Там сидел маленький, серьезный, черный как смоль джентльмен лет шести.
– Привет, Джимми! – поздоровался с ним Боб.
И маленькое черное личико расплылось в широкой белозубой улыбке.
Мне так хотелось поболтать немного с Джимми, но я не успела, так как именно в эту минуту разразился ураган. Это был папа Боба; громадный, веселый и шумный, он ввалился на веранду, а за ним по пятам следовали сестра и брат Боба – пятнадцатилетняя Памела и четырнадцатилетний Фред. А в арьергарде – тихая дама с мягким взглядом, мама Боба. Я сразу же почувствовала, что она, в отличие от миссис Бейтс, – подлинный образец воспетой столь многими поэтами Американской Матери в лучшем смысле этого слова: она своими нежными руками нянчит детей, без устали печет яблочные пироги; она – боготворимая всеми – сердце своего дома, она – опора американской нации… Короче говоря, она та, которая заставляет редактора журнала «Readers Digest»[108] кувыркаться от восторга, а потом спешить к пишущей машинке, чтобы отбарабанить новую статью в серию «Этого человека я никогда не забуду!».
До сих пор мне не приходилось близко общаться с такими людьми. Женщины, которых я видела в Нью-Йорке и в семье Бейтсов, почти все были неугомонные, светские, элегантные, с обильным макияжем. Они производили впечатление совершенно легкомысленных и поверхностных. Да, может, они и не были абсолютно глупы, но, во всяком случае, глядя на них, я чувствовала, что возникавшие в их головах случайные мысли легко разбегаются и что этим дамам весьма полезно пребывать в компании себе подобных. Поэтому радостно было видеть, что в Америке есть и такие, как мама Боба.
После того как мы поболтали на веранде, нас пригласили войти в дом, что мы и сделали. Сначала, как обычно, попадаешь в общую комнату. Потому что эти в целом практичные люди не додумались устроить отдельную гардеробную для верхней одежды. Первое, что делаешь, войдя в американский дом, это привычно, без церемоний направляешься в спальню и швыряешь пальто или плащ на кровать. Чрезвычайно удобно, в особенности если снаружи бушует снежная буря века и большую ее часть приносишь с собой на норковой шубе.
Но сейчас, слава Богу, стояла чудеснейшая весна. Нам подали поздний обед в кухне, служащей также столовой, а потом все мы расположились в общей комнате для a nice long talk[109].
Тетушка с легким подозрением посмотрела на отца Боба и начала беседу с вопроса:
– Что это за негритенок сидел на веранде?
Если она думала, что Джимми был собственным маленьким черным ягненком среди белых семейных овечек, то она ошибалась. Джимми был сыном colored woman[110], помогавшей в доме с уборкой. («Colored» говорят здесь о цветных американцах. Назвать негра негром – значит нанести ему настоящее оскорбление!)
Памела и Фред непринужденно участвовали в беседе – по сравнению с их ровесниками в Швеции это весьма редкое исключение. Я, по крайней мере, никогда не слышала, чтобы четырнадцатилетний мальчик так подробно беседовал о политике с Тетушкой, как Фред. Должно быть, есть в американских школах нечто такое, что позволяет молодежи непринужденно выступать и осмеливаться излагать свои взгляды. Я сказала мистеру Уитни – то есть папе Боба, – что его дети (не только Боб) чрезвычайно милы, и тогда он тут же начал говорить об education[111]. Education, о, в Америке это магическое слово! Мистер Уитни весь побагровел при мысли о том, какое колоссальное education получат его дети в Америке. Сам он никогда не учился в колледже, но, разумеется, вопреки этому хорошо справлялся с жизнью и успешно создал предприятие по продаже подержанных автомобилей. Но какой позор для него оказаться иногда в обществе людей, все до единого получивших образование в колледже! Коллеги вы или нет – между вами все равно огромная дистанция. Поэтому мистер Уитни так радовался, что Боб приобрел солидные познания в области коммерции в престижном колледже и что Памела и Фред, которые пока еще посещают среднюю школу[112], тоже поступят в колледж, даже если ему придется каждому американцу продать подержанный автомобиль, чтобы получить средства на образование детей.
Насколько я поняла, дать education своим детям – это то, к чему в большей или меньшей степени стремятся все американские родители. Взять хотя бы нашу маленькую прелестную горничную Фрэнсис в нью-йоркском отеле! Разве не она рассказывала нам, как ей приходится надрываться, убирая номера, только чтобы дать своим детям то удивительно волшебное и замечательное, что называется education. Ее собственные родители были бедные итальянские эмигранты, не умевшие ни читать, ни писать. Но молодежь, вырастающая в нью-йоркских джунглях, погибнет, если не получит education. Так утверждала Фрэнсис, прежде чем вскочить и начать застилать очередную кровать – ради своих детей, их образования.
У Тетушки слипались глаза, ужасно сонная, она все же вежливо слушала объяснения Фреда, почему он по своим убеждениям республиканец.
– Но какой ужас! – сказала мне Тетушка, когда Фред закончил. – Ведь в Библии уже все сказано о республиканцах и грешниках, так лучше уж быть демократом!
Затем она, пожелав всем спокойной ночи, удалилась в отведенную нам прелестную комнату для гостей. Я хотела было последовать ее примеру, но Боб предложил, чтобы мы еще ненадолго вернулись на веранду. Светила луна, а Боб должен был вскоре отправиться обратно в Нью-Йорк, и наши дороги разойдутся!
Подумать только, у американцев такое чувство юмора! Но как только речь заходит о любви, юмор у них совершенно отключается. Тогда слышится лишь дрожащий слезливый голос и пылкие уверения! И я не верю, что они придают своим словам слишком уж большое значение! Это как бы полагается, потому что такие слова и клятвы раздаются в фильмах, газетах и шлягерах. Европейских девушек, приезжающих в США, следовало бы предупреждать, что не следует принимать за чистую монету все, что, вздыхая, серьезно нашептывает им на ухо господин американец. Здесь в самом деле требуется не щепотка, но целая пригоршня соли!
«Друг порядка», или «Тот, кто знает жизнь» может возразить мне, что, мол, такие молодые люди есть во всех странах. Да, да, хорошо известно: кто уверяет, что он, мол, будет носить свою любимую на руках всю жизнь, тотчас начинает ворчать, когда она вместо этого просит его вынести помойное ведро, что все-таки значительно легче. Но любовь по-американски чуточку иная. У американской молодежи еще молоко на губах не обсохло, а они уже вынуждены притворяться, что любят своих dating-partners, — таково здесь правило хорошего тона.
А на веранде сидел мой милый Боб, обладающий чувством юмора, и мычал печальнейшие любовные песни:
– Now is the hour
when we must say goodbye.
Soon you’ll be sailing
far across the sea.[113]
«Sailing[114]— никогда в жизни, – подумала я. – Ведь стоит мне только выйти в море, как поднимается шторм не меньше двадцати семи баллов».
А Боб неутомимо продолжал:
– I'll dream of you,
if you will dream of me[115].
Что можно сказать в ответ на такую песню? Этому никогда не научишься в школе!
– Some day I'll sail
across the seas to you.[116]
Да, о боже! Какой удар ожидает Яна – это единственное, что можно сказать наверняка!
Нежная песня сменилась мягким приглушенным ревом. И тут из сада послышалось легкое восхищенное хихиканье, и от ближайшего куста сирени отделилась черная тень. Это Джимми стоял там, ожидая мать. Какое счастье, что хотя бы маленькие дети обладают здоровым и разумным взглядом на многие вещи.
Я быстро пожелала Бобу спокойной ночи и поднялась наверх – к Тетушке.
– Ложись спать, – сказала она.
Я ответила, что это мое самое большое желание. Потом стала раздеваться, тихо и сердечно напевая ей песню:
– I'II dream of you,
if you will dream of me, —
а потом спросила:
– Разве это не справедливо, милая Тетушка?
Она посмотрела на меня с величайшим отвращением.
– Я все время чувствовала, что это чистейшее безумие – пускать тебя в Америку, – сказала она. – Но то, что это так ударит тебе в голову… ох-ох-ох!..
XI
 сли хочешь увидеть народ Америки в разрезе, надо просто отправиться на такую большую автобусную станцию, как Грейхаунд[117], и усесться там в зале ожидания. От многочисленных билетных касс струится нескончаемый поток пассажиров разного цвета кожи, разных возрастов и по-разному одетых. Тут и потные рабочие в синих робах с засученными рукавами, и нарядные домохозяйки с пакетами в руках, и шикарные молодые матери с дико орущими младенцами, белые и негры вперемежку, пассажиры дальнего следования и такие, которым надо проехать только одну остановку. Если нет денег, чтобы пойти в кино, надо лишь расположиться на удобной скамейке в зале ожидания и совершенно бесплатно наблюдать самые интересные драмы из повседневной жизни. Перед залом ожидания кишмя кишат автобусы. Одни уезжают, другие приезжают, струясь никогда не иссякающим потоком.
сли хочешь увидеть народ Америки в разрезе, надо просто отправиться на такую большую автобусную станцию, как Грейхаунд[117], и усесться там в зале ожидания. От многочисленных билетных касс струится нескончаемый поток пассажиров разного цвета кожи, разных возрастов и по-разному одетых. Тут и потные рабочие в синих робах с засученными рукавами, и нарядные домохозяйки с пакетами в руках, и шикарные молодые матери с дико орущими младенцами, белые и негры вперемежку, пассажиры дальнего следования и такие, которым надо проехать только одну остановку. Если нет денег, чтобы пойти в кино, надо лишь расположиться на удобной скамейке в зале ожидания и совершенно бесплатно наблюдать самые интересные драмы из повседневной жизни. Перед залом ожидания кишмя кишат автобусы. Одни уезжают, другие приезжают, струясь никогда не иссякающим потоком.
Я сказала Бобу, что хотела бы один раз проехаться на грейхаундском автобусе. Потому что я ведь читала Стейнбека[118] и питала самые большие надежды, что автобус, в котором поеду я, также собьется с дороги и пойдет по ложному пути. Ложные пути – лучшее из всего, что я знаю. И один из последних драгоценных дней, остававшихся у Боба, он решил пожертвовать мне и моему странному и, увы, страстному увлечению поездками в автобусе. Мы решили совершить однодневную экскурсию в маленький очаровательный городок Уильямсберг[119], расположенный довольно далеко от Вашингтона.
В зале ожидания царила сутолока, и я бросала вокруг по-детски кроткие взгляды, чтобы увидеть как можно больше, пока Боб не всунул меня в нужную очередь к автобусу. В последнюю минуту Бобу пришло в голову, что надо купить сигареты, и он приказал мне заранее войти в автобус и занять два удобных места. Входная дверь была впереди, рядом с сиденьем шофера. Я бросила взгляд и обнаружила два подходящих места в конце автобуса, где и уселась в ожидании Боба.
Но пассажиры как-то странно поглядывали на меня. Конечно, нижняя юбка немного выглядывала из-под платья, но это так и должно было быть, так что дело было в чем-то другом. Неужели я выглядела как иностранка или же мой нос был испачкан сажей? В автобус вошел шофер, широкоплечий властный господин в брюках цвета хаки, опоясанный кожаным ремнем. Увидев меня, он сказал так громко, что его слышно было на весь автобус:
– You, young lady[120]. Пройдите вперед и сядьте здесь!
Но тут во мне взыграла кровь потомка викингов[121]. Я не позволю командовать мной, как ребенком.
– Зачем? – как можно нахальней спросила я.
– Этот автобус идет в штат Виргиния[122], – сказал шофер. Сказал так, словно эта фраза могла что-либо объяснить!
– Рада это слышать, – ответила я. – Для меня было бы ужасным сюрпризом, если бы ваш автобус намылился в Канаду или Мексику.
Но тут появился Боб. Мне показалось, что, увидев меня, он немного смутился. Помахав мне рукой, он показал на два свободных места далеко впереди. Я неохотно направилась туда и поинтересовалась:
– Что плохого в тех местах, которые выбрала я?
– Объясняю, – сказал Боб. – Ты, вероятно, знаешь, что Вашингтон пересекает река Потомак?
Я утвердительно кивнула головой:
– Да, разумеется, как мне этого не знать. Об этом я читала в учебнике по географии, так что про реку Потомак я помню так же превосходно, как о городах Чили и о том, сколько жителей в Никарагуа. Но мой разум дает осечку и отказывается понимать одну лишь мелкую деталь. Какое отношение имеет Потомак к нашим местам в этом автобусе?
– Прямое, – ответил Боб.
Как раз в этот момент в автобус влез невысокий седоволосый старик негр. Он нес множество разных пакетов, и вид у него был усталый. С облегчением вздохнув, он опустился на сиденье прямо перед нами. Властный шофер все еще стоял впереди, проверяя билеты, и, обернувшись к негру, сделал лишь одно легкое движение рукой. Без единого слова, с неописуемо пристыженным видом старик поднялся и заковылял к тому месту, которое только что оставила я. И тогда я все поняла… Я поняла, и у меня заколотилось сердце. На задних местах сидели только негры, а в передней части автобуса только белые. Во время моего пребывания в Америке я видела, как негры и белые совершенно естественно перемешиваются между собой. Да, конечно, не стану утверждать, что они общались между собой по-братски, но, во всяком случае, в вагонах трамвая и в автобусах никакой разницы между ними не делалось. Но, как объяснил мне Боб, это происходило потому, что я еще ни разу не пересекала реку Потомак. Через несколько мгновений это произойдет. И тогда я окажусь в штате Виргиния – в самом северном из южных штатов. И тем самым пересеку границу, за которой негры перестают быть людьми.
Это было в первый (но не в последний) раз, когда я увидела расовые предрассудки на практике. И когда автобус тронулся, я испытала неприятное чувство, от которого по спине забегали мурашки. И я не могла уже радоваться экскурсии, о которой так мечтала. Я сидела, не переставая размышлять о случившемся, и, вероятно, Бобу показалось это скучным. Он сказал, что если я даже и вбила себе в голову, что смогу решить проблему негров в Америке, то, вероятно, вовсе не так уж необходимо, чтобы это произошло именно здесь, в автобусе. Я согласилась с ним и сказала, что собираюсь как-нибудь на ближайшей неделе выкроить и посвятить этому послеобеденное время.
Затем я попыталась переключить свое внимание на Боба и прекрасный зеленый ландшафт Виргинии за окнами. Но это было не так-то легко. На каждой новой остановке входили в автобус новые пассажиры. В конце концов все места в отделении для белых оказались заняты, между тем как у негров несколько мест по-прежнему были свободны. И что же произошло? В автобус влез какой-то отвратительный жирный и потный пузан с гремуче-багровым лицом и парой противных маленьких свиных глазок. Вид у него был злой и мерзкий, так что, узрев его, я в высшей степени засомневалась в превосходстве белой расы. Но ни единого места, на котором мог бы сидеть этот белый джентльмен, уже не было. Во всяком случае в отделении для белых. Некоторое время он стоял, раздираемый сомнениями и с явным отвращением глядя на негров. И с таким выражением лица, словно вынужден отправиться прямо в очаг чумы, он в конце концов пошел туда и сел на свободное место рядом с очень опрятным и хорошо одетым негром. Белый человек имеет право сесть среди негров, если ему заблагорассудится и если больше нет других мест. Однако негр ни при каких обстоятельствах не имеет права сесть среди белых, даже если падает от усталости.
– Боже, – говорю я, – боже, будь я негритянкой, как бы я наступила на ногу белому грубияну, если бы он сел рядом со мной! Должен же быть хоть какой-нибудь порядок даже при таких жутких несправедливостях!
Нет, думаю, будь я негритянкой из южных штатов, я не стала бы пинать его! Я сидела бы, пожалуй, рядом с этим жирным пузаном, точь-в-точь как этот молодой негр, с непроницаемым выражением лица, боясь выдать, что творится у меня в душе. Потому что иначе… помилуй меня Бог!
Мало-помалу в автобус набилось столько народу, что весь проход заполнился стоящими пассажирами. И тогда произошло кое-что необычайно веселое. Всякий раз, когда кому-то из негров надо было покинуть автобус на остановке, всем белым, стоявшим в проходе, приходилось сначала вылезти из автобуса, чтобы вышеупомянутый негр мог пройти к выходу. Ха-ха! Думаю, для негров это были мгновения настоящего триумфа. Потому что, пожалуй, один-единственный раз им довелось увидеть, как белый уступает дорогу негру.
Через два часа автобус ненадолго остановился в небольшом городке, чтобы пассажиры немного размялись и съели сандвич у стойки в зале ожидания.
Здесь моему несчастному седовласому старику негру снова пришлось плохо. Над входами в туалеты висели таблички: «White women» – «White теп» – «Colored women» – «Colored men»[123]. Неудивительно, что южные штаты есть и останутся бедными, если на всех туалетах им приходится вешать двойные таблички. Маленький, сбитый с толку старичок негр, видимо, все же с трудом уяснил себе, что он colored, но потом, очевидно, дальше его умение читать не распространилось, и он, запутавшись, вошел в туалет для colored women. И таких громких криков, хохота и воплей, которые донеслись из туалета, должно быть, не слышали в Штатах по крайней мере со дня заключения мира. Черная раса хохочет там, где белая реагирует на оскорбление жутким негодованием.
Наконец-то мы прибыли в Уильямсберг, гордость Виргинии. Рука об руку бродили мы с Бобом вдоль широко известной улицы герцога Глостерского, где на рокфеллеровские деньги[124] были возведены дома, в мельчайших деталях воспроизводившие архитектуру колониального периода, когда Уильямсберг являлся важным общественно-политическим и культурным центром колонии[125]. Теперь город имеет идиллический вид и представляет собой место паломничества тысяч туристов, желающих ощутить прелесть и волшебство минувших времен, познать чувство, довольно необычное и сенсационное для Америки.
Ах, как ощущала я прелесть и волшебство минувшего, заглядывая в низенькие белые строения и очаровательные маленькие садики. Но ой-ой-ой, как наслаждалась я прелестью происходящего, сидя чуть позднее в таверне, когда на столе передо мной стояло блюдо отменно поджаренной виргинской ветчины, а рядом со мной сидел Боб. Ничего дурного о герцоге Глостерском сказать не могу, вероятно, он был достаточно хорош для маленьких фрёкен[126] колониального периода XVIII века. Но для Кати XX века он был Никто по сравнению с Бобом.
Однако мой автобус ничуть не отклонился от маршрута, как это было у Стейнбека! Хотя на обратном пути произошел пожар, да, так и было! Потому что кто-то бросил окурок сигареты на мягкую обивку кресла. Возникла ужасная паника! Весь автобус был сплошь пылающее море огня. Сначала спасать женщин и детей! Боб показал себя настоящим героем, совершая необычайные подвиги! Я открыла перевязочную на обочине дороги. Какая-то женщина испустила в моих объятиях последний вздох. Нет, теперь стоп, это вовсе не Стейнбек! Как уже сказано выше, кто-то бросил сигарету на мягкую обивку. Был ужасный угар, так что нам пришлось выйти и проветрить автобус; мы с Бобом сидели на стволе дерева и говорили друг другу нежные и сонные слова. Ах, только в книгах автобусы сбиваются с дороги!
Затем мы поехали дальше в темном автобусе через темную Виргинию, и нам все больше хотелось спать, и вдруг где-то сзади чей-то глуховатый голос запел колыбельную песню. И мы время от времени вздрагивали, проезжая по освещенным улицам какого-то маленького городка и бросая не слишком заинтересованные взгляды на методистскую церковь, на аптеку Джонса, на бензоколонку Милтона и на маленькие виллы с зажженными в садах фонарями – знак ночным путникам, что там сдается комната. Мы видели, хотя наши глаза почти слипались, молодых людей, толпившихся перед кинотеатром, где имя Бинга Кросби[127] сверкало в свете рампы и где жаровни у входа выбрасывали веселейшие каскады попкорна. Но автобус ехал так быстро, что вскоре все снова превратилось в тьму, тьму и тишину, даже стук мотора и колыбельная песня в конце автобуса. А моя голова все ниже и ниже соскальзывала на рукав куртки Боба, так приятно пахнущей виргинскими сигаретами.
Но сбиться с пути… нет, мой автобус не сбился с пути, нет!
XII
 штат Виргиния! Почему я все-таки не была маленькой фрекен из твоей колонии во времена твоего величия! Почему не родилась в одном из этих белых господских поместий где-нибудь в 1782 году![128] Клянусь, никто не танцевал бы с таким воодушевлением жигу и менуэт[129] на балах, никто не скакал бы верхом с такими пылающими пламенем щеками на лисьей охоте, никто не кокетничал бы более чарующе с широкоплечими кавалерами южных штатов, чем я! А едва мне минуло бы шестнадцать, как я ответила бы «да!» самому широкоплечему из толпы поклонников, и он привез бы меня как свою жену на собственную плантацию. И я бы быстренько родила ему одного за другим одиннадцать детей! А во время коклюша и кори они находились бы под неусыпным наблюдением изумительной чернокожей мамки[130]. Сама я бродила бы по своему чудесному саду среди магнолий и столепестковых роз, а еще рука об руку с мужем спешила бы по бархатисто-зеленым лужайкам вниз к нашему причалу на Потомаке, чтобы принять дорогих гостей, приплывших на лодке из Вашингтона или с близлежащих плантаций. И мы повели бы их в наш белый дом и великолепно пообедали вместе с ними. На моем столе работы Чиппендейла[131], на хрупком восточноиндийском фарфоре я велела бы сервировать изысканнейшие блюда, приготовленные в ближайшей поварне: цыпленка и виргинскую ветчину, раков и клубничное мороженое. Потом мы музицировали бы и в библиотеке читали вслух Шекспира – один из томов его сочинений в кожаном переплете. И во всех покоях трещали бы, пылая в каминах, дрова, а свет их отражался в хрустальных канделябрах на стенах. Все одиннадцать детей явились бы поздороваться с гостями, и мы все вышли бы в сад, пока спускались сумерки, а издалека, из хижин рабов, доносились бы приглушенные негритянские голоса, певшие о Боге, о Его Небесах и о том, как чудесно жить… и как трудно!
штат Виргиния! Почему я все-таки не была маленькой фрекен из твоей колонии во времена твоего величия! Почему не родилась в одном из этих белых господских поместий где-нибудь в 1782 году![128] Клянусь, никто не танцевал бы с таким воодушевлением жигу и менуэт[129] на балах, никто не скакал бы верхом с такими пылающими пламенем щеками на лисьей охоте, никто не кокетничал бы более чарующе с широкоплечими кавалерами южных штатов, чем я! А едва мне минуло бы шестнадцать, как я ответила бы «да!» самому широкоплечему из толпы поклонников, и он привез бы меня как свою жену на собственную плантацию. И я бы быстренько родила ему одного за другим одиннадцать детей! А во время коклюша и кори они находились бы под неусыпным наблюдением изумительной чернокожей мамки[130]. Сама я бродила бы по своему чудесному саду среди магнолий и столепестковых роз, а еще рука об руку с мужем спешила бы по бархатисто-зеленым лужайкам вниз к нашему причалу на Потомаке, чтобы принять дорогих гостей, приплывших на лодке из Вашингтона или с близлежащих плантаций. И мы повели бы их в наш белый дом и великолепно пообедали вместе с ними. На моем столе работы Чиппендейла[131], на хрупком восточноиндийском фарфоре я велела бы сервировать изысканнейшие блюда, приготовленные в ближайшей поварне: цыпленка и виргинскую ветчину, раков и клубничное мороженое. Потом мы музицировали бы и в библиотеке читали вслух Шекспира – один из томов его сочинений в кожаном переплете. И во всех покоях трещали бы, пылая в каминах, дрова, а свет их отражался в хрустальных канделябрах на стенах. Все одиннадцать детей явились бы поздороваться с гостями, и мы все вышли бы в сад, пока спускались сумерки, а издалека, из хижин рабов, доносились бы приглушенные негритянские голоса, певшие о Боге, о Его Небесах и о том, как чудесно жить… и как трудно!
Поскольку я была бы южанкой, я никогда бы не задумывалась, что наше благосостояние зиждется на рабстве других людей. Но, во всяком случае, мои рабы были бы счастливыми рабами! О, я была бы для них матерью, а вся наша плантация составляла бы целую маленькую колонию. Мы выращивали бы табак, и кукурузу, и пшеницу… А годы бы шли… Я становилась бы все мудрее и мудрее и как раз перед Гражданской войной сошла бы в могилу, удовлетворенная сознанием того, что способствовала созданию прекраснейшей культуры, которая когда-либо процветала в Америке.
Да, я была бы мертва, мои столепестковые розы и магнолии увяли бы, но люди вспоминали бы меня и мой образ жизни, как тонкий и редкий аромат, как изысканно красивую мелодию!
– Почему я не родилась в давние времена в Виргинии? – грустно спросила я Боба. – Меня это по-настоящему огорчает!
Но он ответил: это quite a coincidence[132], что меня угораздило родиться в одно столетие с ним.
Это вид Mount Vernon, очаровательной резиденции Джорджа Вашингтона, пробудил во мне такую горькую тоску о прошлом. Точно так же следовало бы жить и мне, в таком красивом белом доме на склоне, спускавшемся к Потомаку, такие же прелестные лужайки должны были бы быть у меня и такой же дивный сад меж защищающих его самшитовых шпалер. Здесь все сохранилось точь-в-точь в таком виде, как во времена первого президента. У меня было чувство, будто я иду по Святой земле, и я с величайшим благоговением стащила с роскошной цветочной клумбы маленькую фиалку. Милый Джордж Вашингтон, там, наверху на небесах!.. Прости меня за это, я хотела только засушить ее и оставить себе на память, понимаешь?
Потом мы с Бобом снова покатили домой вдоль по-весеннему зеленых дорог, а в лесу цвел кизил. Джордж Вашингтон, когда ему нужно было попасть в город, предпочитал большей частью плыть по реке, потому что, стоило ему поехать по проселочной дороге, неприятностей с нападениями индейцев, бывало, не оберешься.
Однако странным образом мы с Бобом добрались до Вашингтона, не заметив ни единого перышка из головного убора индейца. Везет же иногда! Солнце освещало круглый мраморный купол Капитолия[133], где, очевидно, заседали конгрессмены, принимая мудрые решения. И как только им было не лень заниматься этим в такую дивную погоду, когда парки и скверы города утопали в безбрежном море цветущей вишни!
Собственно говоря, мне и вправду следовало бы печалиться. Ведь для меня и Боба это был безвозвратно последний день, который мы проводили вместе! И в автомобиле, по дороге в наш маленький пригород, я почувствовала, что это именно так. С каждым метром пути я грустнела все больше и больше. Но это еще не все! Не только безумная боль разлуки, но и кое-что совсем другое бушевало во мне все сильнее. Ведь эти раки в мягкой скорлупе, которые я подавала дорогим гостям во время своей воображаемой экскурсии в XVIII век, были определенно не такими уж свежими, как следовало бы!
– Кати, как по-твоему, тебе будет хоть сколько-нибудь меня не хватать? – спросил Боб.
Я почувствовала, что у меня на лбу выступает холодный пот.
– Мне будет не хватать тебя каждую минуту, – жалобно ответила я.
Но умом я понимала, что, если Боб и все человечество вместе с ним в это мгновение вымрут, меня это вообще ни капельки не тронет. Я лишь со вздохом облегчения брошусь в кровать и буду лежать там в полном одиночестве и чувствовать себя отвратительно.
– Знаешь, – продолжал Боб, – когда я думаю о том, как приятно нам было вместе, я радуюсь от всего сердца.
Но вдруг он прервал свою речь. Я посмотрела на него. Вид у него был вовсе не такой, будто он радуется от всего сердца, а скорее зеленый. Да, лицо у него было точь-в-точь такое же зеленое, какое, как я чувствовала, было и у меня. Но Боб ведь не ел раков из XVIII века в мягкой скорлупе! Должно быть, дело в мороженом, которое мы купили по дороге при выезде из Маунт-Вернона. Зачем американцам нужно окружать свои великие национальные памятники и реликвии венком из киосков с мороженым?
С желчно-зелеными лицами, что нам чрезвычайно шло, провели мы все послеобеденное время, с которым связано было столько ожиданий, припаркованные каждый в своей комнате и в своей кровати. Вообще-то никого, кроме маленького негритенка Джимми и его мамы, в доме не было. У Тетушки жила в Вашингтоне замужняя старая хорошая подруга. К ней она и переехала пару дней тому назад. И это тоже было хорошо, потому что я никогда по-настоящему не верила в пользу раскаленной крышки от кастрюли, которую она обычно накладывала мне на живот. Тетушкино фирменное средство при отравлении! Родители Боба, его сестра и брат уехали в Балтимор и не собирались вернуться раньше вечера.
Однако шестилетний Джимми был замечательный санитар. На своих маленьких быстрых черненьких ножках он бегал с записками между комнатами Боба и моей.
«Как ты себя чувствуешь?» —
спрашивал Боб.
«Зеленее, чем обычно», —
отвечала я.
Милая Бетси, желая выказать свое расположение, прислала мне наверх с Джимми большую порцию ананасного мороженого.
Я смотрела на мороженое с отвращением, между тем как глазки Джимми сияли.
– Признайся, тебе ведь ужасно хотелось съесть это мороженое, пока ты поднимался вверх по лестнице? – спросила я.
– Да нет, ясное дело, нет! – возмущенно уверил он меня. – Я только лизнул его.
Когда остаток мороженого исчез в его розовом горлышке, он из благодарности станцевал мне какой-то танец. Казалось, будто маленький гибкий зверек из джунглей ворвался в комнату. Все тело мальчика ритмично сокращалось и так немыслимо извивалось, что я застонала на своем ложе. Его маленький задик производил впечатление совершенно отдельного, особого существа, которым мальчик мог манипулировать по своему желанию. Мои глаза вращались, когда я пыталась следить за движениями Джимми. Пожалуй, мне было бы лучше вздремнуть, но что-то неописуемо, чарующе притягательное было в этом подвижном ребенке, и невозможно было отвести от него взгляд. В конце концов у меня так закружилась голова, что Джимми, заметив мое жалкое состояние, пожалел меня и сказал:
– Самое лучшее, что вы можете сделать, мисс Кати, это выпить большую ложку касторки.
С жутким криком нырнула я в ванную комнату.
– А что, по-твоему, самое лучшее во вторую очередь, милый маленький Джимми? – спросила я, вернувшись из ванной. – Может, укокошить тебя?
Но самое лучшее во вторую очередь я уже сделала. И почувствовала себя гораздо бодрее. В общем, Джимми был моим благодетелем.
Я послала своего спасителя с новой запиской к Бобу:
«Вставай, лентяй, хватит симулировать!»
Я сказала Джимми, что, если записка не поможет, пусть он заведет разговор о касторке, а лучше всего что-нибудь станцует и ему.
Вечером, когда семья Боба вернулась домой, мы устроили farewell-party[134] в честь Боба. И никогда еще люди не ели так мало из столь многих блюд. Мама Боба приготовила великолепный ужин и накрыла на стол в столовой. Однако мы с Бобом были исключительно эфирны, бледны, бестелесны и строго придерживались тем духовных.
– Кажется, они влюблены, – сказал Фред. – Они так влюблены, что из-за этого даже побледнели.
Но у других членов семьи, право же, был такой же плохой аппетит; они, должно быть, останавливались у каждого киоска с хот-догами и гамбургерами между Балтимором и Вашингтоном.








