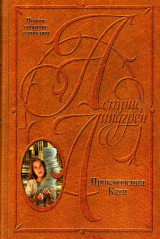
Текст книги "Приключения Кати"
Автор книги: Астрид Линдгрен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Фред сидел в углу с только что приобретенным комиксом, одним из тех серийных журналов, которые, похоже, любимейшее чтение американской молодежи. Более «приятного» чтения надо поискать! Насколько я понимаю, все сводится главным образом к тому, что прекрасных полуобнаженных женщин с пышной грудью подвергает всем возможным, мыслимым и немыслимым пыткам «приятный» джентльмен. Причем вид у него такой, будто он – помесь Бориса Карлоффа[135] и Призрака Оперы[136].
– You and your comics![137] – с видом превосходства сказала Памела Фреду.
– You and your soap operas![138] – огрызнулся в ответ Фред.
И тогда папа Боба разразился громкими упреками: вот, мол, вкалываешь тут всю жизнь, чтобы дать детям education, а единственное, чем они интересуются, – это мерзкие комиксы и дурацкие soap operas, иными словами – дурацкие радиопередачи. Взволнованно маршируя взад-вперед по комнате, он клялся, что через два-три поколения американцы вообще разучатся читать. Они будут сидеть словно приклеенные перед радиоприемниками или телевизорами и перелистывать самые тупые страницы комиксов, чей скудоумный текст они с грехом пополам смогут прочитать по складам, с горечью сказал отец Боба, после чего включил радио, чтобы послушать репортаж о бейсбольном матче.
Я подумала о прекрасных книгах в кожаных переплетах из библиотеки Маунт-Вернона. Да, было время, когда в Америке читали Шекспира. Однако много воды утекло с тех пор в Потомаке…
На другой день Боб укатил обратно в Нью-Йорк. А я после его отъезда проплакала целых четверть часа.
XIII
 икогда в жизни! – заявила Тетушка. – Никогда в жизни – это мое последнее слово! – произнесла она, когда я в первый раз предложила ей поехать в Новый Орлеан. С одной стороны, она ведь так и не избавилась от своей старой милой привычки – говорить «нет!» в ответ на все мои разумные предложения. С другой стороны, ее как раз угораздило прочитать газетную статью о ночной жизни Нью-Орлеана. Видимо, эта ночная жизнь была такова, что у Тетушки, стоило ей лишь подумать об этом, обозначалась морщинка у рта.
икогда в жизни! – заявила Тетушка. – Никогда в жизни – это мое последнее слово! – произнесла она, когда я в первый раз предложила ей поехать в Новый Орлеан. С одной стороны, она ведь так и не избавилась от своей старой милой привычки – говорить «нет!» в ответ на все мои разумные предложения. С другой стороны, ее как раз угораздило прочитать газетную статью о ночной жизни Нью-Орлеана. Видимо, эта ночная жизнь была такова, что у Тетушки, стоило ей лишь подумать об этом, обозначалась морщинка у рта.
– Никогда в жизни! – повторила она. – Это мое последнее слово.
Когда поезд отошел от вашингтонского вокзала и Фред с Памелой и папа с мамой Боба исчезли вдали, я почувствовала острую боль в сердце. Увижу ли я когда-нибудь снова их самих и их белую виллу среди цветущей сирени? Все они были так добры ко мне! Никогда не забуду аромат цветущей сирени в тот последний вечер, когда Боб был дома! Не забуду и маленького хорошенького mocking-bird[139], который каждое утро пел за окном в саду, да и наши уютные завтраки в уголке кухни! Нет, наши завтраки я буду вспоминать всегда! Пока все остальные в доме спали, Фред, Пам и я беспрепятственно хозяйничали в кухне. Фред замешивал тесто и пек вафли в электрической вафельнице (покажите мне четырнадцати летнего парня в Швеции, который, прежде чем пойти в школу, печет вафли!), а Пам варила кофе и выжимала апельсиновый сок. Все происходило в быстром американском темпе. Они так привыкли обслуживать сами себя, что никогда и речи не было, чтобы мама вставала в такой ранний час.
– Невелика цена человеку, который не может приготовить завтрак самому себе! – хвастливо говорил Фред ломающимся голосом, кладя новую круглую вафлю на стол, который Пам так аппетитно накрыла к завтраку. Солнце струилось потоком в кухонное окно. Так приятно было пить кофе и видеть, как мистер Джонс из соседней виллы дает задний ход, выкатывая машину из гаража, меж тем как его собака прыгает и лает вокруг него, а жена возле цветочной клумбы срезает и подает ему фиалку, чтобы воткнуть в петлицу, и муж пускается в путь к своей конторе в downtown[140]. Никогда не забуду и то, с какой трогательной готовностью мама Боба возила меня по всему Вашингтону, показывая его достопримечательности – Капитолий, библиотеку Конгресса, Белый дом и многое другое. Она ничего не пропускала, и если бы могла преподнести мне на блюдечке мистера Трумэна[141], она бы это непременно сделала! Иногда я не могла не удивляться, когда она, собственно говоря, занимается домашним хозяйством? Уборщица приходила раз в неделю. А вообще все тяготы по хозяйству покоились на ее плечах.
Но, ах, никогда я не видела, чтобы эта ноша была менее обременительной, и все-таки в хозяйстве все шло как по маслу. Целые дни мы разъезжали на машине, а незадолго до обеда заворачивали в один из больших магазинов самообслуживания, которые мне так нравились. Приятно было видеть огромное количество первоклассных продуктов, собранных в одном месте. Я с таким удовольствием бродила среди гор овощей и фруктов, между прилавками, заваленными сочным мясом, и витринами, заполненными консервами, хлебом и деликатесами. Это зрелище радовало глаз, и было приятно взять в одном месте пучок спаржи, в другом – пару груш и несколько прекрасных котлет в целлофановой упаковке в третьем и продолжать в том же духе, пока наша маленькая тележка не наполнится доверху. А потом мы выкладывали все это перед молодой красивой дамой, стоявшей возле устройства, напоминавшего больше всего вертушку у входа в Скансен[142], и быстро все оплачивали.
Уж не знаю, как маме Боба все это удавалось, но не более чем через полчаса все семейство уже сидело вокруг аккуратно накрытого обеденного стола и ело отменно вкусный и прекрасно приготовленный обед. Затем все помогали убрать со стола и сложить грязную посуду в посудомоечную машину, а после этого мама Боба садилась за пианино и пела американские народные песни так, словно у нее никогда и в мыслях не было такого банального занятия, как работа по хозяйству.
Но теперь все это было в прошлом. Я сидела вместе с Тетушкой в поезде по дороге на the deep South[143], и Тетушка, которая так упрямилась, когда я впервые вынырнула со своим предложением, была теперь, похоже, в лучезарнейшем настроении. Она барабанила башмаками на пуговках об пол и жужжала нечто напоминавшее, как она наверняка думала сама, песню «Заснеженный Север – наша отчизна…». Очевидно, для того, чтобы the deep South был любезен запомнить это!
Я изучающе наблюдала за ней.
– Право же, не каждый день ты встаешь с песней на устах! – сказала я. – Ты уверена в том, что абсолютно здорова?
– Здоровее, чем всегда, – заявила Тетушка. – Я уже давным-давно не была в таком хорошем настроении.
– Как же так? – спросила я. – Ради бога, почему?
Потому что, откровенно говоря, страшновато было видеть ее такой возбужденной. Это так ошеломляет, словно маленькая злобная гремучая змейка приползла и попросила тебя почесать ей спинку!
Я быстро вычислила, откуда взялась ее резвость. Она радовалась, что мы уехали из Вашингтона и от семьи Боба, а прежде всего – от самого Боба. Она смертельно боялась, что я всерьез прилипну к Бобу. Так вот, оказывается, где собака зарыта! Теперь Тетушка наверняка полагала, что настало время протрубить: «Отбой тревоги! Опасность миновала!» Поэтому она и барабанила каблуками по полу так высокомерно-торжествующе.
– Вот что, Кати! – сказала она. – Никогда не выходи замуж в Америке, это принесет тебе только несчастье. Этот Боб!..
Она закончила свое высказывание фырканьем.
Нет, нет, если бы Тетушке дозволено было распоряжаться, я никогда не вышла бы замуж ни в Америке, ни в какой другой части света. И ныне и присно я должна оставаться лишь Тетушкиной маленькой любимицей.
Между тем в настоящий момент я была слишком переполнена новыми переживаниями – путешествием поездом по Америке – и не в силах была даже вот так сразу решить, как будет со свадебными колоколами: как, где и когда зазвенят они для меня.
Пульман, пульмановский вагон[144] – это звучало для меня как волшебное слово, примерно с тех самых пор, как я пошла во второй подготовительный класс. А сейчас мы с Тетушкой сидели в таком вот комфортабельном пульмановском вагоне, которому более чем на сутки предстояло стать нашим домом. Темнокожий, типа дядюшки Тома, porter[145] ходил повсюду неслышными шагами, как добрый и дружественный томте[146], и бодрствовал, заботясь об удобствах пассажиров. Стоило лишь нажать на кнопку, и он тут же поспешно являлся, готовый сделать все, что угодно: помочь с багажом, сбегать за газетами, принести бутылку пива, убить чью-либо тетушку или выполнить любое твое желание. (В благодарность в конце поездки ему давали доллар, – по крайней мере, когда речь шла о довольно длительной поездке.)
– Whoopee![147] – восхищенно закричала я, обращаясь к Тетушке, потому что мной уже начало овладевать очарование этой поездки.
Мы с Тетушкой обе пребывали в таком веселом, шутливом настроении, что, сидя на наших широких диванах, слегка подпрыгивали, между тем как мчались вперед со скоростью… да, только не спрашивайте меня, с какой скоростью, вернее, сколько километров в час! Время от времени мы издавали такое неприветливое гудение, которое хорошо известно по американским кинофильмам (разумеется, мычали не мы лично, а поезд). О, мычание звучало так меланхолично, совершенно непохоже на веселый свист, которым возвещает о своем прибытии шведский поезд.
«Эдгар Аллан По»[148] – так назывался наш пульмановский вагон. Потому что в Америке название получают не только поезда, но и вагоны. Приятная привычка, думается мне, крестить поезда. Признайтесь, это звучит куда более авантюрно – ехать поездом под названием «Чаттануга Чу-Чу»[149] или «Утро Гайаваты»[150], нежели поездом №17 или №56.
«Эдгар Аллан По», как уже говорилось, был наш вагон, и хорошо, что мы это знали, когда потихоньку отправились на прогулку в вагон-ресторан съесть поздний обед.
Не успели мы сесть за стол, как негр кельнер, подбежав к нам, подал мне лист бумаги и ручку.
Я только было собралась сказать: «Мой автограф? – Пожалуйста!» – как вдруг меня осенило: вряд ли он охотился за автографом. Я украдкой взглянула на наших соседей по столу и увидела, что они что-то вписывают в листок, да, в такой же точно. Да, дело было не в автографах. Надо было всего лишь написать, что мы желаем к обеду.
Напротив нас сидели по-настоящему очаровательная пожилая дама и по-настоящему… м-да, не особенно очаровательный, но чрезвычайно милый молодой человек с мягким взглядом карих глаз. Явно это были мать и сын. Как всегда в Америке, мы быстро разговорились. И Тетушка замерла, как косуля, почуявшая приближающуюся опасность, когда молодой человек, приветливо улыбаясь, произнес на своем тягучем южном диалекте:
– Ah don’t think Ah have seen a Swedish girl in my whole life![151]
Похоже, Тетушка подумала, что он может и в дальнейшем прекрасно обходиться без шведских девушек. Но эти милые люди – оба – жили в Нью-Орлеане, и я решила, что никогда не помешает завести там небольшое знакомство. Так что я пустила в ход все то, что Тетушка называла моим «преступным обаянием». Тетушка, наоборот, стиснув зубы, становилась все более мрачной и, как только появилась такая возможность, утащила меня обратно к «Эдгару Аллану По».
Однако «Эдгар Аллан По» претерпел головокружительное изменение, так что мы никогда не узнали бы его, если бы не надпись на дверях. Наш приветливый проводник, пока пассажиры обедали, успел постелить постели. И наконец-то мне довелось увидеть наяву такой поразительный спальный вагон с длинным узким проходом между рядами спальных мест за зелеными занавесками, вагон, который так часто видела в кинофильмах. Там, где сидели мы с Тетушкой, были теперь два достаточно просторных спальных места – одно над другим. Тетушка попыталась было сунуть голову совсем в другое купе, где сидел толстенный мужчина, пытавшийся снять подтяжки. Но он так энергично запротестовал, что Тетушка отступила и быстро ретировалась в собственное купе. А я влезла на верхнюю полку, опустила за собой занавески и, пытаясь снять свою новую американскую блузку, застегивавшуюся на спине, едва не сломала ключицу. Спальные места были достаточно просторны, но, сидя в постели, было довольно трудно раздеваться.
У Тетушки внизу царило ужасное беспокойство, и я подумала: «Ага, корсет! Ей никогда его не снять!» Немного отодвинув занавеску, я посмотрела вниз. Она вовсе не сражалась с каким-то там корсетом. Она всего-навсего занималась своей обычной вечерней гимнастикой. Тетушка не пропустит ее даже в день Страшного суда! Она надрывалась изо всех сил, пытаясь сунуть одну ногу за спину. В конце концов ей это удалось. Практическая польза такой позы показалась мне довольно сомнительной, но зрелище было живописное, тут уж ничего не скажешь.
– Спокойной ночи, милая Тетушка! – сказала я. – Не удивляйся, если этой ночью тебе приснится какой-нибудь необычайный кошмар. Подумай, в чьих объятиях ты покоишься – в объятиях «Эдгара Аллана По»!
XIV
 а, это был Юг. То была раскаленная докрасна земля Юга, которую я увидела, выглянув из окна поезда. И эти неказистые, серые, ветхие, полуразрушенные сараи – жилища, в которых ютились негры и мимо которых мы проезжали, – тоже был, Богу известно, Юг. Ни на минуту не возникало сомнения в том, где живут негры, а где белые, – это было видно на расстоянии сотни метров.
а, это был Юг. То была раскаленная докрасна земля Юга, которую я увидела, выглянув из окна поезда. И эти неказистые, серые, ветхие, полуразрушенные сараи – жилища, в которых ютились негры и мимо которых мы проезжали, – тоже был, Богу известно, Юг. Ни на минуту не возникало сомнения в том, где живут негры, а где белые, – это было видно на расстоянии сотни метров.
О чем ты думаешь, старая усталая негритянка, когда сидишь, раскачиваясь в кресле-качалке у себя на веранде? Я вижу тебя лишь одно краткое мгновение, когда поезд пролетает мимо, я никогда не узнаю, как ты справляешься, живя в такой беспредельной нищете. Но твой образ навсегда запечатлеется в сетчатке моих глаз. Такая, какая ты сидишь, печально глядя на опускающиеся сумерки, именно в этой позе, – ты стала для меня олицетворением всей твоей несчастной измученной расы. Я видела так много вас, точно так же сидящих на жалких верандах. Несколько беглых секунд видела я ваши темные лица при свете огня, горевшего в развалюхе, которая называется домом. Но дети на улице танцевали так весело, словно жили в самом лучшем из миров.
Поезд идет так быстро, и я никогда не узнаю, в самом ли деле ты так печальна, мой друг, какой кажешься, сидя там в кресле-качалке.
* * *
Стоял темный вечер, когда мы прибыли в Новый Орлеан. Темный теплый вечер! Какое потрясающее ощущение – очутиться внезапно в теплыни юга!
– Здесь попотеешь! – произнесла Тетушка.
Джон Хаммонд, ну тот, с мягким взглядом карих глаз, раздобыл нам такси. Мы проболтали с ним целый день, проезжая штаты Джорджия, Алабама и Миссисипи, пока Тетушка и миссис Хаммонд обменивались рецептами печенья. А сейчас, в минуты расставания, он чрезвычайно деликатно спросил, нельзя ли ему завтра позвонить нам в отель и показать нам город.
– О да, пожалуйста, – поспешно, пока Тетушка переводила дух, ответила я.
Ругала она меня уже в машине, когда мы ехали вдоль сверкающей огнями Canal Street[152].
– Сначала Боб, а теперь этот! – возмущалась она. – Что это, собственно, значит?
Я не могла удержаться, чтобы немножко ее не подразнить:
– Non-stop Heartbreaking[153] от Нью-Йорка на севере до Нового Орлеана на юге – вот что это значит! Уж если ты пожирательница мужских сердец, то так ею и останешься!
Когда вскоре мы ложились спать в отеле, Тетушка все еще ворчала:
– Несчастье и ничего, кроме несчастья, из всего этого не выйдет!
Миссисипи – вот то, что я желала увидеть прежде всего. И назавтра, ранним утром, подхватив Тетушку под руку, я взяла курс прямо вниз, к реке.
В реках есть нечто чарующее. Стоит лишь произнести название реки, и сразу же возникает множество ассоциаций и мысленных образов. Например, Волга. Это слово звучит так печально! Святая Русь XIX века, Россия Достоевского и Горького! Горестная песня бурлаков в холодные осенние вечера! Для меня Волга – река страданий. А Дунай! Весна в Вене перед Первой мировой войной. Император Иосиф I[154]. Мундиры, любовь, тюлевые платья, «Венский вальс»[155]. Нил, древнейшая из рек! Фараон на троне, с посохом и бичом в руках, стовратные Фивы[156], задыхающиеся в жаркой пустыне. Белые ибисы на фоне заката. И Миссисипи! Миссисипи ночью. Гекльберри Финн на своем плоту! Маленькие поселки американских колонистов. Причаливает лодка, театр на воде. Арбузы. Магнолии. Грустные голоса негров.
Нет, реки не похожи ни на что другое. А здесь Миссисипи – прямо перед моими глазами, могучая, с мутной серо-желтой, вяло текущей водой. Но только не видно Гека, одетого в лохмотья, в обтрепанных брюках и с трубкой во рту.
– Что это за мелкая речушка? – спросила моя не слишком обремененная знаниями Тетушка.
И надо же было тащить такую Тетушку через Атлантику. Достаточно было показать ей речку Эмон в Швеции.
– Разрешите представить! – сказала я. – Old Мап River Mississippi![157]
Это моя Тетушка из Швеции! Такая, какая уж она есть!
Было тепло. Постояв немного, без особого восторга глядя на Миссисипи и отметив, что вода там как вода, Тетушка поспешно потребовала, чтобы ее отвели обратно в отель, в наш номер, где на потолке имеется вентилятор. Строго говоря, единственное, что Тетушка видела в Новом Орлеане, – это, пожалуй, вентилятор.
Но я-то повидала гораздо больше. Вместе с моим гидом Джоном Хаммондом я кинулась очертя голову в Vieux Carré, широко известный квартал города, где французское прошлое Нового Орлеана еще по-прежнему жило в разных уголках.
– У вас всегда такая жара? – спросила я своего провожатого, когда мы пробирались по теневой стороне Ройял-стрит.
Он улыбнулся, словно наивное дитя:
– Вы называете это жарой?
– Да, – сказала я. – Вспомните, что я приехала из страны, где ходят с глубоко промерзшими коленями до самого дня летнего солнцестояния.
Тогда он коротко поведал мне о том, что такое жара. Пылающая вездесущая жара, неподвижно нависающая над городом с конца мая и покидающая его жителей в состоянии выжатых лимонов где-то в октябре.
– Сегодня на редкость прохладный день, – сказал Джон.
– All right[158], тогда все в порядке! – согласилась я. И подумала, что лучше не протестовать, если он почувствовал, что ему необходимо с размаху бить руками, чтобы согреться.
Мне говорили, что в Новом Орлеане должно быть «lots of atmosphere»[159]. Но и части жары, царившей между рядами пошатнувшихся домишек в Vieux Carré, было бы достаточно… Много метров книг, стоявших рядами на полках, было написано об этом квартале, совершенно не похожем на обычную, оснащенную кондиционерами Америку. Здесь теснится огромная толпа писателей и прочих людей свободных профессий, стремящихся почерпнуть вдохновение в столь красочной среде. Здесь расположены маленькие живописные ресторанчики, которые по-прежнему придерживаются французской кухни и вообще французских обычаев. И здесь кучи баров, и ночных клубов, и игорных домов, где ночи напролет цветет пышным цветом знаменитая ночная жизнь Нового Орлеана.
Ой, я тоже почувствовала такое вдохновение! То тут, то там взору открывается темная арка ворот, ведущая во двор, а там внутри находишь удивительный patio[160], полный цветов – олеандров и акаций. В одном из таких патио я обнаружила Колодец желаний. Здесь за скромную плату можно было, подумать только, загадать любое желание! Я щедро бросила вниз в прозрачную воду колодца три шведские одноэровые монетки[161]. Но затем, покраснев от стыда, я поняла, что шведская валюта в настоящее время настолько обесценена, что не годится даже для Колодца желаний и почти равноценна брючным пуговицам. Так что после некоторой внутренней борьбы я пожертвовала пять центов звонкой и твердой американской валюты, пожелав, чтобы я… нет, об этом рассказывать не стану!
Я обследовала все проулки, карабкалась по всем маленьким винтовым лесенкам, останавливалась у всех витрин до тех пор, пока Джон, несмотря на то что был «на редкость прохладный день», не начал заметно уставать. Не будь он таким светским и благовоспитанным, у него наверняка, как у одного лейтенанта, который шел со своей юной невестой в церкви к алтарю, появилось бы желание воскликнуть: «Черт побери, Амалия, шагай в ногу!»
– Пообедаем у Антуана, – сказал в конце концов Джон.
– Прекрасная идея! – согласилась я, уже наслышанная об этом широко известном старом ресторане.
Та же прекрасная идея, очевидно, пришла в голову половине населения Нового Орлеана, так что нам досталось лишь чудесное место в очереди за пределами тротуара. «Antoine. Since 1840[162] – было написано на вывеске над входом в рай. Пожалуй, не у многих ресторанов в Штатах такие древние предки. В очереди было очень приятно, и все весело болтали друг с другом, чтобы скоротать время. Но я была голодна, и ноги у меня устали. В конце концов я решительно заявила, что в ногах у меня такое ощущение, словно я простояла здесь «since 1840», и тут мы получили наконец столик и поглотили дюжину «устриц Рокфеллера», коронного блюда этого заведения.
В Америке не так, как у нас дома, где выходишь в ресторан пообедать, а потом упрямо и прочно приклеиваешься к этому заведению, пока официанты не начинают ставить стулья на столы. В Америке все рестораны, что дают обеды, закрываются примерно около девяти часов вечера. Если ты еще недостаточно насладился ресторанами, то отправляешься в бары или ночные клубы.
Мы с Джоном этого не сделали. Мы поплыли по Миссисипи на громадном туристическом пароходе, где танцевали на огромной палубе, пока пароход медленно скользил по реке. Вдоль набережных длиной с милю мелькали темные контуры грузовых пароходов со всех уголков земли. Ночь была такая теплая! На небе было столько звезд, сверкающих звезд южного неба! Но еще ярче сияли огни города, еще ярче светило, блестело и сверкало за нашими спинами то, что называлось – Новый Орлеан.
XV

Ничего другого, кроме этого упрямого объяснения, я не смогла выжать из шофера такси, которого интервьюировала по поводу его отношения к неграм. Да, он сказал также, что хорош тот негр, который лежит на глубине пяти футов[164] под землей. Но тут я вылезла из такси и расплатилась с шофером.
– Бедный «этот народ», – говорю я.
Ужасно было видеть белых и цветных, живущих бок о бок в одном и том же государстве и все же так строго отграниченных друг от друга, словно между ними воздвигнута незримая стена.
– У меня такое чувство, словно во мне формируется новая Гарриет Бичер-Стоу[165], – предостерегающе сказала я Джону Хаммонду, когда мы ели ленч в одном из маленьких уютных ресторанчиков в Vieux Carré, где столы были расставлены в патио под открытым небом.
Джон помешивал ложечкой креветочный коктейль и ничего не ответил.
– У меня безумное желание поднять знамя мятежа! – продолжала я. – Отвратительно видеть, как вы обращаетесь с цветными здесь, в южных штатах.
Но тут Джон начал читать мне длинный доклад. Он сказал, что ни один человек, рожденный не в южных штатах, не может справедливо решать проблему негров. Вне всякого сомнения, существует немного благородных и образованных негров. Но большей части ни в коем случае нельзя еще дать вольную, белой расе необходимо сохранить свое господство.
– С помощью линчеваний и прочего насилия, – ввернула я.
Джон притворился, что не слышит.
– Представь себе штат, как, например, Миссисипи, – сказал он, – где негров столько же, сколько и белых, а в ближайшем будущем, возможно, негров станет еще больше. А теперь представь себе плантацию, где, возможно, пять-шесть белых живут в окружении нескольких сотен негров. Как ты думаешь, что произойдет, если негры не будут абсолютно убеждены в неприкосновенности белых?
– Чепуха! – отрезала я. – Так, стало быть, именно в этом причина того, что ты даже не подашь руки негру? Уж не думаешь ли ты, что непосредственно в результате этого рукопожатия и произойдет восстание на плантации в штате Миссисипи?
Джон боязливо огляделся. Разумеется, он боялся, что кто-нибудь за соседними столами услышит мои еретические высказывания. Затем он начал говорить о Reconstruction[166] (это делают все жители Юга раньше или позже) – периоде, последовавшем за Гражданской войной. Саму войну можно забыть. Но пока Вселенная существует, жители южных штатов будут вспоминать, что было потом. Reconstruction, стало быть, период, когда армия северных штатов осадила южные, дала неграм свободу и возможность занимать важные посты в общественной жизни. А следствием были ужасающие насилия со стороны негров.
Я заметила, что у Джона, должно быть, сказочно хорошая память, если он помнит то, что случилось во второй половине XIX века, и тогда выяснилось, что его прадедушка со стороны матери говорил, что дни Реконструкции никогда не следует забывать! А последующие поколения потом только подмяукивали.
– Нет, – утверждал Джон, – совершенно необходимо, чтобы негры по меньшей мере еще одно столетие оставались на своих местах, по крайней мере до тех пор, пока не станут более образованными.
Я возразила, что, возможно, в таком случае не мешало бы вложить чуточку больше денег в образование негров. И добавила: мол, я не верю, что так уж опасно для жизни американцев выказать неграм хоть капельку обычной человечности и дружелюбия.
Джон был уже близок к панике, боясь, что кто-нибудь из сидящих вокруг услышит, какая я nigger lover[167]. Это худшее прозвище, которое вообще может прозвучать на Юге. Но я продолжала неутомимо интервьюировать Джона: что он может сделать и не делает, если он белый и живет в южных штатах. Пожал ли он когда-нибудь руку негру? Никогда! Может ли он представить себе, что обедает вместе с негром? Никогда в жизни!
Да и вообще, нет ни одного ресторана для белых, в котором обслужили бы негра. Может ли Джон представить себе, что ходит в гости к негру?
Джон даже не пытался ответить на эти вопросы, он только стонал. Я решила освободить его от общества такой опасной анархистки, как я, и сказала, что мне надо в мире и покое подумать. И села на скамейку среди деревьев возле Джексон-сквер[168] и стала думать. Я пыталась представить себе, как это было бы, будь я не Кати из Стокгольма, а негритянской девушкой здесь, в штате Луизиана. Да, как это, собственно говоря, могло бы быть? Прежде всего мне нельзя было бы сидеть на этой скамейке, где разрешается сидеть только белым.
Быть может, у меня возникло бы желание посетить соседний музей, совсем рядом. Там висят плети и железные цепи, которыми пользовались белые, чтобы истязать и мучить моих предков. Там находится и большой стол, который в минувшие времена употреблялся на аукционах рабов. На этот стол выставлялись мои предки на обозрение желающим их купить. Я и сейчас еще могла бы увидеть следы, оставленные их ногами на деревянном столе. Я могла бы увидеть все это… если бы мне было дозволено войти в музей. Но этого мне нельзя.
Если бы я захотела сесть в трамвай, чтобы уехать отсюда, я могла бы, разумеется, это сделать. Но я не могу сесть там, где захочется. «For colored patrons»[169] – этой табличкой я должна руководствоваться. Если бы я захотела пить и нашла фонтанчик на улице, то не могла бы удовлетворить там жажду, – это могут сделать только белые, потому что их жажда благороднее моей. Если бы мне понадобилось что-нибудь купить, я могла бы зайти в магазин и сделать это, да, пожалуйста, потому что белые сделали открытие, что мои деньги ничем не отличаются от их денег. Но, понятно, меня не будут обслуживать так, как если бы я была белой. Меня не станут называть «мисс». И есть множество магазинов, которые специально оповещают, что обслуживают «дискриминированных» покупателей. Я, очевидно, могла бы посещать high school и college[170], потому что их на удивление много для меня и таких, как я, но, во всяком случае, я не могла бы никогда получить работу, где реализовала бы свои знания. Мне пришлось бы довольствоваться какой-нибудь скромной должностью уборщицы в отеле, должностью экономки или чем-то таким. Да и за свою работу я получала бы гораздо меньше денег, чем если бы была белой. А когда я мыла бы посуду, мне не разрешалось бы смешивать мой обеденный прибор с господскими. Не могла бы я здесь, в Новом Орлеане, пойти посмотреть один из знаменитых футбольных матчей. Не могла бы поплыть на пароходе на такую экскурсию, которую совершила, будучи Кати из Стокгольма. Не могла бы посидеть в одном из уютных ресторанчиков в Vieux Carré. Я не могла бы сделать этого и ничего другого, даже если бы у меня было много денег. Ничто не поможет, даже если моя кровь на три четверти состоит из той самой необыкновенной крови белого человека. Если у меня в жилах течет самая малость негритянской крови, то я есть и останусь негритянкой. Я – Джим Кроу[171] и подчиняюсь запретам для Джимов Кроу, которые придумала белая раса, чтобы моя знала свое место, – потому что «покажи негру палец, он всю руку отхватит», и вспомни Reconstruction, и «ни один человек, рожденный не на Юге, не может понять…». Понять что именно?.. А то, что «niggers», «darkies»[172], «sambos»[173], «pickaninnies»[174], собственно говоря, не что иное, как скопище диких зверей, которые недавно вышли из джунглей.
Такова горькая действительность для меня, бедной негритянской девушки из Луизианы. И единственное утешение, которое я могу придумать, – то, что есть штаты гораздо хуже. Есть штат, который называется «Миссисипи», – самый худший, и я должна радоваться, что родилась не там. Ричард Райт[175] родился там, да, тот, что написал повесть «Черный юноша».
Со вздохом облегчения, что я все же Кати из Стокгольма, я поднялась со скамейки и рысью помчалась в отель – посмотреть, жива ли еще Тетушка. С человеческой точки зрения, она была жива. Она оставила небольшую записку, в которой сообщала, что уехала с миссис Хаммонд и что пусть я только посмею снова явиться так же поздно и сегодня вечером!
В эту минуту как раз явилась наша милая Рози – горничная-негритянка с миндалевидными глазами. Много дней я пыталась вступить в контакт с кем-нибудь, кто рассказал бы мне, как сами негры смотрят на свое положение. Но только попытайтесь это сделать, и вы увидите, как нелегко белой женщине вступить в беседу с негром в стране, где белые практически никогда с ними не разговаривают. Не могу представить себе, что бы произошло, если бы я без всякого, просто так подошла к кому-нибудь на улице и попросила бы побеседовать со мной. Но тут я попыталась заговорить с Рози. Она очень удивилась. Сначала она была необычайно немногословна, но в конце концов у нее развязался язык. Она сказала: она не думает, будто добрый Бог считал, что так и должно быть.
– Белые смотрят на нас как на животных. / just wonder why[176], — сказала она, печально глядя перед собой своими прекрасными глазами. – I just wonder why, — повторяла она раз за разом, как будто я совершенно не понимала, что ей и в самом деле необходимо объяснение. – А в вашей стране много цветных? – робко спросила она под конец. Слова ее звучали неописуемо смиренно, примерно так, словно она задавала вопрос, есть ли и у нас те, кого можно топтать ногами.








