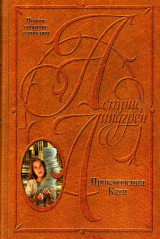
Текст книги "Приключения Кати"
Автор книги: Астрид Линдгрен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Да, думаю, что, когда Мария Склодовская легкими шагами поспешно шла по этой улице, парочка бродяг была на том же месте. Я словно видела, как она, пробегая мимо них, приподнимала свою длинную юбку. Куда она шла? Быть может, на Rue Mouffetard, чтобы купить какую-нибудь еду. Я словно видела, как она открывает свой тощий кошелек и достает оттуда пару франков и покупает себе немного уже готового картофельного пюре, чтобы утолить злейший голод. Она смотрит пред собой глазами, которые ничего не видят из того, что творится на оживленной улице. Предполагаю, она думает, вероятно, о каком-то эксперименте, которым займется, лишь только вернется домой. Я воображаю это так живо, что верю в это сама. И спрашиваю Еву и Леннарта: верят они в это?
– Точно! – говорит Ева. – И держу пари, Робеспьер тоже жил здесь. Потому что здесь пахнет кровью! – И она повела ноздрями, нюхая воздух.
– Здесь пахнет pommes frites[484], но жаренным в слегка прогорклом растительном масле, – сказал Леннарт.
– Здесь пахнет кровью! – настаивала Ева. – Робеспьер сидел именно в этой грязной комнатке, в которую меня сослали, чтобы ты, Леннарт, жил в роскошном номере для новобрачных вместе с Кати. Повторяю, Робеспьер сидел именно за этим самым столом, который явно стоит здесь со дней революции[485], и с него с тех самых пор не стирали пыль. Робеспьер сидел здесь такой довольный и думал, кого бы на следующий день послать на гильотину!
Я оживленно продолжила:
– А когда он вспоминал очередное имя, он приходил в восторг и бормотал про себя: «Это хорошо!»
– У вас обеих жуткая фантазия! – сказал Леннарт. – Робеспьер прятался здесь, когда сам опасался угодить в тюрьму. Так мне рассказывали. И вообще это, вероятно, выдумка.
– Тебе вечно надо все испортить! – с досадой сказала Ева. – А нам было так приятно. Но все равно, здесь пахнет кровью!
– Здесь пахнет pommes frites, – повторил Леннарт. – А как вообще-то насчет Эйфелевой башней?
Ох уж эта Эйфелева башня, она была для нас как бельмо на глазу! Мы вели себя просто предательски по отношению к бедному мсье Эйфелю, так как вообще не желали подниматься на его башню! Но не видели никакой возможности этого избежать.
– Не можем же мы приехать домой и сказать, что не были там, – сказала Ева. – Так вести себя нельзя!
– Вероятно, не стоит вечно плыть по течению, – заявила я. – Тем более когда надо подниматься на высоту триста метров. Я хотела бы быть такой вот особенной туристкой, которая возвращается домой, увидев только то, что не попадается на глаза обычным туристам.
– Да, но должны же быть границы, – возразила Ева. – Эйфелева башня, Дом инвалидов[486], Лувр[487] – никто не должен пройти мимо.
– Ты все-таки не станешь утверждать, что пойдешь в Лувр только из чистого чувства долга, – ужаснулся Леннарт, потрясенный до самой глубины своей души любителя искусства.
– Нет, нет, нет, – заверила Ева, успокаивая его, слегка помахивая руками. – Я тоскую по Моне Лизе[488] и Нике Самофракийской[489] так, что у меня болит сердце, но я хочу покончить с ними как можно быстрее, чтобы пойти и купить себе шляпку.
Леннарт покачал головой и промолчал. В конце концов он расхохотался и сказал:
– Да, чем только не интересуются туристы, приезжая в Париж! Мы трое, собственно говоря, на собственном примере можем помочь выявлять туристов различных типов.
– Разве? – спросила я. – Объясни, пожалуйста.
– Ева принадлежит к тем, кому вообще-то следовало жить на правом берегу Сены, – сказал Леннарт, – так как там есть все, что ее интересует. Там дома мод, там большие универмаги и там Rue de Rivoli…[490]
– А что интересного на Rue de Rivoli? – алчно вытаращив глаза, спросила Ева.
– Нет, пусть Леннарт скажет сперва, что за тип я!
– Ты очень милый маленький тип! – сказал Леннарт и поцеловал мне руку. – Однако я еще не закончил с определением типа Евы!
– Нет, послушаем, чем еще я интересуюсь! Так я смогу получить множество ценных советов.
– Ты хочешь гулять по большим элегантным бульварам, сидеть в ресторанах на Champs Elysées и видеть красивых француженок в очаровательных платьях… Да, да, вообще-то, думаю, что я тоже этого хочу, но…
– Ну а что еще я хочу? – спросила Ева, делая вид, словно все сказанное Леннартом было ее заветнейшей мечтой.
– Пожалуй, ты охотно пойдешь в «Лидо» и «Drap d’Or» и в другие дорогие ночные клубы.
– Конечно, но на это у меня нет средств, – печально сказала Ева. – В таком случае мне надо сначала раздобыть какого-нибудь подходящего миллионера… а у меня ведь тут всего десять дней.
– Что касается Кати, она все-таки принадлежит к тому типу, которому следует жить на левом берегу.
– По-твоему, выходит, что престижнее жить на левом берегу? – подозрительно произнесла Ева.
– Престижнее… точно не знаю, – заметил Леннарт. – Кати интересуется красочными одеждами, людьми, старинными улицами и домами, атмосферой Парижа и прочим в этом же роде. Она интересуется книгами. Она наверняка могла бы целый день рыться в лавках букинистов и была бы абсолютно счастлива.
– Отчетливо понимаю, что Кати принадлежит к гораздо более утонченному типу, – сказала Ева. – Кати интересуется книгами и простыми тружениками, меж тем как я слежу за переменами моды на правом берегу и читаю газету «La Vie Parisienne»[491], не так ли?
– Давай не будем цепляться к словам, – предупредил Еву Леннарт.
– Позволю заметить, я купила книгу внизу, на Quai Malaquais[492]. А что купил ты? Я купила «Les fleurs du mal»[493] небезызвестного господина Бодлера.
– А ты уже что-нибудь прочитала из этого сборника?
У Евы был глубоко оскорбленный вид.
– Думаю, ты спятил! – ответила она. – Когда мне было читать? По-твоему, я должна была ночью бодрствовать и изучать господина Бодлера? Прошу заметить, что ночью я сплю, поэтому у меня такой свежий вид!
Вид у нее в самом деле был очень свежий.
– Послушаем, к какому типу относишься ты, Леннарт? – сказала я, переводя разговор на другую тему.
– Да, именно! – захотела узнать Ева. – Думаю, ты, пожалуй, просидишь в Notre Dame до тех пор, пока не настанет время ехать домой.
Леннарт навернул белокурый локон Евы на свой указательный палец и осторожно подергал.
– Я, должно быть, рассердил тебя, – сказал он. – Но я вовсе не собирался дразниться.
– Я хочу знать, какой тип ты, Леннарт! – воскликнула Ева. – Оставь в покое мои волосы! Скажи точно, что привело тебя в Париж?
– Кати, – сказал Леннарт. – В первую очередь я приехал сюда, чтобы жениться на Кати и показать ей город, который люблю. А кроме того… ладно! Никакой я не «тип», но считаю только, что из нас троих я, возможно, единственный, кто на самом деле считает, что ходить по музеям – чудесно. Вернее, по музеям изящных искусств.
– Да, сидишь тут – варвар варваром среди особ со сплошь возвышенной душой, – сказала Ева. – Пожалуй, не стоит напоминать вам, что это я захотела пойти с вами в Jeu de Paume уже в самый первый день?
– Да, пожалуй, я не понял тебя, Evita mia[494], – признался Леннарт.
– Вообще-то, – заметила я, – замечательно, что мы – все трое – интересуемся разными вещами, а пасемся стадом. Таким образом сможем увидеть разные стороны Парижа!
– Давайте составим список! – закричала Ева, быстро смахнув пыль со стола Робеспьера. – Сначала составим список самого необходимого, что нам надо посмотреть.
Ева составляет списки на все, начиная с «Если я заболею водобоязнью», «Заметки о тех, кто может меня укусить» до «Мужчины в моей жизни». Она вытащила листок почтовой бумаги и уселась к столу.
– Список тех, «кого я завтра пошлю на гильотину», – сказала она, – уверяю вас, что Робеспьер сидел здесь и составлял такой список… Сейчас увидим, какие у нас будут рубрики. Когда приезжаешь в Париж впервые, нужен список того, без чего нельзя обойтись. Леннарт, диктуй мне… ты ведь все знаешь!
– Да, я знаю все наизусть. То, что я перечислю, делает каждый приезжающий в Париж, а потом едет домой и бьет себя в грудь со словами «Знаю ли я Париж? Да, думаю, что знаю!»
– А что он делает? – спросила я.
– Поднимается на Эйфелеву башню, – начал перечислять Леннарт. – Посещает гробницу Наполеона в Соборе Дома инвалидов. Осматривает Лувр – из чувства долга; собор Парижской Богоматери и Sacré Coeur – также из чувства долга. Выпивает аперитив в «Café de la Paix»[495] – с величайшим восторгом. Бегает по магазинам на Rue de Rivoli – будь то он или она. Забегает в «Галери Лафайет» и в другие магазины. Один вечер просиживает на Place du Tertre[496] на вершине Монмартрского холма. Один вечер – в кафе «Dôme»[497] на Монпарнасе или, возможно, в кафе «Flore»[498] в St. Germain-des-Prés. Затем Булонский лес[499] и Люксембургский сад. Букинисты на набережных Сены. Вот и все в общих чертах.
– Думаю, я слышала разговоры о чем-то называемом площадь Pigalle[500].
Леннарт приподнял брови.
– Неужели? – удивился он. – Такая маленькая невинная девочка, как ты! Но ты права – некоторые туристы никогда не заходят дальше площади Пигаль и увеселительных заведений вокруг нее. И из всего скучного, что можно найти в Париже, это – самое скучное. Это ничуть не более французское занятие, чем мои старые башмаки.
– Но все же можно совершить туда экскурсию в познавательных целях, – стала уговаривать Леннарта Ева. – Исключительно в познавательных.
– А не начать ли нам день с того, чтобы посетить исключительно в познавательных целях Эйфелеву башню, с которой вы так долго приставали ко мне?
С Эйфелевой башни открывается необыкновенно прекрасный вид. Весь Париж, словно блин, лежит у вас под ногами. А на стенах висят телефоны-автоматы, и если сунуть в них пять франков, то можно узнать о всевозможных вещах – у кого сегодня счастливый день и за кого выйдешь замуж.
– Это, право же, меня давно интересовало, – сказала Ева. – А ну-ка посмотрим!
Будущий муж Евы станет Député[501], – утверждал автомат. Леннарт же думал, что она не может рассчитывать на то, чтобы ей удалось охмурить какого-нибудь французского депутата. Он утверждал, что это предсказание грозит скорее какому-нибудь шведскому депутату риксдага[502].
– Ты так считаешь? – спросила повеселевшая Ева. – Да, да, как только вернемся домой и распакуем все самое необходимое, придется совершить налет не только на первую, но и на вторую палату депутатов!
VI
 гучая тоска Евы по Моне Лизе и Нике Самофракийской и по прелестным картинам импрессионистов в Jeu de Paume была постепенно утолена. Но когда она увидела знаменитую картину Мане «Déjeuner sur l’herbe»[503], в ней пробудилась тоска нового рода. Она тоже пожелала завтракать на зеленой траве, «хотя и не столь легко одетой», – сказала Ева.
гучая тоска Евы по Моне Лизе и Нике Самофракийской и по прелестным картинам импрессионистов в Jeu de Paume была постепенно утолена. Но когда она увидела знаменитую картину Мане «Déjeuner sur l’herbe»[503], в ней пробудилась тоска нового рода. Она тоже пожелала завтракать на зеленой траве, «хотя и не столь легко одетой», – сказала Ева.
– Милый Леннарт, не можем ли мы это осуществить? – молила она. – Завтрак в Булонском лесу – сегодня, когда такая прекрасная погода!
Даже я смотрела на него умоляюще.
– Да, милый Леннарт, – попросила я.
– Вы говорите словно двое бедных маленьких детей, умоляющих о чем-то жестокосердого отца, – ответил Леннарт. – Пожалуй, не я один распоряжаюсь в этой компании.
– Да, но автомобиль поведешь ты, – заметила Ева.
– А мы с Евой организуем все остальное, – подхватила я. – Идем, Ева, запасемся продовольствием.
Мы быстро бросились вниз по лестнице с изображениями семи смертных грехов на стенах. И Ева сказала, что заметила у себя явную склонность абсолютно ко всем смертным грехам, за исключением жадности.
– А прежде всего – обжорство, – сказала она, останавливаясь перед изображением неестественно толстого человека, иллюстрировавшего своей фигурой этот смертный грех.
– Вот так и будешь выглядеть! Хо-хо-ха-ха!
Студент, комната которого находится рядом с комнатой Евы, как раз поднимается по узкой лестнице. Он обволакивает ее целой серией взглядов своих бархатных глаз, и они проходят друг мимо друга со множеством «извините!» и «извините!» с одной и с другой стороны. И мне, пожалуй, кажется, что процедура слишком растягивается, причем без всякой необходимости. Ведь лестница вовсе не так узка, а Ева, несмотря на свое «обжорство», еще не достигла таких объемов, чтобы представлять собой какую-то помеху вовсе не на такой уж узкой лестнице.
– Я все думаю, не стоит ли мне, пожалуй, пойти и помечтать с ним как-нибудь вечером, – сказала Ева, когда студент исчез за дверью своей комнаты.
– Да, но ты ведь его не знаешь, – предупредила я Еву.
– Не знаю! – воскликнула она. – При таких-то тонких стенах, как в здешнем отеле! Мы обычно поем друг другу! Хотя и притворяемся, что, разумеется, не знаем, будто это – друг для друга! Он поет мне каждое утро: «Gomme un p’tit coquelicot…»[504], когда чистит зубы, а только кончает петь он, начинаю я: «В первый раз, когда увидела тебя!» Вообще, теперь он умеет уже насвистывать эту песенку. Правда, иногда он фальшивит, но я его поправляю!
– Может, он думает стать député, когда вырастет, – намекнула я.
– Нет, он изучает медицину, – сообщила Ева.
– Ты это тоже слышала через стену? – спросила я.
– Нет, это через Николь. Она рассказывает мне каждое утро об Анри и обо всех других, кто здесь живет.
– Анри?
– Его зовут Анри Бертран! Да! Я, пожалуй, выйду как-нибудь вечерком и немного помечтаю вместе с ним… Когда как следует продумаю этот вопрос. Все же я в Париже… и все прочее! Да, да… но сейчас речь, стало быть, идет о еде. Что мы купим?
Мы свернули на Rue de l’Estrapade[505].
– Прежде всего ветчину, – сказала я. – На этой улице жил Дидро[506], ты знаешь?
– Нет, да и вообще, какое мне дело до этого! – заявила Ева. – Но знаешь, что я прочитала вчера в газете «Paris Soir»?[507] Поставили фильм «Rue de l’Estrapade»! Как раз про эту улицу. С этим милым малюткой Даниэлем Желеном в главной роли.
– Он был арестован там, в доме номер три, после того как написал «Lettres sur les aveugles»[508].
Ева остановилась.
– Они арестовали Даниэля Желена? – закричала она.
– Дидро, глупышка! – объяснила я.
Ева с облегчением вздохнула.
– Дидро! – сказала она таким тоном, что явно дала понять: пусть бы Дидро просидел в темнице всю свою жизнь, если уж так случилось. – Смотри! – закричала она. – Маленькая Дурочка еще не проснулась!
Мы прошли уже на Place de la Contrescarpe[509], где на своем обычном углу спала Маленькая Дурочка. Она была из тех, что обитали здесь в великом множестве. Маленькая старушка, которая обычно бродила по вечерам по Rue Mouffetard, веселая, приветливая и чуть растерянная, поэтому мы и прозвали ее «Маленькая Дурочка». Здесь повсюду жило столько бедных эмигрантов и «простых трудящихся», «маленьких людей», как называла их Ева, а также много гораздо более колоритных фигур: уличные воришки и бродяги, проводившие большую часть своей жизни под открытым небом. Когда наставал вечер, Rue Mouffetard и все ее бесчисленные бары заполнялись так, что начиналась давка. Своеобразнейшие типы пили пиво или перно[510]. Они кричали, болтали и хохотали, а посреди всей этой толкотни бегала Маленькая Дурочка и тоже смеялась и кричала.
Она нам нравилась. В Маленькой Дурочке был шарм, но сейчас она спала на своем обычном углу на Place de la Contrescarpe, от которой начинается улица Муфтар. Знаешь ли ты, Маленькая Дурочка, что некогда в стародавние времена возле этой маленькой площади располагалось знаменитое кафе «Pomme de Pin»?[511] Знаешь ли ты, что Рабле[512] и Вийон[513] по очереди сиживали здесь и шумели по вечерам? Они были бы для тебя веселыми спутниками, ты дурачилась бы вместе с ними, если бы жила в те дни!
Но Маленькая Дурочка все спала и спала. А нам ведь надо было покупать продукты.
– Ты говорила – ветчину! А что еще?
– Жареного цыпленка и сыр – несколько сортов, и хлеб.
– И легкое-прелегкое вино, – предложила Ева. – Vauvray![514]
Мы обошли зигзагом между ларьками на Rue Mouffetard и купили все, что нам было нужно.
– Etez-vous triste?[515], — сказал мне какой-то сумрачный господин, когда я несколько мгновений одиноко стояла в стороне, пока Ева покупала клубнику.
Он ободряюще похлопал меня по плечу, словно намекая, что знает множество хитроумных способов развеселить меня в случае, если я и вправду огорчена.
Хо-хо, если бы он только знал, как мало я огорчена! Я была чуть ли не веселее, чем Маленькая Дурочка, которая как раз проснулась и готовилась начать новый день.
Проходя мимо, я сунула ей скомканную банкноту – сто французских франков. Она взглянула на меня, как ребенок в тот миг, когда в сочельник зажигается елка, и улыбнулась мягкой и теплой улыбкой.
Когда мы вернулись, Леннарт уже ждал нас с машиной, и мы втиснулись в нее – все трое.
Вообще-то я не люблю, когда Леннарт ездит по Парижу, я так нервничаю! Здесь, на левом берегу, все идет хорошо, но, как только мы попадаем в пробку на Place de la Concorde, у меня душа уходит в пятки. Чтобы нам удалось выбраться отсюда живыми, мне лучше всего помочь этому по-своему: зажмурить глаза, когда грозит явная опасность, впиться ногтями в ладони и согнуть пальцы ног так, чтобы в икрах начались судороги. Но никогда ничего не случалось, да и на этот раз все прошло счастливо. Я так усердно сгибала пальцы, проезжая мимо Champs Elysées, и крепко-крепко зажмуривала глаза, объезжая Триумфальную арку, что мы без всяких неприятностей смогли свернуть на Avenue Foch[516].
Здесь движение было более спокойным, и я осторожно попробовала рискнуть выпрямить пальцы ног. Все прошло хорошо, и опасность на этот раз миновала! Мы медленно ехали вдоль знаменитой авеню. Здесь в шикарных домах с зелеными лужайками перед фасадами жили богачи.
– Не странно ли, – заметил Леннарт, – и на богатых, и на бедных смотреть интересно. Все то, что посредине, между ними, не заслуживает внимания.
– Да, ты прав, – согласилась я. – На дом миллионера и на дом самого последнего бедняка смотришь всякий раз, когда попадаешь в другую страну! Только крайности, только контрасты. То, что не относится ни к тому ни к другому, никого не интересует.
– Так всегда, – подхватила Ева. – Если хочешь, чтобы тебя по-настоящему заметили, надо быть человеком крайностей: либо Маленькой Дурочкой, либо женой Ага-Хана[517], либо прекрасной, как день, либо такой уродиной, что у людей перехватывает дыхание, когда они тебя видят!
Мы немного порассуждали на эту тему, въезжая в светлую зелень Булонского леса, и пришли к приятному заключению, что мы, пожалуй, те, кто находится посредине, и если даже мы не очень достойны, чтобы на нас смотреть, все равно это самый счастливый случай.
– Если нам только удастся отыскать свободное место, мы увидим воочию, что такое завтрак sur l’herbe,[518] – сказала Ева.
– А не покататься ли нам сначала немножко на лодке? – предложил Леннарт.
– Ой, в самом деле, это можно? – воскликнула Ева. – Ой, как чудесно! Я не гребла с тех пор, как малышкой ездила к бабушке в Эдлескуг и там по вечерам каталась на лодке по озеру Эдслан. А как называется это озеро?
– Lac Inférieur[519], – ответил Леннарт.
– Пожалуй, оно значительно уступает Эдслан, – сказала Ева. – Не такое большое.
Озеро сверкало на солнце. Оно выглядело заманчиво, даже если его нельзя было сравнить с Эдслан. Маленькие лодки с молодыми парижанами и парижанками лениво скользили вдоль одетых кудрявой зеленью берегов. Мы взяли напрокат две лодки, потому что Ева непременно хотела оживить воспоминания детства и грести самой.
– Если я закрою глаза, то смогу представить, что это Эдслан, – сказала она.
– Если ты закроешь глаза, ты будешь сталкиваться с каждой встречной лодкой, – предупредил Леннарт, беря в руки весла.
Мы заскользили по тихой водной глади среди множества других лодок. В основном в них сидели молодые пары, однако встречались и милые папы, плававшие по озеру с веселыми щебечущими детьми.
– Подумай только, – сказала я Леннарту, – когда эти дети вырастут и станут рассказывать об озере своего детства, они будут иметь в виду искусственное озеро в Булонском лесу, разве это не странно? А как называется озеро твоего детства, Леннарт? Ты никогда мне об этом не рассказывал.
– Канхольмский фьорд, – ответил Леннарт. – Я жил там каждое лето, пока мне не исполнилось десять лет. А потом папе больше понравилось западное побережье. Но именно в Канхольмском фьорде я научился плавать, и там я поймал своего первого окуня. Тот день я не забуду никогда!
– Как ужасно думать, что тебе было шесть лет и десять, а я тебя тогда не знала. Мальчика, который был десятилетним Леннартом, больше не существует, он все равно что исчез, словно умер в день своего десятилетия, и я никогда не узнаю, каким он был.
– Радуйся, – засмеялся Леннарт, – в детстве я был на редкость растрепанным мальчуганом.
– Не может этого быть, – запротестовала я.
– Да, я только и делал, что озорничал, насколько я себя помню.
– Ты несправедлив к десятилетнему Леннарту! – возмутилась я. – Неужели ты не можешь сказать о нем ничего хорошего?
– Он любил животных! – вспомнил Леннарт. – Могу поклясться – более преданного друга собак никогда на свете не было. У меня был пес, которого я любил чуть ли не больше, чем маму и папу. Возможно, такое бывает с малышами, у которых нет ни братьев, ни сестер.
– Жаль нас, у которых нет ни братьев, ни сестер, – сказала я. – Я обычно играла в такую игру, будто у меня семь сестер и семь братьев. Моим детям эта игра не понадобится, так я решила!
– А сколько тебе нужно детей? – спросил Леннарт, избегая столкновения со встречной посудиной.
– Примерно столько, сколько помещается в этой лодке, – сказала я, указывая на лодку, битком набитую нарядными детьми разных возрастов.
Леннарт посмотрел на меня и улыбнулся.
– Это хорошо, – сказал он. – Только бы они были похожи на свою мать и…
– Сначала у меня будет мальчик, – решила я, – он вырастет и станет похож на десятилетнего Леннарта, так что я получу некоторое представление о том, как выглядел этот маленький мальчик.
– Избавь нас, Боже! – воскликнул Леннарт.
Еву мы увидели издалека. Она находилась посредине целого косяка лодок с одинокими личностями мужского пола. Но Ева гребла точь-в-точь так, словно была одна на озере своего детства.
Она явилась, когда я накрыла «стол» к ленчу на тенистой поляне. У нее потрясающий нюх, когда дело касается еды.
– Великолепно, – сказала она, взяв порцию цыпленка.
– У Кати замечательная способность накрыть на стол, расставить посуду и еду так, что это прекрасно выглядит, – одобрительно заметил Леннарт.
Он мне так нравился, когда говорил эти слова. Я радовалась все время, пока мы ели. Леннарт вытащил походные стаканчики, которые были у нас в машине, и мы выпили легкого вина Vauvray в честь и хвалу этого дня.
Когда завтрак sur l’herbe закончился, мы растянулись на траве.
– Представить только, что все-таки лежишь в Булонском лесу! – сказала Ева. – Мне кажется, что это словно бы чуточку больше, чем лежать в обыденно-шведском крестьянском лесу. А вообще-то, почему мне так кажется?
– Потому что ты под влиянием всего прочитанного о Bois de Boulogne[520], – объяснил Леннарт. – Множество французских романов так и роятся у тебя в голове.
– Да, дорогой, сколько дуэлей здесь разыгралось! – сказала я. – Сколько раз люди вскакивали с кроватей в несусветную рань, чтобы поехать в Булонский лес, прежде чем успел подняться легкий туман.
– Никаких французских романов я не читала, – проворчала Ева, – но мне все равно кажется замечательным быть здесь. А вообще, почему сейчас не дерутся на дуэли? Как приятно было бы сидеть здесь и смотреть, как дерутся на дуэли!
Но Еве пришлось довольствоваться спектаклем, который мог предложить нынешний Bois de Boulogne. Постепенно появлялось все больше и больше людей, поток автомобилей все возрастал. Парижские дамы намеревались пить послеполуденный чай здесь, на природе, и мы последовали их примеру. Мы пили чай в элитном заведении, оказалось, что он стоил столько же, сколько еда и проживание за один день в нашем маленьком отеле. Тогда мы решили: во-первых, никогда больше не пить чай в Булонском лесу, во-вторых, в дальнейшем придерживаться кофе, который в Париже куда дешевле.
– Как раз сию минуту я мог бы выпить стакан холодного пива, – сказал Леннарт.
Произнес он это вечером того же самого дня, когда было еще очень тепло. Теплый чудесный июньский вечер в Париже – о боги! Мы стояли бок о бок с людьми из всех стран мира в кафе «Flore».
Один из них был Петер Бьёркман.
VII
 аздобыть столик в кафе «Flore» чудесным теплым июньским вечером вообще-то невозможно. Разумеется, весь тротуар заставлен маленькими столиками, но за каждым сидит вдвое больше посетителей, чем полагается… И сидят они там долго. Когда мы пришли, официант с сожалением покачал головой, но Ева так заискивающе улыбнулась, что через две минуты мы уже сидели, втиснутые за маленький столик у самой стены, Леннарт пил столь желанное пиво, а мы кофе.
аздобыть столик в кафе «Flore» чудесным теплым июньским вечером вообще-то невозможно. Разумеется, весь тротуар заставлен маленькими столиками, но за каждым сидит вдвое больше посетителей, чем полагается… И сидят они там долго. Когда мы пришли, официант с сожалением покачал головой, но Ева так заискивающе улыбнулась, что через две минуты мы уже сидели, втиснутые за маленький столик у самой стены, Леннарт пил столь желанное пиво, а мы кофе.
Было бы интересно узнать, что за таинственные законы вершат судьбы разных кафе в Париже. Почему именно сейчас все люди должны тесниться в кафе «Flore»? Почему они не заполняют кафе «Deux Magots», расположенное наискосок через улицу и столь же знаменитое! Точно так же обстоят дела на Монпарнасе, где мы побывали на следующий день. В «Dôme» посетители только что не сидят на коленях друг у друга, однако напротив, в кафе «La Rotonde», мест достаточно. Подумать только, как опечалились бы все эти художники и литераторы, некогда наводнявшие веселым шумом и гамом «La Rotonde» и считавшие это кафе единственным на Монпарнасе, если бы узнали об этом.
Но сейчас таким элитным кафе стало «Dôme». Не «La Rotonde», не «Coupole», не «Closerie de Lilias», хотя это тоже старинные кафе, а именно «Dôme». Разумеется, сразу же встает другой вопрос: зачем вообще нужно тесниться на Монпарнасе?
Туристы, толпящиеся в кафе «Dôme», должно быть, не знают, что произошло. Разве они не знают, что Монпарнас – это уже passé?[521] Разве они не знают, что, если уж идти в ногу с художниками, надо быть в St.-Germain-des-Pres. Ведь так поступают и всегда поступали туристы в Париже. Да еще так упорно, что художники в отчаянии бегут от них: однажды – давным-давно – они бежали с Монмартра, затем с Монпарнаса, а вскоре, вероятно, сбегут из St. Germain-des-Pres в какой-нибудь другой район большого Парижа. И завтра будет новое кафе, которое следует посетить, чтобы идти в ногу со временем. А потом название кафе будет окружено таинственным нимбом, что позволит ему занять место в длинном перечне знаменитых парижских кафе.
– Не вижу ни одной окладистой бороды, – сказала Ева, бросив осуждающий взгляд поверх кофейных чашек. – Мне обещали окладистые бороды, но я не вижу ни одной.
– Кто тебе это обещал? – удивился Леннарт.
– Газеты, – ответила Ева. – В каждой газете дома, в Швеции, пишут, что в St.-Germain-des-Pres пачками сидят экзистенциалисты[522] и у всех у них окладистые бороды. Вот я и спрашиваю: где же они?
– В Париже все так быстро меняется, – сказал Леннарт. – Время окладистых бород, верно, миновало.
– А там дома расхаживают Курре и все прочие парни и ничего не подозревают! – возмутилась Ева. – Расхаживают со своими окладистыми бородами, в нелепых куртках и не знаю, в чем еще.
– Напиши Курре, – сказала я. – Последний писк из St.-Germain-des-Pres: «Попытайся выглядеть как обыкновенный человек!»
– Ему придется туго, – расстроилась Ева. – Он выстроил свою жизненную позицию на том, чтобы быть неуклюжим и бородатым.
Однако даже безбородое, слабосильное племя, населявшее ныне «Flore», было достойно внимания, и мы по маленькому скромному праву сидели там, бесконечно долго занимая столик, хотя нам было так жаль всех тех, кто стоя ждал, когда мы его освободим, и желал, чтобы мы оказались в каком-нибудь кафе у черта на куличках.
Совсем рядом с нами оставалось маленькое-премаленькое пространство, и мы увидели, как некий рослый молодой человек начал целеустремленно пробираться к нашему столику. Он был действительно большой – высокий и широкоплечий, а между столиками оставалось не очень много миллиметров, но он ловко использовал их. Несмотря на свою плотную фигуру, он был гибкий, двигался мягко и легко, как танцор, и выиграл соревнование за стул.
– Стул его не выдержит, – шепнула мне Ева.
Но рослый молодой человек мягко и тихо опустился рядом со мной, улыбнулся доброй улыбкой и сказал:
– Хотя нас мало, мы – шведы, мы – тоже!
– Это сразу видно все же! – ответила я в рифму.
Затем наступила полная тишина. Потому что мы буквально несколько минут назад пришли к согласию, что земляки – последние из тех, с кем хотелось бы сталкиваться, когда едешь за границу, – исключение, конечно, Леннарт, с которым мы с Евой охотно столкнулись в Италии!
Однако рослый молодой человек так обезоруживающе посмотрел на нас и сказал:
– Меня зовут Петер Бьёркман. И вы должны пожалеть меня, потому что я схожу с ума!
– Привет, Петер! – дружелюбно поздоровался Леннарт. – Это моя жена, ее зовут Кати, а это Ева, сам я – Леннарт Сундман… а почему ты сходишь с ума?
– Я один в Париже. А вы понимаете, что это значит для такого любителя поболтать, как я. Вообще, по-моему, похоже, вам нужен четвертый, и именно мужчина.
– Спасибо, в бридж[523] я не играю! – отказалась Ева.
– Я же сказал, вы должны пожалеть меня! – повторил Петер. – Вы когда-нибудь были одни в Париже? Нет! Тогда вы не знаете, что это такое! Через несколько дней начинаешь тосковать о человеке, с которым можно поговорить, так что, встретив даже тетушку Августу из Омоля за дверью «Café de la Paix», плачешь от радости.
– А разве не всегда приятно встретить людей из Омоля? – коварно спросила Ева.
Бедняга Петер Бьёркман ведь не знал, что Ева из Омоля, поэтому и сказал, что тетушка Августа – практически хуже нет, «но вы ведь понимаете, что когда ты в Париже один, то довольствуешься обществом первого попавшегося», – заявил этот несчастный.
Леннарт и я громко и весело расхохотались, но Ева явно не была настроена сносить оскорбления.
– А мы – нет! – воскликнула она. – Мы не довольствуемся обществом первого встречного, – добавила Ева и демонстративно отвернулась от Петера.
Петер был совершенно уничтожен.
– О, как это похоже на меня! – вскричал он и в комическом отчаянии ударил себя по лбу. – Вечно я так! Говорю столько глупостей, о которых вовсе не думаю. – Он схватил Еву за руку: – Милая, не делайте такое лицо, а не то я прыгну в Сену. Милая, добрая, вы же знаете, какая грязная там вода! Разве мы не можем стать друзьями?
Ева сказала, что, поскольку вода в Сене грязная, на этот раз она его прощает. И Петер с облегчением вздохнул:
– Я так и знал, вы – человек разумный и вовсе не такая упрямая, какой показались. Знаете, вы мне так нравитесь, вы все трое мне по-настоящему нравитесь. Не можем ли мы пойти куда-нибудь потанцевать?
Мы, заколебавшись, переглянулись.
– Я охотно, – согласился Леннарт. – С моей юной невестой я еще ни разу не танцевал… Я имею в виду, с тех пор, как мы поженились!








