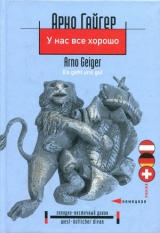
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Второй танк, американского образца, объехав квартал, направляется к руинам с поперечной улицы. Один выстрел следует за другим, пушку поддерживает автоматчик, рассыпая очереди полукругом из левого открытого люка. Взлетают фонтанчики грязи, над руинами и мокрыми фасадами соседних домов кружат мелкие облачка пыли и дыма. Танк уже почти достиг руин, и тут к нему подбегает сзади четырнадцатилетний доброволец (и откуда только взялся?), прыгает на корпус в облаке дизельной копоти и скопившихся и поднятых в воздух шлаков войны, шлаков последних недель, прижимается к башне и ползет вперед. Автоматчик, то ли привлеченный шумом, то ли по подсказке седьмого чувства, быстро ныряет в люк, и не успевает малец сорвать кольцо со своей ручной гранаты, как люк уже закрыт и задраен изнутри.
Экипаж танка уже заметил и других гитлерюгендцев, крадущихся вдоль стен вслед за старшим, поскольку товарища, как он сказал, в беде не бросают. Танк разворачивается, чтобы взять группу на прицел. Тем временем четырнадцатилетний соскальзывает с танка, бежит рядом с медленно вращающимися приводными колесами и, поравнявшись с дулом башенного орудия, вытягивает вверх правую руку и забрасывает в ствол ручную гранату с только что сорванным кольцом, и она там взрывается со смачным хлопком. Правда, спустя две секунды начинает строчить лобовой пулемет, но подбегающие подростки находятся вне зоны радиуса его действия. За исключением Петера. Тот получает удар, и у него такое чувство, будто он споткнулся на ровном месте. Фаустпатрон выскальзывает у него из рук и с грохотом падает на землю. Петер оступается, но удерживается на ногах и бросается вперед. Обежав танк слева и не раздумывая о том, что произошло, он прыгает щучкой в зияющий оконный проем нижнего этажа внутрь развалин, где укрылись еще двое его товарищей.
– Ложись! – кричит старший, который – как четырнадцатилетний перед этим – взобрался на танк и прилепил магнитную мину на основной люк башни. Унтер-офицер поджигает запал. Словно в ответ на стук, крышка люка открывается, на улицу выкатывается ручная граната, без всякого размаха, ее будто выплюнули. Вместе с тем мина, магнит которой, судя по всему, никуда не годится, сползает с крышки люка на крыло танка, а оттуда вниз на мостовую. Танк дергается и идет вперед. Мгновение спустя мина и ручная граната ахнули единым оглушительным взрывом, который гулко резонирует между домами. Мотор танка ревет, всей своей тяжелой массой он поворачивает направо и громыхает по улице в черных клубах сажи горящего Т-34.
Пыль, поднятая взрывом, залепила Петеру глаза, они слезятся. Он не может даже как следует вдохнуть и без конца кашляет, в ушах стоит звон, он прислушивается, но не слышит ни криков, ни стонов, только треск вражеских снарядов, который на мгновение кажется ему шуршанием кирпичного крошева в трещинах штукатурки. Высоко в небе, затянутом тонким слоем облаков, слышен гул самолета, но и этот шум приглушен для него до ирреальности (а от танка вообще ничего не доносится, даже всхлипов мотора). Петер приподнимается, прижимая ладонью к телу раненую окровавленную руку, на зубах скрипит земля. Еще раз откашлявшись и отплевавшись, он выходит из развалин в медленно оседающую, а местами еще вздымающуюся вверх или уносимую в сторону пыль. Старший лежит ничком посреди дороги, у него снесло половину головы, мозг вывалился наружу, странно припорошенный кирпичной пылью и мелкими обломками стены. Второго парня, что был вместе с Петером в воротах, нигде не видно. Четырнадцатилетний же стоит, оцепенело прислонившись к растерзанной стене, у самого оконного проема, в который сиганул, спасаясь, Петер.
Петер поражен, как стоит этот пацан: брюшина, очевидно, разорвана, сквозь клочья окровавленной униформы проглядывают такие же окровавленные внутренности, которые парнишка держит руками, чтобы они не вывалились. Правый глаз, если это еще можно назвать глазом, не блестит, нижнее веко свисает тряпкой, а под ним виднеется голая кость. Правая половина лица залита кровью, крупными каплями она капает с подбородка частой очередью на его правый рукав. Мальчишка не обращает на это внимания. Левым глазом он глядит на Петера, выражение его все еще детского лица знакомо Петеру по выражению лица умирающей матери. Не то чтобы мальчонке уж очень больно, скорее он в страшном замешательстве, исполненном ужаса, не веря тому, что это уже конец. Паренек делает попытку шагнуть к Петеру. Он отталкивается плечами от стены, но его туловище не может держаться само по себе, без опоры, и он опять отшатывается назад. Петер стоит как вкопанный, не сводя с него глаз. Он поражен, как сконцентрирован тот на себе. Это не пугает Петера, только трогает. Как странно. Слабо шевеля губами, будто ругаясь, мальчонка делает еще одну попытку шагнуть, словно хочет израсходовать последние крохи жизни, какие у него еще остались, на эти один или два шага. Но сил не хватает. По-прежнему устремив на Петера левый глаз, мальчишка вдруг оседает и валится на бок невероятно мягким движением, как плавно падающая матерчатая лента. Колени касаются земли, подгибаются, лицо безвольно ударяется о мостовую, плечи странно складываются. Мальчишка еще раз дергается, будто хочет замереть навытяжку, чтобы отдать честь, а потом успокаивается и лежит тихо и спокойно, судя по всему, война для него закончилась (но не обязательно, что начался мир, вообще ничего не началось).
Война, несколько цифр, статистика, заводские марки, инциденты (последствия) и тут и там какое-нибудь событие, которое касается далеко не всех.
Хотя его раненая рука на перевязи, Петер поддерживает ее другой рукой. Взгляды, которые он бросает, оглядываясь на город, от которого мало что останется, если война продолжится еще какое-то время с той же ожесточенностью, такие же панические, как когда он смотрит на промокшие места своей повязки, где просачивается кровь. Его слегка знобит, то ли от ранения, то ли от уколов, которые ему сделали на перевязочном пункте в здоровую руку и в грудь. Было чертовски больно. Но боль не интересовала никого, сейчас не до боли. Раз он ходячий, то должен идти, сказал санитар, и поэтому Петер идет, обливаясь потом, хрипя и еле волоча ноги, через Каленбергские виноградники, после того как грузовик военно-санитарной службы подбросил до Нусдорфа его и еще одного гитлерюгендца, который прятался в подвале руин. Ноги у Петера тяжелые. Когда он их передвигает, все время спотыкаясь, у него такое ощущение, будто к подошвам пристала военная грязь половины города. Но он не поддается позывам присесть и отдохнуть, подгоняемый тем, что еще сказал ему санитар: каждый, кто претендует на койку в лазарете, все равно что добровольно сдается в плен. Дольше двух дней обороне натиск большевиков не сдержать. А потом гуляй себе на здоровье и спокойной ночи, любимый город (вот тебе и вся родина). Когда Петеру невмоготу, он закрывает на ходу глаза и концентрируется исключительно на том, чтобы идти дальше. А потому его автоматически передвигающиеся ноги, эти как бы не его шаги для него все равно что отбивки, удерживающие его мысли: войну надо было прекратить еще тогда, когда их положение было лучше. А город вовсе не потому берут с такой осторожностью и заботой о целостности зданий, что Австрия пала первой жертвой гитлеровской агрессии, а чтобы можно было переселить в Вену население Сталинграда (это он тоже услышал на перевязочном пункте). И кастрация немецких мужчин, о которой говорил старший, когда голос из радиомашины призывал их сложить оружие. И… И… Что-то во всем этом есть нереальное. И сама местность, по которой он идет, спотыкаясь, тоже похожа на комнату ужасов: скрюченная, словно в агонии, виноградная лоза, по склону стелется кисловатый дым пожарищ, подгоняемый постоянным бризом с Дуная. Даже здесь, в виноградниках, где не видно никаких разрушений, все покрыто серой пеленой и замусорено войной. Обрывки бумаги, разбитые ящики и выброшенные остатки вооружения. Противотанковая пушка с развороченным стволом застряла между виноградными лозами, а перед нею лежат трое добровольцев азиатской наружности, смертельно пьяные. Петер и его спутник, так и не расставшийся со своей трещоткой, быстро проходят мимо. Минуту спустя они видят слева, чуть выше по склону могучее вишневое дерево с полураспустившимися почками, готовое вот-вот зацвести; а на нем висит здоровенный солдат. Табличка на груди гласит, что он трус и дезертир, а бечева с виноградной лозы уже глубоко врезалась в его вытянувшуюся шею. Они удивительно быстро добираются до этого места, – дерево и повешенный растут у них на глазах, словно их кто наказывает. Хотя увиденное не так потрясает ребят, как это было бы пару лет назад (когда их самой большой бедой было, если они ничего не понимали на уроках математики), им все равно не по себе даже от одного беглого взгляда. Так и подкатывает к горлу. Или это тошнота от уколов, которые ему сделали? Ох и больно же было. Мальчонка, что идет с Петером, ускоряет шаг. Петер не останавливает его, хотя ему трудно поспевать за ним. Ему кажется, что дерево с повешенным было гораздо выше обычной, нормальной вишни. И его удивляет, что он еще может думать о таких вещах.
Ребята уже почти миновали это место, они стараются смотреть прямо перед собой. Вот теперь оно точно позади.
– Не надо мне было идти с тобой, – канючит плаксиво мальчишка. – Если нам попадется пост полевой жандармерии и они спросят документы, меня тоже повесят.
Петер возражает сдавленным голосом:
– С чего это?
– Как дезертира. У меня нет приказа на марш.
– А ты и не маршируешь.
– Но я покинул знамена Адольфа Гитлера.
Во время присяги Петер не видел никаких знамен, внешняя обстановка была более чем заурядной, ни тебе триумфальных арок, ни салютных залпов, не было и глубокомысленных речей, музыки и обязательного жаркого из свинины, которое досталось соседскому сыну два года назад. А ему четыре дня назад, по дороге на строительство баррикад, отказали в трамвае в бесплатном вермахтовском проездном билете из-за его нарукавной повязки члена гитлерюгенда. Он так до сих пор и не знает, куда ему прибиться.
Петер говорит:
– Забудь об этом. Если хочешь знать, наша присяга не была настоящей.
– Попробуй это кому-нибудь сказать, тебя тоже повесят.
Петер задумывается:
– Лучше всего ссылаться на приказы. Например, старший приказал нам отступать к Дунаю, если погибнет.
– Опять же причина для повешения. Если они узнают, что ты врешь, мы оба кончим на виселице.
Мальчишка внезапно начинает пугливо озираться. И хотя ничего подозрительного вокруг нет, лицо его бледнеет и мрачнеет.
– Ты как привидение увидел, – говорит Петер.
– А ты нет? – спрашивает мальчишка.
Они растерянно смотрят друг на друга.
– Не знаю.
– У тебя уже и цвет лица подходящий для повешения, лучше не придумаешь.
У Петера перед глазами мать, ее искаженное раком лицо, которому прощание, когда все, кроме Петера, отправляются к родным в Форарльберг[37]37
Одна из девяти земель Австрии, расположенная в самой западной ее части в Альпах и на берегу Боденского озера.
[Закрыть], придает дополнительную жесткость: мертвенно-бледная костлявая маска, будто вырезанная для кукольного театра, тонкие губы, пергаментная кожа и желтые, совершенно потухшие глаза, которые временами – в зависимости от света – излучают некую угрозу. Петер пытается сообразить, жива ли еще мать в эту минуту. С момента разлуки у него никаких вестей, а для смерти, проносится у него в голове, восьми дней вполне достаточно. Три дня назад он пытался дозвониться до отца, два часа сидел и ждал на почтамте соединения, и вот телефонная барышня вызывает для разговора с инженером Эрлахом в Фельдкирхе, да, это он, Эрлах из Вены. Отец? И после этого связь обрывается. Возобновить ее не удалось, только деньги зря пропали, а когда он к вечеру попытался еще раз, заявки на переговоры уже не принимали.
– У нас нет никаких приказов. Если нам никто не приказывает, то и приказов у нас нет, – говорит Петер.
Мальчишки сворачивают в Айзерненхандгассе в сторону городка Каленбергердорф, где у Петера живет дядя, брат его отца. Они идут вниз, через виноградники, и перед ними открывается вид на гавань Кухелау, зелено-серый Дунай и северные районы Вены на другой стороне реки. Еще издали они слышат взрывы смеха, а вскоре после этого песню, Где Тироль граничит с Зальцбургом, на два голоса, при этом те, кто поет вторым голосом, как это обычно водится, горланят громче. Мальчишки добираются до городка. Они пересекают площадь Святого Георга, минуют старый давильный пресс, без которого не обходится ни один винодел, торгующий молодым вином; половина железных частей пресса уже проржавела. Отсюда Петер видит расположенный далеко внизу двухэтажный дом, там над подвальным этажом живет со своей семьей дядя Йоханн. Кверху поднимается светлый дым, пронизываемый на высоте конька редкими солнечными лучами, разорвавшими облака.
В палисаднике сжигают гору бумаг. Дядя Йоханн шурует граблями тлеющие книги, картинки и документы, он стоит спиной к улице. Чуть дальше, на крыльце шестилетняя кузина Петера Труде играет в глажку: камнем она гладит лист бумаги, избежавший пока огня. Девочка тоже целиком поглощена своей игрой, так что измученных ребят, грязных, как трубочисты, спотыкающихся на выбоинах в кривом переулке, она замечает лишь тогда, когда они останавливаются у ограды и приветствуют их:
– Хайль Гитлер, дядя Йоханн! Сервус[38]38
Распространенное австрийское приветствие (разг.).
[Закрыть], Труде!
В стремительном военном темпе несется позади них к Дунаю дозорная машина вермахта, выкрашенная в защитный цвет. Труде поднимает голову, смотрит застывшим взглядом на Петера, потом переводит его на отца. Лишь когда отец поворачивается от огня к улице, Труде тоже встает перед крылечком, но не подходит сразу к ограде, а нагибается за клочком бумаги, который жаром унесло от костра. Она комкает его и бросает назад в тлеющую кучу. Комок окрашивается красным, раздувается, но языков пламени так и не видно.
– Что, выполнил свою норму? – спрашивает дядя Йоханн, глядя на перевязанное плечо Петера.
Петер прослеживает его взгляд, повязка стала красновато-коричневой от мази, цинковой эмульсии и крови, которая никак не хочет остановиться и все продолжает сочиться, хотя санитары чем только не набили пулевое отверстие, видимо, ваты натолкали. По спине Петера струится холодный пот. Здоровой рукой он поглаживает локоть, как будто этим утешительным движением можно уменьшить боль.
– Навылет, – сообщает он.
– А кость?
– Судя по пулевому отверстию, задета вскользь.
– Очень больно? – спрашивает Труде, тоже подойдя к ограде.
– Да уж, – говорит Петер.
– Тебя наградят? – хочет знать Труде.
Но на сей раз дядя Йоханн не дает племяннику ответить. Он подталкивает Труде:
– Ступай в дом, к маме, скажи ей, пусть соберет еды на двоих в дорогу. И быстро, марш!
Труде медлит. Мальчишка из гитлерюгенда, спутник Петера, упер трещотку в правое колено, крутнул ручку, и Труде как ветром сдуло.
Дядя Йоханн строго смотрит на мальчишку, недовольный шумом.
Петер говорит:
– А я думал, мы сможем остаться.
Дядя отходит назад к бумагам, которые никак не хотят гореть. Он поднимает стопку полуобугленных документов, ворошит их и осторожно укладывает бочком, чтобы между ними прошел воздух. Некоторые тонкие истлевшие обрывки взмывают вверх, как воздушные змеи, парят, соскальзывая, невесомые, по краю вихревого потока воздуха в сторону и опускаются на землю в виде кислого удобрения, которое ближайший дождь смоет в почву.
Дядя Йоханн снова оборачивается к ограде:
– Я был бы рад тебе как племяннику, но не как солдату. Русские-то где. Ты должен понять. Семья. Теперь лучше держаться нейтралитета.
Петер чувствует себя так, будто только что проснулся и его тут же избили до полусмерти. Ему хочется сказать про мать, про старшего, схватить свой карабин и попросить еще раз как следует. Но он, идиот, оставил карабин на перевязочном пункте посреди тамошних воплей и отрывистых команд.
– Дядя Йоханн, если хочешь, мы выбросим униформу и всю амуницию.
Дядя снова ворошит горящие бумаги граблями, с некоторым остервенением, которое передается огню.
– С твоим ранением держись от меня подальше, Петер, как мне ни жаль. Все из-за русских. Чтобы не попасть под подозрение. Как я уже сказал, мы теперь придерживаемся нейтралитета.
Нейтралитет, думает Петер, но что это значит?
И в ту же минуту он понимает (и это только дополнительно усиливает его ощущение полного бессилия), что все поставлено с ног на голову, что все то, к чему он привык, чем обладал и чему его учили, отныне больше не в счет. Он чувствует, как медленно остывает на его теле пот, а в ноздрях у него прочно сидит запах пепла сгоревших бумаг, и ему кажется, что силы разом покидают его. Еще никогда в жизни Петер не чувствовал себя так отвратительно, каждая косточка дает о себе знать, кровь пульсирует толчками и шумит в ушах. Его раненое плечо болит так, что он с трудом выдерживает. Ему хочется сесть, он никуда не уйдет, он смертельно устал, так тяжко давит на него груз всего случившегося: бессмысленные смерти, печаль того, что жизнь, которую навязал ему отец, превратила его в идиота, его пустой желудок, судорожно сжимающийся с того момента, как дядя Йоханн послал Труде за едой, причем приступы учащаются. Петер опасается, что его сейчас вырвет.
– Кто это распевает там внизу? – спрашивает он словно в пустоту, с оцепенелым, отсутствующим взглядом. Если бы нарастающий гул канонады не перекрывал собой все остальные звуки, он услышал бы очередную народную песню, которая вплетается в грохот войны: Высоко в горах Дахштайна…
– Прямо слезу прошибает, – говорит мальчишка.
– Они там в подвалах спустили вино из бочек, – поясняет дядя Йоханн. – Зондеркоманда СС. Теперь допивают то, что было уже розлито по бутылкам, чтоб не досталось врагу. Я думаю, они хотят продемонстрировать, какое действие может оказать вино на русских, если кто-нибудь припрятал бочку-другую.
Он еще раз подходит к ограде:
– Люди рассказывают, что у них там голые бабы пляшут на столах и стоя писают в стаканы офицеров. Но я ничего не хочу утверждать, потому что своими глазами не видел.
Он качает головой. В этот момент из двери выходит тетя Сусанна с маленьким свертком в руке. Она одета в черное. Петер вспоминает, что брат тети Сусанны погиб в начале марта. Об этом Петер совсем забыл.
Когда она передает сверток через ограду, ее лицо слегка разглаживается. Она говорит:
– Нам ведь и самим не хватает. Так что ищите где лучше.
Она кладет ладонь на затылок Петера, взъерошивает его волосы и коротко прижимает пальцами то место на шее, откуда уходит в голову пульсирующая жила. Петер чувствует, как в мозг проникает что-то холодное да так и застревает там. Он слышит словно издалека свой собственный голос, повторяющий снова, спокойно, даже слишком спокойно и монотонно:
– Мы можем зарыть униформу в винограднике…
Тетя Сусанна отдергивает руку, пожимает плечами, взгляд ее говорит то же самое.
– Внизу на причале стоит корабль, там солдаты-власовцы, они боятся бреющих самолетов и ждут ночи, чтобы плыть дальше. Идите туда. Говорят, они будут пробираться на запад, там оно и посытнее.
– Но если мы в винограднике всю амуницию и униформу…
Она снова медлит и смотрит на Петера – не то чтобы колеблясь, а скорее удостоверяясь в его настойчивости. И потом говорит:
– Хайль Гитлер!
– Хайль Гитлер! – вторит ей дядя.
Мальчишки еще стоят у ограды. И, наконец, уходят, глядя прямо перед собой, чтобы невзначай не встретиться глазами. А пьяные эсэсовцы выводят тем временем В Люнебургской пустоши. Небо продолжает затягиваться тучами. Низкий свет обвел края и обозначил закругления ландшафта темными контурами. Вместе с дымом, насыщенным угольной пылью, прокрался мрак, и ночь без труда завладела миром.
Война, несколько цифр, статистика, заводские марки, инциденты (последствия) и тут и там какое-нибудь событие, которое касается далеко не всех.
Непроницаемая темнота плотно лежит на лениво текущем Дунае, на едва различимых берегах и виноградниках, сбегающих к обшарпанным баржам. В некоторых местах небо и ландшафт сливаются в одну спекшуюся массу, словно война вытянула из холмов и реки некую фосфоресцирующую эссенцию, которая прежде, в мирные ночи, придавала им гламурный блеск. Когда взметывается короткой вспышкой огонь из орудийных жерл или трассирующие пули оставляют на низко нависшем небе цветные зарубки, все это совершается, очевидно, для того, чтобы выявить различие между светом и тьмой, с тем чтобы остающаяся затем темнота могла сгуститься еще плотнее. Петер лежит навзничь на тонком соломенном тюфяке на палубе «Alba Julia», а мечущиеся по небу столбы света от дальней батареи прожекторов – всего лишь гигантских размеров стеклоочистители, которые стирают все, что могло бы сохранить или отразить свет, любую самую маленькую его частичку.
«Alba Julia» – румынское грузовое судно, которое пробивается вверх по течению под военным флагом рейха. Команда состоит из украинских солдат, которые под конец воевали на стороне вермахта в Будапеште. Большинство солдат, как и Петер, лежат на палубе. Они храпят, стонут и кашляют почти без перерыва, так что эти звуки сливаются в непрерывный хор. И другой солдатик гитлерюгенда тоже храпит во сне рядом с Петером. Давно ли? Этого Петер сказать не может. Его жизненный опыт позволяет ему сделать посреди этой черноты лишь одно заключение: когда-то снова будет день.
Петер таращится в холодную тьму широко открытыми глазами. Мимо проносятся картинки и видения, периодически повторяясь, крутясь в его голове, как дребезжащий волчок, как насаженные на вращающийся валик. Он думает: прямо как в волшебном цилиндре, той штуковине, которую он видел как-то давно в фойе кинотеатра «Аполлон». Аппарат состоял из полого, длиной около метра, с легкостью вращающегося цилиндра, в котором были узкие прорези на одинаковом расстоянии друг от друга. Нарисованные на внутренней стороне фигуры были расположены таким образом, что при сильном вращении они смотрелись сквозь щели цилиндра во взаимосвязанном движении. Петер вспоминает одну такую череду картинок: мавр снимает с себя надоевшую ему голову и, немного помедлив, отдает ее своему соседу.
Похожим образом (угрюмое ощупывание головы, проявление интереса к голове со стороны соседа, снятие головы и передача ее) следуют друг за другом и прочие картинки в воспоминаниях Петера.
Мимолетные, словно размытые в тумане картины воспоминаний: кухня-столовая на первом этаже в Блехтурмгассе. Середина тридцатых годов, еще до школы Петера, когда они временами спали по двое, а короткое время даже по трое в одной кровати.
Первый арест отца, в 1936 году, из-за взрыва телефонной будки, который, однако, не удалось повесить на отца.
Вскоре после этого второй арест, в 1937 году, из-за вымпела со свастикой.
(Петер это точно помнит, или он помнит то, что отец потом рассказывал сотни раз: корпоративное государство наложило на отца арест на три недели, хотя по тогдашним предписаниям владение вымпелом со свастикой или подобным значком не было запрещено, а запрещалась только его публичная демонстрация. Эта демонстрация стала предметом доноса соседа, социалиста, который (клятвенно) утверждал, что при особо ярком освещении, когда занавесок на окне нет или они в виде исключения не задернуты, можно видеть с улицы вымпел, висящий на стене над радиоприемником; правда, если только идти вниз по улице под определенным углом.)
Затем: как Петер восьмилетним протискивается сквозь плотную толпу ликующих людей и вдруг видит фюрера, который приветствует из своего лимузина население Вены.
Счастливое время после аншлюса, когда отец вдруг снова оказался при хлебной должности и в достатке, и все напряжение с него спало, и появилась вдруг просторная квартира в том же доме этажом выше, и клозет там был уже не в коридоре, и иногда на кухонном столе появлялись даже цветы, а у детей – наилучшие перспективы.
Как он семь лет назад, почти день в день, так сошлось, гулял у воды по парку рядом с отцом воскресным днем. И как отец открылся ему, что конечно же именно он и его сотоварищи взорвали тогда телефонную будку и оставили на стенках свастику, и как он рад приезду единомышленников из рейха и что стол в будущем станет сытнее.
Громкий арест соседа, который за год до этого добился осуждения отца, и плачущая жена соседа, как она стояла у них под дверями и просила отца замолвить словечко (соседу вменялось в вину, что он взорвал крольчатник у одного нациста в соседнем доме, что наверняка не соответствовало действительности).
Как они оборачивают с матерью школьные учебники.
Как он сражается подушками с Ильзой, младшей сестрой, которая еще два года назад делила с ним комнату.
Постели, выбрасываемые из окон еврейских квартир напротив.
Обсуждение с отцом дел на фронте и гордость оттого, что на ближайшую тысячу лет им обеспечено жизненное пространство на Востоке.
Как Ильза обожгла себе пальцы, пытаясь вынуть из кухонного шкафа горячий осколок бомбы.
Пара несправедливых затрещин.
Общий вечер, который они в прошлом году провели вместе с другими венскими группами. И тот священный момент: флаг внести! После чего унтер-офицер вонзил от усердия острие древка в деревянную балку потолка так, что флаг потом только с большим трудом вытащили оттуда.
(Это было так забавно, что Петер засмеялся. Он был не единственный, кто смеялся, но он смеялся явно громче всех, и унтер-офицер узнал его по голосу. На следующий день Петера муштровали три часа. Строевая подготовка, смир-рно, кругом, марш, марш, нале-во, напра-во, в ружье, смир-рно, внимание, на караул, смотреть прямо, живо, марш, левой, два, три, четыре, левой, два, три, четыре, потом в гору и снова с горы, у Петера уже и дух вон, а тут еще раз, и снова живо, потому что унтер-офицер готов поклясться, что обнаружил большевистского шпиона, голову на отсечение, по стойке-е-е смир-рно!!! если там наверху не… Петер, задыхаясь: разрешите доложить, большевистского шпиона не обнаружено! Унтер-офицер самодовольно: провалиться мне на месте, если нет, марш, марш… И каждый раз с песней… Красные знамена полыхают на ветру… наше знамя сильнее смерти, пока Петера не вырвало.)
Шоколадный пудинг с «канареечным молоком»[39]39
Ванильный соус с яичными желтками.
[Закрыть] на его четырнадцатый день рождения, весной прошлого года.
И нетопленые спальни минувшей зимой, когда отсыревали стены. Рождественская елка в гостиной. Там тоже не топлено, и несколько печенюшек на ветках на второй день праздника раскисли от сырости. Они буквально капали с дерева.
И отказ больной матери от того, чтобы при каждой воздушной тревоге ее спускали в подвал.
(У нее по всему телу кровоподтеки, синие, почти черные пятна, хотя мать поднимали всегда с большой осторожностью. Она аргументировала тем, что, таская ее в подвал, спасти не спасешь, а погубить погубишь. И между невозможностью спасения и муками она выбирала страх. Когда все свистело и громыхало, она оставалась лежать в квартире и что есть силы кричала. Наконец-то можно было не сдерживаться ради детей, она кричала, выражая свой некончаемый страх из-за угрозы уничтожения: сирена, внушавшая ужас малолетним гонцам, бегущим по улице. После этого она казалась отдохнувшей, если изнеможение можно назвать отдыхом. После воздушных налетов мать, как правило, быстро засыпала.)
Еще одна картинка: как мать на прощанье своим гребнем аккуратно разделяет ему волосы на пробор (он этого не любил) и как он при этом узнает в ее улыбке прежние черты (это он очень любил; кто же не любит, когда мать остается прежней?).
И еще одно, уже напоследок: как тот малец из гитлерюгенда, что прибился к ним в первый день боев, пытался шагнуть к нему, удерживая руками кишки. С этим одноглазым взглядом, который будто говорил: это могло произойти и с тобой.
И потом снова все сначала: восемнадцать, или двадцать четыре, или тридцать шесть картинок, которые по кругу рассказывают одну историю, иногда не в том порядке (так что не вполне ясно, действительно ли мавр хотел отдать свою голову), но картинки те же самые, что скопились у Петера за его пятнадцатилетнюю жизнь, как будто она уже сделала полный круг.
Картинка, которая нравится ему больше всего, изображает нечто безобидное: он и его двумя годами старшая сестра Хеди на Кирпичном пруду, где они летом строят глиняную горку. Как он, с разбега, в высоком прыжке, со следами глины на спине от предыдущих разов, прыгает в глиняный желоб, куда Хеди только что вылила ведро воды.
И картинка, которая нравится ему меньше всего, нечто тоже совершенно безобидное, по крайней мере, в ней нет ничего коварного, подлого и жестокого: как в семье его постепенно оттесняют от больной матери то в один угол, то в другой, пока наконец не отодвигают на самый край, потому что он только делает свою работу, но никому не помогает, даже если хочет быть полезным.
(Когда единственное мужское дело – сносить мать в подвал – полностью отпало, Петер только путается у всех под ногами, особенно с тех пор, как закрылась школа. Он часто завидовал своим сестрам, которые благодаря муштре по ведению домашнего хозяйства в рядах Союза немецких девушек[40]40
Отряды гитлерюгенда для девушек от 14 до 18 лет.
[Закрыть] имели свои преимущества: они действовали ловко и решительно и мыслили целесообразно: когда они смазывали матери пересохшие губы кремом Nivea, то попутно, не докучая ей, убирали со лба слипшиеся волосы и как бы между прочим проверяли, нет ли жара. Или когда мать просила одну из девочек подложить ей подушку под спину, чтобы легче дышалось, или когда ей нужно было растереть холодные ноги: тут девочки буквально расцветали, словно их подменили, потому что им больше не нужно было стоять истуканами, скрывая свое смущение. Его же не просили ни о чем, хотя он тоже готов был включиться в общее дело. Но он все же считался компетентным во всем том, что происходило за пределами дома. И мать ждала, что вот он вернется, возьмет ее за руку и будет все рассказывать. Но ему нечего было рассказать, видя, что она умирает.
– Расскажи, что там делается на улице, Петер.
– Да ничего особенного, все как обычно.
Стоило матери отвернуться, как он вставал или снова исчезал из дома. Наконец он получил повестку в ополчение, то был приказ фольксштурма, он ждал его уже несколько недель).
Разом все позабыто, и он рад, что еще жив. Он крутится, ищет более удобную позу. Насколько позволяет раненая рука, закутывается поплотнее в вермахтовское одеяло, которое получил от украинского солдата, перед тем как судно отчалило от пристани. Он смотрит в небо, куда уходят мертвые и где по-прежнему нет ни проблеска света. Он слышит только шумы, которые кажутся частью этой бездонной тьмы: стук работающей против течения машины, отдающий в больную руку, и таинственное потрескивание в швах и местах заклепок шпангоута, повторяющееся так же нерегулярно, как и булькающие удары волн, рассекаемых носом. Временами отзвук шагов солдат, укутанных в задубевшие от грязи шинели, они несли вахту и неустанно пялились глазами в темноту. Иногда стук приклада, когда эти солдаты составляют винтовки, звучит не менее гулко, у самого уха Петера, как будто мир полый, как железная банка из-под чая.








