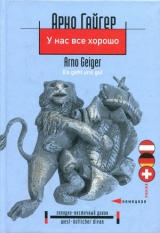
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Четверг, 3 мая 2001 года
На следующее утро голуби все еще здесь. Филипп спрашивает себя, помнят ли птицы, что случилось вчера. Может, в мозгах голубей недостаточно серого вещества, чтобы заметить Штайнвальда и Атаманова. Может, они уже забыли рабочих и учиненную ими кровавую бойню. Филипп считает это вполне вероятным, вспоминая одно утверждение Йоханны, что память золотой рыбки простирается не дальше двух секунд в прошлое, этого не хватит даже на один круг в аквариуме.
Несмотря на вчерашнее побоище, воркование голубей звучит как всегда.
К обеду начинает моросить дождик.
– Ну и погода, – говорит Штайнвальд.
Они с Атамановым с раннего утра приспособили светло-голубую трубу из жесткого пластика диаметром добрых полметра, выведя ее из чердачного окна прямиком в контейнер. Они кидают в эту трубу лопатами голубиный помет, кучу за кучей, да так быстро и ловко, что и Филиппу тоже хочется засучить рукава и поучаствовать в деле. В заросшем бурьяном углу сада он роет ямку для убитых птенцов. Их неправдоподобно много. Сначала Филипп принимается пересчитывать их, но после двадцати пяти его энтузиазм угасает. Остальных он складывает в ведро и делает две ходки. Потом зарывает яму, утрамбовывает землю и мочится на следы своих рифленых резиновых сапог в надежде, что это удержит соседских собак от соблазна порыться в его и без того неухоженном саду.
Когда он возвращается к контейнеру, тот уже наполовину полон частично засохшего в корку, частично вязкого месива из помета, перьев и костей, в котором кишат черви и прочая нечисть. Филипп обнаруживает также мышиное гнездо, что его только подстегивает позвонить на фирму, которая занимается доставкой контейнеров. Он просит увезти этот контейнер как можно скорее и привезти новый. Между тем в контейнер продолжает что-то валиться сверху по трубе – то ли живое, то ли мертвое – с шорканьем и скребущим шорохом, от которого ему делается не по себе. Филипп хочет отнести Штайнвальду и Атаманову чего-нибудь выпить, для поднятия духа. Он поднимается на чердак с тремя бутылками пива. На всякий случай осторожно стучит перед тем, как войти. Когда мужчины оборачиваются, вид у них побитый, без тени притворства. На Штайнвальде нет лица, как будто он выпал из телевизора с зеленым экраном. Он сплевывает и признается Филиппу, что на сей раз даже его вырвало.
– Правда, только один раз.
Филипп смотрит на Атаманова. Тот бледен как всегда, тупо смотрит на свои сапоги и вытирает пот с затылка уже мокрым, грязным платком. Хотя Филипп и не просил их прилагать к его чердаку столько усилий, ему совестно, этакое пристыженное классовое сознание от мысли, что богатые не переложили бы эту работу на бедных, не будь она такой грязной. Он открывает и себе бутылку пива и чокается с рабочими.
– За то, чтобы у нас было меньше врагов, чем капель в пустой бутылке.
Он пьет большими глотками. И ловит себя на том, что от неловкости даже закашлялся вместе с Атамановым. Он стыдится и этого и совершенно некстати заводит речь об исчезнувшем ангеле-хранителе.
– Когда я был маленький, на постаменте из песчаника слева от въезда стоял ангел-хранитель. Хотел бы я знать, куда он девался.
Штайнвальд не поддерживает этого разговора, а Атаманов, пожав плечами, отгораживается языковым барьером, дающим ему надежное укрытие. Атаманов молчком вдавливает свой окурок во влажную грязь, под которой проступают подгнившие доски. Без видимого отвращения они со Штайнвальдом возвращаются к своей тошнотворной работе.
– Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать.
Филипп смывается. Он спускается на один этаж, в бывшую спальню своей бабушки, два окна которой выходят на юг и на запад (на зады). Он вытягивается на той половине кровати, которая меньше продавлена, и несказанно благодарен, что голуби, оставшиеся в живых, улетели, по крайней мере перед дождем, в сторону города.
В спальне тихо. Филипп, правда, слышит режущее ухо шарканье лопат по доскам чердака и временами ощутимые шаги, которые мысленно связывает с темно-серыми резиновыми сапогами. Но шаги и шарканье достигают его слуха приглушенно, это деформированные почти до неузнаваемости сегменты действительности, которые в их глухой лихорадочности давят на его душу, но скоро забываются, когда он заносит в свою записную книжку некоторые мысли.
Будучи ребенком в несостоявшейся семье, научаешься хотя бы одному (пусть не нежности и не способности к разговору): жить с чувством неуверенности. В плохом браке нет стабильности. И взгляд навостряется на непредвиденное. Это должно как-то помочь человеку (помогите! помогите! S.O.S.) устроиться в жизни.
Как-то должно. Должно бы.
Ха-ха.
И все-таки: вот человек (я) испытывает привязанность к женщине (Йоханне), которая дает обоснованные прогнозы о том, что нас ждет, к женщине, которая стремится уменьшить меру ежедневной неуверенности.
Но втайне каждому хотелось бы знать, каким станет будущее, даже если только ради того, чтобы облегчить себе настоящее, воображая, будто знаешь, что делаешь.
Йоханна, метеорологиня, лягушка, наквакавшая дождь (наседка, высиживающая погоду?), говорит: чем богаче духовно ты, Филипп, пытаешься быть, тем больше ты бежишь от этого впереди себя. Твой ум – это твое предпочтительное средство уклониться от того, в чем твой ум, собственно, должен найти применение. Ты с пристрастием ввязываешься в вещи, которые безобидны и неопасны, – во все то, что не стоит того. Во все то, что лежит вне твоего «я». Ты трусишка. Трусливее кролика.
И далее: все, что ты делаешь, это попытка сохранить контроль. Твоя пассивность – это стратегическая пассивность, которая должна уберечь тебя от опасности оказаться перед лицом неприятности. Твой отец сделал своей профессией задачу минимизировать вероятность дорожных происшествий, а ты пытаешься сделать то же самое в твоей личной жизни. Ты думаешь, что можешь избежать катастрофы или хотя бы упростить свои проблемы тем, что двигаешься как можно меньше. Твоя стратегия состоит в том, что ты стоишь в трех метрах от дороги – ценой того, что жизнь проходит мимо тебя. И все это только ради того, чтобы не нарваться на катастрофу.
– Да-да, я и сам это знал. Я об этом уже думал. Чтобы не было катастроф. Кролик. Не сказал бы, что это что-то новенькое. И все же спасибо за науку.
Дождь утих. Сложив губы трубочкой, Филипп сосредоточенно тащит коробку из-под бананов со всевозможными бумагами, которые он выудил из бабушкиного комода, к контейнеру для бумажного мусора, стоящему на улице. Он думает, что заинтересовался бы этим гораздо больше, если бы это выбрасывал не он, а соседи. Но вот: не повезло.
Контейнер уже полон до краев тем, что он сам же туда и набросал. Приходится опрокидывать его на бок и ногой уминать бумагу, чтобы вместилось и остальное.
Понедельник, 7 мая 2001 года
Контейнер для мусора, который поменяли в пятницу после обеда, снова заменяют, и когда новый контейнер, к тому же и по виду новенький, стоит у лестницы, у Филиппа наконец появляется чувство, что можно, собственно, вплотную браться за работу. Он не глядя выбрасывает все, что оставила ему бабушка. При виде вновь доставленного и чистенького контейнера такой образ действий кажется ему уже менее неприличным, чем раньше, хотя все же еще достаточно неприличным, так что ему приходится успокаивать себя: только не думай, что мог бы найти применение той или иной вещи, не слушай взывания Йоханны к твоей совести, игнорируй нашептывания, пытающиеся убедить тебя, что ты перегибаешь палку и что такой человек, как ты, который так себя ведет, всю жизнь будет одиноким и отвергнутым. Лишний раз вспомни о том, что самозащита – это здоровый рефлекс и что тебе самому решать, что для тебя хорошо, а что плохо. Вспомни о том, что фамильная память – традиция, выдуманная теми, кто не мог перенести мысли, что умрет и окажется в забвении. Подумай об индейских племенах, где наибольшее уважение достанется тому, кто основательнее всех уничтожит свое имущество, и продолжай работу, поскольку она необходима и благотворна.
Среди выброшенного, честно признаться, много целого, добротного и пригодного к употреблению, по крайней мере с точки зрения целесообразности. Поэтому Филиппа не удивляет, когда Штайнвальд во время совместной вечерней трапезы заводит речь о том, действительно ли вещи, попавшие в контейнер, нельзя использовать, или все-таки их лучше подвергнуть еще одной проверке.
– Точное попадание в цель, – отвечает Филипп.
И добавляет, что ему все равно, что будет со всем этим барахлом, после выброса в контейнер прекращаются всякие его претензии на обладание ими.
Тогда Штайнвальд и Атаманов полностью освобождают багажник «мерседеса». Они прихватывают даже бутылки с черепом и костями на этикетках, которые Филипп отставил в сторонку как спецмусор.
Когда Филипп выражает сомнение, что это, пожалуй, уже перебор – продавать спецмусор, Штайнвальд говорит:
– А почему бы и нет? Время все делает ценным.
Для такой точки зрения Филиппу решительно недостает понимания. Он возражает, делает ответный выпад, парирует удар:
– Этот пример точно так же можно перевернуть с ног на голову. Время все делает ветхим, дряхлым, лишним, ненужным, все списывает в утиль.
Штайнвальд пожимает плечами и захлопывает багажник. Потом тащит на чердак кассетный магнитофон, от которого Филипп избавился ловким броском метателя час назад, и теперь у них там будет музыка. Кассет в «мерседесе» Штайнвальда предостаточно. Филиппу остается только сказать, что он этой музыки терпеть не может. Элтона Джона он обзывает, к возмущению Штайнвальда, запредельным идиотом, что оказывается еще не самым страшным ругательством из тех, которые употребляет Филипп, поскольку у Штайнвальда есть еще кассета рок-группы «Scorpions». Филиппу нравится только одна кассета, она принадлежит Атаманову. На ней записаны украинские пляски, и она-то и стала, если Филипп правильно понял, главной из причин, почему Атаманов так нуждается в деньгах для своей предстоящей свадьбы. Атаманов твердо решил пригласить играть на свадьбе самых дорогих музыкантов, каких только можно раздобыть у него на родине, восемь человек, половину оркестра.
Под эту музыку Филипп отплясывает ночью два часа подряд в резиновых сапогах на полу великолепно вычищенного, но все еще вонючего чердака. Окно снова застеклено, стекла такие прозрачные, будто их и вовсе нет, светит полная луна. И мера отмерена тоже полностью. Держа в руке бутылку вишневого ликера с ромом, снимающего кризисы, хотя его бабушка применяла это, предположительно, для тортов и печенья, Филипп кружится, вытянув руки, по кругу и пытается забыть, что Йоханна так все еще и не отдала ему фотоаппарат. После 1 мая она ни разу не показалась ему на глаза. Он пляшет как безумный, растаптывает несколько кубиков крысиного яда, а в паузах между музыкальными номерами вдыхает затхлый запах плесени и гнили, исходящий из каменной кладки, и слышит, как за деревянной обшивкой по чердаку бегают мыши.
Суббота, 29 сентября 1962 года
Дождь между тем прекратился. Еще бегут ручейки по бороздкам, которые вода проделала в гравии у ворот. Но на западе, откуда пришли тучи, уже опять проясняется. Свет робко сочится сквозь рваные облака. Того и гляди, там, наверху, лопнут последние швы.
– Мерзавцы. Ну, погодите, я вам еще покажу…
Он поднимается на крыльцо. От сырого фасада исходит затхлый запах строительного раствора времен Австрийской империи. Он прислоняет зонт, одолженный у кельнера, и отпирает дверь. В тщетной надежде, что кто-то выбежит к нему навстречу и возьмет у него пальто, обходит он комнаты нижнего этажа. Творожная запеканка, вынутая из духовки, еще в форме, остужается на кухне. Других признаков присутствия Альмы он не обнаруживает.
– Альма!.. Альма!
Жена отзывается с верхнего этажа, но неразборчиво: должно быть, что-то вроде «я здесь!». Но он прекрасно разобрал одно: Альма не находит нужным ради него даже открыть дверь своей комнаты.
Он бросает портфель на письменный стол в своем кабинете. По пути назад в прихожую скидывает ботинки. Наступив левым носком в собственный мокрый след, он подумывает, что хорошо бы принять горячую ванну, прежде чем надеть сухие носки. Может, ванна – хорошее начало, может, в ванне ему удастся успокоиться или хотя бы привести себя в нейтральное состояние, в котором ему легче будет принять новую ситуацию. Может, ванна благотворно подействует на него и в ожидании приезда Ингрид с Петером. Они хотят забрать кое-какую мебель для дома, приобретенного месяц назад, заведомо нервный момент, от которого Рихард предпочел бы уклониться: у этой пары свой особый стиль, которому еще надо уметь соответствовать.
Расслабься, неизменно требует от него Альма. И он ей неизменно отвечает: я не могу расслабиться, как остальные, мне чувство ответственности не дает.
Он идет наверх в ванную и открывает кран. Ждет, когда пойдет горячая вода, потом затыкает слив, берет из шкафа флакон с пенным средством и выливает в ванну один колпачок темно-зеленой жидкости. Вода наберется минут через десять. Он выходит, идет по коридору направо и осторожно стучится в спальню Альмы.
В светлой комнате с двумя окнами Альма читает книгу, полулежа-полусидя, головой к изножию кровати, для лучшего освещения.
– Уже вернулся? Это удивительно.
– В порядке исключения.
– Такого за тобой не водилось.
Это верно, представить себе невозможно, чтобы он, за семь недель до выборов в Национальный совет, пусть даже и в субботу, уходил из дома так ненадолго.
– Я собирался еще зайти в министерство и спокойно поработать над меморандумом по Асуанской плотине. Но дождь загнал меня домой.
– Погода спутала все карты.
Альма не сводит с Рихарда глаз. Он чувствует себя неуютно под ее взглядом, возможно сознавая, что настал момент сказать ей, что он больше не нужен партии. Надо бы сказать ей, что скоро будет чаще бывать дома. Надо бы сказать ей, что ситуация напоминает ему о его кузене Лео, который до 1953 года был в плену и после долгого отсутствия лишь с трудом вернул себе права хозяина дома. Надо бы сказать ей, что он напускает себе ванну, чтобы освежить то смутное представление, какое он имеет о частной жизни. Так много надо ей сказать, а главное – прозревает он сквозь внезапный ужас – придется заново привыкать доверяться Альме.
– Кельнерша в кафе «Доммайер» сказала, что плохая погода – от спутников, которые летают в космосе и не пропускают солнце. Может, и Дунай однажды замерзнет.
Альма кивает. Рихард явно разучился говорить что-нибудь так, чтобы рассмешить других. Он подходит к окну, выходящему на зады, в сад. Гардины раздвинуты. Сквозь дождевые потеки он смотрит на фруктовые деревья, облетевшие несколько дней назад. Туман стоит над газоном по пояс. Взгляд Рихарда на мгновение расфокусировался, одновременно его объял ужас оттого, что его окружает пустое пространство, пустоты больше, чем требуют его представления о почтительной дистанции. Как ни мала страна, на которую он тратит столько сил (или уже оттратился), и как ни обозримы дом и сад, принадлежащие ему, только ему одному, однако ж, все еще есть где потеряться.
– Что ты читаешь? – спрашивает он.
– «Бабье лето».
– Чье это?
– Штифтера.
– А, Адальберт Штифтер.
– Это одна из книг, которые у нас от Лёви. Тут стоит дата, Рождество 1920 года, и цена, 24 кроны.
– Интересная книга?
– Если кому нравятся душевные излияния и пространные описания природы.
– То есть лучший пейзаж на природе – это человеческое лицо.
– Как сама Австрия, которая, как известно, есть рай земной.
Ясно, она его разыгрывает. Ну и ладно. Даже если для этого нужно проделать долгий путь, с годами ко всему привыкаешь.
– Мирная, приветливая и прекрасная страна.
Альма потягивается, поворачивается на бок, лицом к Рихарду. На ней голубое платье, подчеркивающее грудь, с большим каре. По ее голосу слышно, что она подперла подбородок рукой.
– И забывчивая, не сказал ты. Страна, при въезде в которую надо или позволительно – смотря по ситуации – отказаться от прошлого.
(В которой наказывают или награждают забвением, смотря по тому, с какой стороны ты въехал, слева или справа, как в кругосветной игре, на которой Петер окончательно обанкротился.)
Слова Альмы оседают в голове Рихарда вяло, как хлопья пепла. Он садится на край кровати, расстегивает молнию сбоку на платье Альмы и запускает туда руку, на талию. На лице Альмы ничего не отражается. Дыхание остается ровным. Она походит на человека, который ненадолго присел отдохнуть или едет себе на поезде и никого не ждет. Она вращается в своем собственном мире, который не включает в себя Рихарда, вращается на своих скоростях – удаляется от Рихарда, покорно снося его прикосновения.
Как все же редко Рихард думает о том, что большая часть счастья, отпущенного ему в этой жизни, воплощена в Альме, там оно хранится в неконвертируемой для него валюте и потихонечку истлевает. Но вместо того, чтобы раскрыться ей в своей беспомощности или просто сказать, что он по-прежнему любит свою жену, после стольких лет, и что ему не составляет труда в этом признаваться, он спрашивает:
– А почему, собственно, так получается, что ты уже несколько месяцев не приближаешься ко мне?
Он смотрит в сторону южного окна. Чешет в затылке. И осознает, что ему неясно, что он должен говорить дальше.
– Да всего лишь в прошлое воскресенье, – напоминает ему Альма, укоризненно качая головой, скорее забавляясь, чем тревожась от возникшей проблемы, которая кажется ей, вероятно, надуманной.
Рихард пытается вспомнить и действительно вспоминает, в воскресенье это было, внизу в гостиной, на оттоманке. Он поворачивается к Альме, полный раскаяния, он знает, что зашел не с того конца и теперь больше ничего уже не добьется.
– Значит, мне так показалось.
– Что позволяет заключить, что ты, как только надеваешь брюки, сразу с головой окунаешься в работу.
Они смотрят друг на друга. Рихарду приходит в голову, как двадцать лет назад Людвиг Клагес[51]51
Людвиг Клагес (1872–1956) – немецкий психолог и философ.
[Закрыть] утверждал: если в браке партнеры сексуально подходят друг другу, все остальное не так важно. Они с Альмой слушали доклад Клагеса вместе в Концертном зале Бёзендорфер[52]52
По имени Игнаца Бёзендорфера, основателя и владельца музыкальной фабрики по изготовлению роялей (с 1841 г.).
[Закрыть], и с тех пор Рихард считал это гарантией того, что их брак с Альмой в безопасности. Ему с самого начала нравилось в Альме среди прочего то, что она за несколько недель доказала всю несостоятельность его глубинных страхов в отношении женского пола. В юности он и надеяться не смел, что встретит образованную женщину, с которой ему не придется всякий раз прибегать к риторике, чтобы уговорить ее лечь с ним в постель. Все его наблюдения в кругу семьи и знакомых не оставляли на это надежды.
Он говорит:
– В последнее время мне стало казаться, что это для тебя уже ничего не значит.
– Раньше действительно значило больше.
Она заглядывает в свою книгу, будто желая удостовериться, что с ходу найдет то место, где остановилась.
– Я понимаю, – говорит Рихард.
Он обиженно поднимается с кровати. Скрестив руки на груди, снова подходит к окну. Он знает, что, если спросит сейчас о причине, она ответит уклончиво, со ссылкой на книжную цитату, или скажет то, что он и сам знает и не хочет, чтобы ему об этом напоминали. Например, что не очень тянет целовать мужчину с вставными зубами. Это она сказала ему несколько лет назад, он помнит об этом, он знает это, зачем же лишний раз повторять.
– Наверное, со временем надоедает все, – произносит он многозначительно.
Альма застегивает молнию на платье.
– Все? – переспрашивает она.
– Да, если делать это достаточно долго. И работа тоже.
Он нервничает. Досада. Стыд. Страх? Озлобленность? Не в первый раз он вынужден сказать себе, что Альма стала жесткой, самоуверенной женщиной. Она смолчит на многое, думает он. Но палец ей в рот не клади. Давно уже он не видел ту ее пугливую улыбку, которую помнит с юности. Да и есть ли она еще?
– Только идиоту не покажется нелепым изо дня в день раскачиваться взад и вперед, совершая эти утомительные телодвижения.
Альма смеется, наморщив лоб:
– Странная картина.
И тут же, в другом тоне, без малейшего интереса к тому, что он имеет в виду:
– Тебе надо бы взглянуть на ванну.
Расслабленно раскинув ноги и уронив руки вдоль тела, Рихард лежит в горячей воде и думает о том, что Альме он нужен так же мало, как и партии. Его так называемые друзья по партии. Ничего себе друзья. Отодвинули его на запасной путь без единого вразумительного довода. Может, потому, что он не годится для телевидения, где экран искажает тебя, как рыбий глаз. Или ребята воображают, что сами выглядят как Джон Фицджеральд Кеннеди. Эти болваны. Можно было бы ухохотаться, если бы еще не тянуло блевать, глядя на них. Это уже перехлестывает через край. Разглагольствуют о политическом шарме и о запросах времени, а того не хотят понять, что важнейшие основы жизни – чувство ответственности, основательность и авторитет. Доктор Клаус?[53]53
Йозеф Клаус (1910–2001) – министр финансов (1961–1963 гг.); потом федеральный канцлер (1964–1970 гг.).
[Закрыть] Это и есть человек будущего? Вы так считаете? При всей симпатии, позвольте усомниться. Хорошо, скоро они сами увидят, какие ничтожные решения принимались в последнее время. Уже налицо первые горькие пилюли, когда избирателей просто загоняют в руки социалистов. Глупость непостижимая. Пустоголовые все вместе и каждый в отдельности. Он чертыхается. И с остервенением плещет себе в лицо и на голову пригоршни воды, хотя знает, что выглядит сейчас как полный идиот. Обманутый, одураченный, униженный идиот. Еще один вклад в его омраченное настроение, в дополнение к тотально ошибочному прогнозу погоды и к дистанцированности Альмы. Можно сказать, даже решающий вклад: как неблагодарность мира.
Главный урок, который, по его мнению, преподала ему жизнь: не делай людям добро, если хочешь получить благодарность. Центральным побуждением должна быть внутренняя потребность действовать, все остальное только вредит и достаточно часто приводит к разочарованию. Получишь благодарность – хорошо, но рассчитывать на нее не надо. Рихард обнаружил, что благодарность и признание часто воздаются людьми, на которых не рассчитывают. Ими оказываются те, за кого вступаются, не думая, твои это избиратели или противоборствующей партии. Главное, чтобы ты считал дело справедливым и проводил его с железной последовательностью. Но в этом пункте он не встречает понимания большинства соратников по партии. Только что, во время разговора с глазу на глаз в кафе «Доммайер» в Хитцинге, доктор Горбах[54]54
Альфонс Горбах (1898–1972) – федеральный канцлер Австрии (1961–1964 гг.).
[Закрыть] снова сказал, что нельзя пренебрегать интересами партии. Но что такое интересы партии? Верное и справедливое – всегда в интересах партии, это надо подчеркнуть вдвойне. По плодам их узнаете их. В качестве политического мандата он брал обязательство работать не только в пользу тех, кто его выбирал, а для всех, на нужды всех. Ведь он не партийный министр, а министр всей Австрии. Вот платформа его политических убеждений. Но соратник по партии, не важно какой, в наше время считается чем-то большим, чем приличный человек, не принадлежащий к партии. Даже не допускается мысли, что человек из партии противника может быть честным и иногда правым. Эта установка сейчас господствует во всех фракциях. Да и сам он, если признаться, долгое время после Второй мировой войны считал христианских социалистов лучшими людьми, так же как и социал-демократы считают себя лучшими. А национал-социалисты, воображавшие, что стоят превыше всего? Спасибо фюреру, народу и отечеству. К какому отрезвлению (мягко говоря) эта оценка привела при национал-социалистах, известно. Но все остальные ведь были уверены в справедливости их самооценки, в том числе и Рихард, который наконец решился пойти в политику. Он приложил много усилий. Он верил, что все христианские социалисты будут поступать так же, как он, будут стараться бороться в себе с теми чертами, которые они осуждают в своих политических противниках. К сожалению, к концу карьеры ему пришлось полностью пересмотреть это убеждение. Он должен признать, что быть христианским социалистом не означает автоматически быть демократом, не означает автоматически и того, что человек печется не только о собственном комфорте, не означает, что он непредвзято выслушивает мнение противника, не означает, что знает, сколько ему можно выпить, а сколько уже нельзя, не означает, что человек чувствует себя обязанным отказаться от того, в чем в свое время обвинял коммунистов, а именно, что они хотят ввести многоженство. Его партийные соратники делают теперь то же самое. А тут еще Кеннеди, трубят во все трубы, полный восторг. И у социал-демократов за кулисами все выглядит не менее печально, если не хуже. Такой трам-тарарам и тоже полный восторг. И все же, пусть его убеждения дорого обошлись ему, пусть партийная верхушка не сказала ему спасибо и хочет теперь отодвинуть его в сторону, он не раскаивается, что вложил столько сил и времени в партийную работу. Может, какие-то семена упали на благодатную почву, может, его представление о фундаментальных обязанностях публичного политика через несколько лет снова войдет в моду. Но для него самого тогда будет уже поздно. Будущее – это его воздушные корни, его корни-мечты, корни воздуха его родины. Еще раз перезимовать, как в войну, когда он на несколько лет затаился, – для этого он уже стар. Либо он остается и танцует на балу, либо он больше там не появляется. Конец карьеры, сервус.
Он считает, что заслуживает других проводов, и, если оглянуться назад, его ошибкой было то, что после выборов он не вернулся в управление городских электросетей. Но теперь эта мысль для него утомительна, почти неприятна, потому что направленные в прошлое спекуляции бессмысленны. Решающее же: а) что сейчас эта дверь для него уже закрыта, потому что б) в управление его не взяли бы из-за предпенсионного возраста, и в) следовательно, его ждут садово-огородные работы, игра на цитре, теннисные турниры и членство в комитете проведения балов с почетным правом открывать бал первым вальсом с женщиной, которая, как пробьет полночь, будет торопить его уехать домой. Нет уж, спасибо. Когда он расписывает себе все это в деталях, ему становится плохо, по-настоящему муторно, даже в животе урчит. Словно лягушку проглотил. Он жил только работой, неделями без выходных и праздников, в которые он как политик ратовал за право людей на частную жизнь, тогда как у него самого дома множились лишь поражения, приводя к тому, что он все дальше уходил в сторону министерства. Там начиная с 1948 года он делал все, что было в пределах его возможностей, чтобы дела в стране шли как можно лучше. Именно в том году был погашен последний газовый фонарь в Вене и чуть ли не каждую неделю священник освящал где-нибудь трансформаторную будку. Это он, доктор Рихард Штерк, патриций, распорядился строить машинные залы электростанций высокими, как оперные театры. Он участвовал в создании базы, необходимой для расширения благосостояния. А теперь? Теперь они вышвыривают его домой.
Доктор Горбах сказал в кафе «Доммайер»:
– У тебя наконец будет время заняться всем тем, чем ты всегда собирался заняться.
Рихард отказывается его понимать.
– Это высказывание я вставлю в рамочку, – ответил он.
А? Что? Как вы сказали? Он должен теперь играть роль одиночки? Читать книги одну за другой, как Альма, чтобы становиться все умнее, не имея возможности применить этот ум на деле? Это походит на издевку. Хотя все правильно, времени ему всегда не хватало. Но времени совсем в другом смысле, времени как срока, времени на подготовку к изменяющейся ситуации, которая грозит перерасти сейчас в переизбыток свободного времени. Никогда не было ничего такого, чем Рихард собирался заняться. Он-то считал, что его собственное будущее достаточно тесно связано с будущим страны и что результаты этого автоматически скажутся и на нем. Фундаментальное заблуждение, как до него теперь дошло. Отечество спасено, но к нему это не относится. Он, выстрадавший вместе с другими членами правительства все переговоры по Государственному договору, отсутствует на важнейших официальных фотографиях. Не повезло ему. А ведь достаточно долго был важной птицей. Ладно, посмотрим, как он с этим справится. Ты уже взрослый, доктор Штерк, так что давай действуй. Правильно, я взрослый. И хочу, чтобы со мной соответственно и обращались. А на них мне наплевать. И черт с ними.
Рихард, кряхтя, кладет голову на задний край ванны, она приятно холодит ему затылок, ему уже кажется, что не так все плохо. Он смотрит в потолок и чувствует, как все его тело размягчается. Духовно же он, напротив, ощущает себя очень сконцентрированным после всех этих волнений, ясно мыслящим, что в последнее время случалось с ним достаточно редко. Наверное, потому что он постоянно был перегружен работой.
Может, ему следует попытаться извлечь из этого пользу и снова вернуться к естественнонаучным интересам, которые были у него в молодости. Может, этой сухой материей удастся несколько уравновесить коварную смесь из почетных должностей и плохо складывающейся частной жизни. Например, он мог бы наконец прояснить для себя вопрос, обнаружил ли кто-нибудь, почему вода временами забывает замерзать. Он слышал об этом в школе, и с тех пор этот феномен никак не идет у него из головы. Тогда считалось, что забытый процесс наверстывается при малейшей вибрации, причем за доли секунды. Это ему импонирует. Интересно было бы узнать, в чем тут дело. То есть вообще-то ему все равно, если не считать того, что здесь таится зародыш надежды: все упущенное можно как-то наверстать.
Может, и время иногда забывает проходить, залежавшееся время, которое нужно встряхнуть для того, чтобы оно прошло? Сто лет, которые пройдут как краткий миг, причем совершенно безболезненно?
Обдумывая эту мысль, он даже смог представить себе, что будет наслаждаться изменившейся ситуацией. Только бы удалось успокоиться, вытеснить все, что гнетет его и хватает за душу. А поскольку он человек методичный, он тотчас же хватается за этот проект, причем в части того, чего ему всю жизнь не хватало: времени.
Раздвигая и сдвигая ноги, он нагоняет волны, смотрит на движение этих волн и при этом размышляет, действительно ли время работает. Ну да, думает Рихард, работать-то оно работает, да только не на него, не на других, а может, только само на себя. Можно ли выйти победителем в гонке со временем? Разве что как в сказке про ежа и зайца – репродуцируя себя: см. Ингрид, которая сделала его дедушкой. Можно ли взять время за руку – как отец берет за руку сына и ведет его к бездыханному зайчишке.
Теряет ли время свое значение со временем?
Он знает, его персона потеряет значение, и не только значение, а и размах, и силу воли, привлекательность, духовную восприимчивость. Этот список можно продолжить. Но он не станет углубляться в детали, ведь славное чувство, что еще можно как-то утвердить себя, в любом случае минуло.








