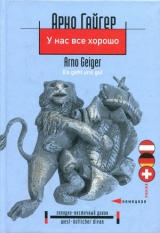
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Что он там строит? – спрашивает она резко.
– Модель Оперного перекрестка, – наивно сообщает Филипп.
Ингрид несколько раз гневно топает ногой. Потом выходит в прихожую, распахивает дверь на лестничную клетку и кричит вниз:
– Проклятье, я хочу досмотреть фильм до конца! Тебе мало того, что твои перекрестки интересуют тебя гораздо больше!
Она поспешно возвращается в гостиную, как раз вовремя, чтобы не пропустить собственное появление в кадре. Ее выход кажется ей на сей раз чрезвычайно коротким и бессодержательным. У Ингрид такое ощущение, что она теперь полностью отрезана от тогдашней девочки. Внешние следы стерлись так и так, как и тогдашние желания и мечты, никакой связи с тридцатичетырехлетней женщиной, бледной от недосыпания, у которой гудят ноги после дежурства, она сидит на кушетке в маленьком домике 18-го района Вены и непонимающе смотрит в телевизор, пока ее собственный мирный призрак образца 1947 года бродит по экрану.
Филипп, прекратив кусать губы, заявляет, что из-за сплошной музыки и других людей так и не увидел маму и хотел бы знать, как фильм попадает в телевизор.
– Электрический ток поступает из розетки, а передача – из воздуха. Она проникает сквозь стены, в противном случае телевизор можно было бы смотреть только на улице. Но как происходит проникновение передачи сквозь стены и почему у людей, живущих позади зенитных установок, экран перечеркивает посередине вертикальный столб, я не могу тебе объяснить. Лучше всего спросить об этом папу, заодно пусть он скажет тебе, почему дрель искажает изображение.
Ингрид принимается готовить, чтобы не было потом разговоров, что она не делает свою работу. Среди свистящих и урчащих кастрюль, пока она режет, шинкует и трет на терке, сдабривает еду пряностями, она заново проигрывает тогдашние сцены. Она двигается своим телом, постаревшим больше чем на двадцать лет, так, как она двигалась тогда, но не уверена, что это получается у нее достаточно убедительно. У нее такое ощущение, что вся ее легкость осталась где-то на обочине.
Даже Кара, собака, войдя в кухню, лишь коротко глянула на Ингрид и снова вышла.
Беседа за едой протекает нормально и благожелательно. Когда Сисси закрывает рот, Ингрид рассказывает какие-нибудь пустяки из больничной жизни, лишь бы не возникла пауза, тишина, как ей известно, угнетает Филиппа. Ингрид сделала наблюдение: когда за столом тихо, Филипп начинает играть с едой. И наоборот, если рассказывают истории, он исправно ест. Так что она рассказывает, как один ее коллега снискал себе похвалу за ее работу. Потом ей приходит в голову, что сестра Гитти рассказала за завтраком, и это она тоже выдает с большой охотой: новый главврач не в курсе, что сестра Марго замужем за старшим врачом доктором Фельдхофером, и главврач, которому ассистировал Фельдхофер, постоянно заигрывал с сестрой Марго. Наверно, возникла ужасная неловкость.
Филипп бодро ест и зачарованно слушает, словно он в цирке. Никому, кроме него, эта история почему-то не интересна.
Филипп говорит:
– Было бы лучше, если бы еды не было.
Мгновение спустя он встает из-за стола, не спросясь, и поднимается на верхний этаж. Сисси использует эту возможность и тоже встает, она просит бинокль, чтобы понаблюдать за птицами в кормушке. Петер, польщенный, достает бинокль и тоже, воспользовавшись ситуацией, смывается в подвал. Ингрид погружает руки в воду, которой заполнена раковина, ставит тарелки в сушилку, чтобы стекали. Временами, когда у нее плохие дни, такие мелочи кажутся ей страшнее войны и зимы.
А теперь затычки для ушей, в такие дни это единственная возможность заснуть на часок. Шум, суета, дети, которые хлопают дверьми, и не дают их друг другу открыть, и ссорятся из-за любого клочка бумаги, и для Ингрид нигде не находится места, кроме как в собственном теле. Она затыкает уши, надевает на глаза повязку, укрывается с головой, темно, как в подвале, и полная независимость от окружения и семьи. С затычками в ушах Ингрид осознает жесткие границы своего тела, ей представляется при этом стальная труба, тяжелая и полая. Наружные шумы почти исчезают, но донимают внутренние: дыхание, сглатывание, биение пульса.
Пугающий эффект – из-за двух маленьких затычек в ушах чувствовать себя запертой – не дает ей заснуть.
В тот день, когда переговоры по Государственному договору пришли к завершению, а Ингрид заявилась домой только в одиннадцать часов, потому что спала с Петером на складе и много времени потратила на пустые разговоры, она ожидала хорошей взбучки. Однако из-за зубной боли ее отца, которая настолько обострилась, что даже начались нарушения зрения, никто ничего не заметил.
Наутро Ингрид сказала:
– Должно быть, я все проспала.
И ее отец сказал:
– Мне бы твой сон.
Ингрид выходит в туалет, и ее мучит жажда. Она видит, что Филипп сидит на верхней площадке лестницы со своей крошечной моделью трактора, тупо уставившись в пустоту. Ей становится его жалко, совестно перед ним, и она вынимает из ушей затычки, одевается и созывает всю остальную семью. Мол, кто хочет проветриться, тому на сборы пять минут.
Сисси ворчит, но подчиняется.
Петер не делает даже попыток, что совсем не удивляет Ингрид. Он ссылается на свою лодыжку, которую подвернул на Рождество, когда сверзился в прихожей с роликов, подаренных Сисси Христом-младенцем. Всегда у него что-нибудь не так.
– Так и быть, прощаем.
Хотя: зачем же притворяться. Если он не может гулять, сделал бы с детьми круг по Вене на общественном транспорте, они этому всегда рады.
Короткий вопрос.
Короткий ответ:
– Но ты ведь уже оделась.
Господин завсегдатай подвала. Он даже не знает, чего лишается, отказываясь провести время с детьми.
Ингрид затягивает резинки на штанинах Филиппа, надетых поверх сапог, протягивает шнурок с варежками через рукава комбинезона, надевает на него шапку с ушами, а на собаку ошейник с поводком и целует Петера в щеку. Петер подставляет ей и другую, так что ей приходится снова целовать его при детях. Не стоит придавать этому значение. Петер обещает отвечать на новогодние телефонные звонки и навести порядок в подвале, где лежит уголь. Ингрид уверена, что через три минуты после их ухода он будет сидеть перед телевизором. Наверняка на каком-нибудь канале есть спорт, тогда ему возместится то, что дети, как он недавно жаловался, подпускают его к телевизору только тогда, когда удобно им. Бедняжка. Как его не пожалеть. Так много людей, которым он нужен только тогда, когда раскрывает свой кошелек.
– Турецкий шанцевый парк[65]65
Парк со спортивными препятствиями, например рвами, заполненными водой.
[Закрыть] или Шёнбрунн? – спрашивает Ингрид.
– Шёнбрунн, – в один голос отзываются дети.
Ингрид тоже больше по душе Шёнбрунн, там дорожки лучше расчищены и по ним легче ходить. Она усаживает детей и собаку в машину, перебрасывается словечком с соседкой, которая вытряхивает из окна скатерть, – тоже женщина на грани распада брака; ее муж, по слухам, пошел по стопам своего умершего отца, что конечно же прискорбно…
Ну, поехали.
Дворец Шёнбрунн кажется на сей раз приплюснутым и массивным. Желтизна[66]66
Желтая окраска зданий – признак их принадлежности династии Габсбургов.
[Закрыть] фасада поблекла от печного угольного дыма, привкус которого ощущается в воздухе. Аллеи почти безлюдны, живая изгородь покрыта шапками снега, а голые ветки лиственных деревьев четко прорисованы на бело-сером фоне, вороны на ветвях, черные комочки, будто их младенец Христос набросал. Холодно. По небу ползут серые облака, и Филипп, который не захотел оставить дома санки, тянет их со скрежетом по мелким камешкам и замерзшим листьям в утоптанном снегу. Иногда Филипп убегает вперед, переваливаясь в своем толстом утепленном комбинезоне неуклюже, как пингвин. Он то и дело озирается по сторонам. От зоопарка или стрельбища слышны выстрелы и музыка, эти шумы быстро стихают на снегу, как будто донеслись сюда издалека. Чудесная атмосфера, находит Ингрид. Она наслаждается всем этим и говорит себе: вот радость, если Новый год будет такой же чудесный, как этот день. Как знать, может, свинка счастья заодно опять проглотит и все дурные предзнаменования.
Кара таскает за собой на поводке Сисси вдоль и поперек дорожек, и у Ингрид есть время подумать. Только, к сожалению, большого успеха в этом деле она не достигает, по крайней мере, в поисках, как улучшить текущую ситуацию. Слишком поздно она поняла, что это глупо – постоянно стремиться быть хорошей женой. Вместо того чтобы принимать поцелуи и розы как возмещение за свои мучения, лучше бы она вовремя воспитала из своего мужа помощника, чего теперь от него уже не добьешься. Теперь он все с себя свалит по принципу «раз дурак – всегда дурак». Ингрид ведь не спорит, что она и сама виновата, поскольку сама же первая ратовала за все удобства Петера и потом недостаточно энергично пресекала это. При этом (все это очень сложно) она не может припомнить ни одного примера, подтверждающего, что Петер способен извлечь уроки из их конфликтов. Видимо, еще его мать допустила какие-то ошибки в его воспитании.
И в то же время типично для нее самой: стоит Ингрид обнаружить в Петере больное место, как она тут же начинает ему сочувствовать. Ей вспоминается смерть госпожи Граубёк сегодня ночью (странно, что она порой умудряется забыть о ней) и то, что Петеру, когда умерла его мать, было всего пятнадцать, это было в войну; а ранняя игра в войну – это тоже негативно сказалось на нем, хотя сорокалетний мужчина и тогдашний мальчишка – далеко не одно и то же, и то время, когда они встретились и познакомились, чего только не было до того и после. Всем предыдущим и последующим, как правило, пренебрегают. Война легче, а еще легче военное детство, хотя никто не задерживается на войне и в детстве. По себе самой ей трудно судить, что было бы в ней другим, если бы не было войны. А по Петеру? Весь этот комплекс так прямиком и ведет к неудачам их брака, во всяком случае, если Ингрид хочется поудобнее устроиться в размышлениях об этом. Вот она видит Петера-подростка, как он держит свою раненую руку, как у него из носа текут сопли и как он сам говорит (а она ему верит): все против меня, одни в меня стреляют, другие бросают в беде, в первую очередь своя же семья.
На дорожке появляется темно-рыженькая белочка с белым пятном на груди, останавливается, поднимает голову и смотрит на Филиппа, ковыляющего ей навстречу. Белка, кажется, раздумывает, в какую сторону ей кинуться. Потом над парком, защищенным высокими стенами, гремит выстрел, и белка бросается в заросли живой изгороди. Филипп бежит к тому месту, где она скрылась, заглядывает в гущу зарослей, Сисси дает ему пинка, и он падает головой в кусты. Вот здорово! Гопля! Ингрид прикрикивает на Сисси. Филипп гонится за смеющейся сестрой с воплями, словно сто чертей. В потасовке его не остановит даже то, что она в два раза больше. Он вопит:
– Ах ты, зараза!
Но поскольку Филипп забывает про слезы, Ингрид тоже смеется. Она бы посоветовала Сисси приберечь такие повадки для ее будущих мужчин.
Вскоре после этого Ингрид берется тащить санки, поскольку Филипп уже запыхался. Ну вот, теперь он снова оживает.
– Ты самая лучшая мама, – хрипит он задыхаясь, по-прежнему беззаботный (это в нем хорошая черта – отсутствие злопамятства). С кончика носа свисает прозрачная капля, но, судя по всему, она ему не мешает. Ингрид все же вытирает ему нос, придерживая его за воротник. Она думает: единственный положительный результат из всего этого – дети.
Проблемы начались в годы второй половины учебы, когда занятия доводили Ингрид до грани нервного срыва, а от Петера она не получала никакой поддержки. Это началось еще в Хернальсе, до того, как Петер продал лицензии на свои игры. С продажей лицензий в конце 1960 года, во время беременности, когда Ингрид носила Сисси, она надеялась, начнется лучшая жизнь. Но вместо этого все пошло еще хуже. Ингрид лежала в больнице, Петер разъезжал по служебным делам, потому что фотографировал свои перекрестки. Она была на последнем издыхании, а снаружи, из одного заведения, где практиковались ранние возлияния, постоянно доносились по утрам шлягеры, Труде Херр[67]67
Труде Херр (1927–1991) – популярная певица из Кёльна.
[Закрыть], Вико Торриани[68]68
Вико Торриани (1920–1998) – известный музыкальный телекомментатор.
[Закрыть], это ее изводило. Потом слишком короткие посещения Петера в отделении для рожениц и его уверения, что ему нечего особенно рассказывать о его новой работе.
Бесконечные одинокие прогулки на Вильгельминенберг с детской коляской, а позднее наводящее скуку кормление уточек с Сисси, когда Ингрид позарез нужно было заниматься. Однажды, когда они уже вчетвером ездили за покупками, в 1965-м или в начале 1966-го, Филиппу еще и года не было, Сисси вырвало, прямо на Филиппа в коляске и на покупки, которые Ингрид туда сложила. Филипп орал как резаный. А что Петер? Покраснел до корней волос и огляделся, не смотрит ли кто на них. На всякий случай отстал на два шага, чтобы никто не подумал, что он имеет какое-то отношение к этому безобразию. Если что-то шло вкривь и вкось, виновата всегда была Ингрид, потому что Петер ни во что не вмешивался. Отличная логика. Ингрид могла бы привести десяток примеров, множество случаев, которые она не может забыть. У нее это как у слона, во всяком случае, до тех пор, пока она не избыла свои обиды. А избыть их она может только теперь. Потому что лишь теперь, когда Филипп ходит в детский сад, Ингрид хотя бы иногда находит время обдумать то, что нужно было сделать еще тогда. Беда в том, что в водовороте повседневных забот она не находила времени осознать и потому не могла оценить, как мало поддержки она получала со стороны Петера. Именно потому ей и приходилось пробиваться и перемогаться одной. Страх оказаться перед родителями несостоятельной доделывал остальное. И так, между молотом и наковальней, проходили годы.
Ни разу ей не удалось добиться получить помощницу по дому или няньку для детей. Петер становился поперек дороги с одним и тем же аргументом, что ненавидит эти полусемейные связи, что не хочет стоять навытяжку перед чужими людьми и постоянно выполнять роль шофера. Так и шло. Предложение ее отца освободиться от налогов на няньку, проведя ее в качестве помощницы по упорядочению его рукописных трудов, даже не обсуждалось. И расплачивалась за все Ингрид. Если бы не госпожа Андрич и другие соседки, ей впору было бы повеситься.
Она была молодая, хоть и не казалась такой уж юной: двадцать, двадцать два, двадцать четыре. Она не всматривалась в свое отражение, а может, и не хотела видеть то, что следовало бы оценить более критично. Не то чтобы ее некому было предостеречь. Сама виновата, теперь она только так может сказать. Ибо теперь ей приходится признать, что она многое себе напридумывала. Большое счастье, например. Если быть честной, его у нее никогда не было.
А теперь? Теперь приходится пожинать плоды. Она должна приложить все силы, хоть это и нелегкая задача, к тому, чтобы любить Петера таким, какой он есть, – с его дружелюбной, беззаботной, последовательно отстраненной, въевшейся в кровь равнодушной повадкой.
Если продолжить, то с его в высшей степени порядочной, добродушной, самоуспокоенной, нет, непритязательной, обезоруживающей и нетребовательной натурой, закаленной войной и нуждой, научивших его оборонительной манере поведения, избеганию ненужных контактов и так далее и тому подобное…
От суживающейся у грота Нептуна аллеи доносятся крики и смех. Мгновение спустя в поле зрения Ингрид вторгаются подростки, разговаривающие между собой по-итальянски. Они образуют две пары и танцуют вдоль аллеи вальс без музыки. Снег скрипит у них под ногами, они смеются и выкрикивают: «Auguri!»[69]69
Желаем счастья! (ит.)
[Закрыть] Кара лает. Сисси смотрит невозмутимо, Филипп раскрыл рот и немного возмущен. Ингрид чувствует огромную радость, она обменивается с подростками улыбкой, закидывает концы своего красного шарфа, так гармонирующего с ее густыми волосами, за спину и тоже делает два оборота в ритме вальса. С воображаемым партнером и сигаретой в руке. Впервые за этот день у нее возникает ощущение твердой почвы под ногами.
Вена и вальс, раньше (раньше!) это значило для нее чрезвычайно много.
Когда зажигаются фонари, они уже снова дома. Петер встречает свою семью у дверей, Кара тут же пробирается в дом и шлепает на кухню. Ингрид, расстегивая свое мокрое пальто, получает поцелуй, не совсем как в кино, но все-таки. Она радуется этому, тем более что по-прежнему мысленно наполовину с вдохновенно танцующими подростками. А дальше еще лучше: при вопросе, что это на него нашло, уж не выпил ли он в ее отсутствие все абрикосовое шампанское (он отрицает), Петер снисходит до признания, что не может представить свою жизнь без них троих. Это тоже радует Ингрид, хотя Петер дает тем самым понять, что рассматривает жену и детей как личную унию.
Петер помогает детям снять сапоги. И докладывает Ингрид, кто звонил и кому звонил он сам.
Он говорит:
– Труде велела спросить, не нужен ли нам календарь. Она нам пришлет.
– Очень трогательно, что она о нас помнит.
Когда Ингрид заталкивает детей в ванную, Петер даже приносит ей чашку кофе с теплым молоком и шапочкой пены сверху. Очень внимательный. Как будто его подменили.
Как подменили? Разумеется, Ингрид из многолетнего опыта знает движущие механизмы этого преображения. Но все равно попытки Петера к сближению и жесты примирения ей приятны. Она всегда была отходчивой. Желание, чтобы снова все стало лучше, имеет под собой прагматическую основу: потому что есть дети. Она твердо надеется, что ни один из них не унаследует отцовскую бездарность к партнерству. Еще она, конечно, надеется, что навязчивость, с какой Петера затягивают побочные дела, тоже не передастся детям. Иначе туго им придется, бедняжкам.
Она имеет в виду возню Петера с моделями в мастерской и игры, от которых он никак не мог отказаться, пока не попал в совершенно безвыходное положение. Показательные примеры в части радикальных мелочей. Когда-то поначалу его игры сигнализировали для Ингрид его свободу и жажду приключений, креативность и волю к самоутверждению. Но насчет всего, кроме воли к самоутверждению, Ингрид ошиблась. На самом деле это было продолжение собирания окурков в гороховое время, возникшее в первые послевоенные годы, родившееся из нужды, совершенно неэффективное, в конце концов, бессмысленное предприятие, которым Петер занимался, чтобы увильнуть от более серьезных планов.
Знаешь ли ты Австрию?
Ингрид думает: медленно, очень медленно, но картина все же сложилась.
Она намыливает детям головы и промывает их тонкие, легкие волосики, как это делала и ее собственная мать, когда Ингрид с Отто вместе сидели в ванне. Ингрид уже почти не помнит Отто. Но в памяти почему-то сохранилось, что мать называла Отто енотом, а ее (Ингрид, Гитти) хорьком. И она называет Филиппа енотом, а Сисси хорьком. Дети пронзительно визжат, и хотя Ингрид вымоталась на дежурстве и на прогулке, и хотя у нее от холода побаливает голова, она уговаривает детей посоревноваться, кто дольше продержится под водой. Дети зажимают носы и по команде На старт! Внимание! Марш! набирают открытыми ртами побольше воздуха. Перед тем как сверкнуть попками, уйдя под воду, они крепко зажмуриваются. Их лица с надутыми щеками кажутся под толщей воды размытыми и увеличенными. Ингрид думает о рыбках, снующих под мостом. Скрежет трамвая на Пётцляйндорфштрассе слышен теперь так же хорошо, как тиканье счетчика газовой колонки.
Они повторяют игру несколько раз подряд. Один раз дети что-то кричат под водой, а потом спрашивают, поняла ли Ингрид, что.
– Капитан Дунайского пароходства?
– Нет! – визжит Сисси.
– Тогда еще раз.
Ингрид сидит около ванны, пьет по глоточку кофе. Воздушные пузырьки лопаются на поверхности воды. Голоса детей поднимаются к Ингрид глухо и искаженно, но все равно понятно.
– Попокатепетль?[70]70
«Дымящаяся гора» (исп.) – действующий вулкан в Мексике.
[Закрыть]
– Нет!
Плеск бурный, но слишком быстрый: был – и нету. Все проходит, а время вообще летит как на крыльях. Что я сделала за это время? За последние шесть месяцев? За последний год? Много было хлопот с детьми. Сисси на будущий год пойдет в гимназию, Филипп в школу, и тогда самое трудное с ним будет позади. А со мной? Все, что происходит, связано с детьми. Я выстраиваю годы по событиям, которые касаются меня косвенно. Раньше – я познакомилась с Петером, а на следующий год я кончила школу, а еще через год был мой первый выкидыш, и опять же через год я ушла из дома, потом я получила диплом. А теперь уже дети идут в школу, болеют скарлатиной и так далее. А я: живу при них.
Дети моют свои гениталии, а Ингрид рассказывает им, что в зоопарке в то время, когда Петер работал там фотографом, погиб тюлень – проглотил фотоаппарат советского солдата. И что у советских солдат раскосые глаза, как у маленького Водяного[71]71
Популярная детская книжка (1956) знаменитого немецкого детского писателя Отфрида Пройслера (р. 1923).
[Закрыть] в любимой книжке Филиппа (волосы у него, кажется, зеленые? в них запутываются водяные лилии, когда он мчится сквозь водоросли верхом на обросшем мхом карпе).
На детей это производит впечатление, они снова ныряют. Ингрид должна засекать время. Она сидит, глядя на часы, прошло десять секунд. Сейчас вынырнет Филипп, да так, что все стены будут забрызганы, и с изнеможением и огорчением прохрипит, что Сисси опять его победила.
Может, это последний раз, когда дети ныряют на спор, думает Ингрид. Внизу тем временем звонит телефон. Петер зовет ее, и она сбегает вниз по лестнице, хотя дети еще не вынырнули. Она считает, что, если на детях еще и осталась какая-то грязь, она отмокнет сама по себе.
Это ее отец с поздравлениями и пожеланиями счастья в новом году, в голосе чувствуется осадок всего того, что было сказано между ними прежде, дополненный несколькими словами, которыми он обменялся с Петером. От имени Альмы (как он говорит) он сетует на то, что Ингрид не пришла к ним на Рождество.
Ингрид прижимает трубку плечом и вытирает мокрые руки о платье. С тех пор как Петер и ее отец пустили в ход кулаки, когда они разъединяли мебель в гостиной, контакты между 13-м и 18-м районами сведены к минимуму.
– Рождество – это праздник мира и покоя, папа. – Ингрид не проявляет враждебности, но явно дистанцируется. (Песни, объятия, поцелуи, игры в благодарность и дурацкие притворные речи – всего этого ей совсем не хотелось.) – А мне совершенно необходим покой и мир.
Отец снисходительно вздыхает. Таким мягким она его давно не помнит. Он еще раз повторяет приглашение на первый день нового года. Но поскольку Ингрид, помимо пиротехники, не хотела бы начинать новый год семейными выстрелами и взрывными эффектами, она переносит свой визит на день, примыкающий к ее следующему ночному дежурству.
Она тут же говорит:
– Лучше я приеду одна.
Петера ей даже спрашивать незачем, а дети, которым у дедушки с бабушкой скучно, горнолыжный спуск и прыжки с трамплина с таким же успехом могут посмотреть и дома.
– Мать огорчится. Ей хочется повидать внуков. – После паузы он спрашивает: – Как у тебя-то дела?
– Я думаю, ничего, ну, так, серединка на половинку. Я бесконечно занята. Ничего нового.
– Тебе надо бы поберечь себя, – советует Рихард.
– Мне себя? Скорее другим – меня.
Но отец на это не реагирует.
– Ты уже знаешь, в какой области будешь специализироваться, когда отработаешь… – Он не может вспомнить нужное латинское слово и потому говорит: – …положенный срок?
– В гинекологии.
(Если вообще будет специализироваться.)
Он смеется. Ингрид кажется, что он хочет продемонстрировать свое особое чувство юмора, когда говорит:
– Я искренне благодарен судьбе, что мне до сих не требовалась помощь в двух областях медицины: в гинекологии и психиатрии.
После этого отец некоторое время говорит о левом сдвиге в политике после недавних выборов, чему Альма втайне рада. Он как бы вскользь замечает, что такое развитие событий, вопреки предположениям, вовсе не оставляет у него ощущения бессмысленно прожитой жизни. В настоящий момент одни стоят других. Он рассказывает о положении внутри партии. Большинство историй Ингрид слышит уже во второй или в третий раз, но она не останавливает его и терпеливо выслушивает все, ей от этого ни тепло ни холодно. Одно из преимуществ лет, прожитых с Петером, – то, что она научилась понимать другой пол. Лучшего объекта, чем отец, для применения этих знаний не найти.
Проходит пять минут, прежде чем Ингрид удается дружелюбно прервать обстоятельный монолог отца вопросом, какие у них были подарки на Рождество.
– Мама получила миниатюрный сейф от фирмы «Вертхайм», а я огнетушитель для машины.
Это становится все оригинальнее. Но все же лучше, чем у нее, когда дарят то, что и без того давно пора было купить.
– Кстати, – говорит Рихард, – мама велела спросить, достаточно ли у тебя сумочек.
– Их никогда не бывает достаточно.
– Да, разумеется.
Молчание в трубке.
Мимо проходит Петер – из гостиной на кухню. Касается шеи Ингрид. У нее мурашки бегут по спине – приятные или неприятные, она сказать не может. Но ей кажется, что Петер специально для этого встал от телевизора.
Рихард спрашивает:
– А что вы делаете сегодня вечером?
– Приглашение в Земмеринг, на которое Петер дал себя уломать, отменяется, потому что там все заболели. Если дети сейчас поспят часа два, то мы пойдем к китайцу, а нет, так останемся дома.
– Будешь есть утку?
Она с шумом выдохнула:
– Не знаю, я думаю, у меня будет время выбрать, что заказать.
– Зачем же еще идти к китайцу, если не есть утку?
Этот род критики для Ингрид слишком высок, то есть она просто пропускает такие комментарии мимо ушей, и остается одно: отца уже не изменить, его всезнайство и манера командовать будут только возрастать (а ей на это плевать).
Дети наверху кричат, что они уже готовы.
– Передай маме привет и новогодние поздравления.
– Мама хочет сама с тобой поговорить. Я передаю ей трубку.
– Алло, Ингрид?
– Мама? Я не могу дольше разговаривать, дети в ванной и зовут меня. Я приеду во вторник.
Вес без одежды:
Филипп 19,5 кг
Сисси 32 кг
Ингрид 62 кг
Петер сушит детям волосы феном и дает им немного поесть. Ингрид тем временем стоит под душем и испытывает чувство вины оттого, что внутренне замыкается, как только начинает говорить с родителями. Как будто она безмерно заинтересована в том, чтобы между нею и родителями все оставалось так, как оно есть сейчас. Конечно, у нее достаточно причин повернуться к родителям спиной. Но вместе с тем нельзя оспорить, что у нее нет ни времени наладить отношения, ни потребности взять на себя с улучшением отношений лишние обязательства. Иногда ей кажется, что она такая несносная и резкая прежде всего по инерции: чтобы ее оставили в покое. Притом что о покое нет и речи, поскольку она чувствует себя виноватой, ведь она хорошо растрясла мошну своих родителей. Это чувство вины ведет к тому, что она хочет исправить свои ошибки; это опять же связано с ее потребностью в покое. Сейчас, например: она решает сразу после душа под каким-нибудь предлогом перезвонить и быть приветливее. Но это сразу ее отпугивает, поскольку маловероятно, что после этого она будет чувствовать себя лучше. Разве ты будешь после этого довольна? Окутанная водой и паром, она приходит к выводу, что она сама и есть самая большая эгоистка из всех.
Контрудар, парирование:
Нет, Ингрид, глупая ты курица, ты должна освободиться от этого идиотского представления, поскольку оно все ставит с ног на голову. Ты не можешь сделать всех счастливыми. Необходим еще и некоторый минимум энергии для самой себя. Вспомни, что написано в женском журнале Cosmopolitan, который завалялся в ординаторской: Свою энергию используют для себя, а что останется – для других. А ты делаешь все наоборот. Ты недостаточно эгоистична, это видно каждому. Чем постоянно искать оправдания своему поведению, пусть лучше другие останутся с носом. Что, не так?
Но муки совести остаются, невзирая на все уговоры, и Ингрид дает себе слово, хотя бы во вторник, когда она приедет к своим родителям, попробовать начать все сначала. Сделать, так сказать, почин, не больше того. Ее от этого не убудет.
Ингрид вытирается и одевается для вечера. Раз уж подвернулся случай, она находит в выдвижном ящике открытку с автографом Пауля Хёрбигера и сжигает ее в унитазе. Открывает форточку, чтобы выветрился дым. Потом спускается вниз, где Петер дурачится в игровой комнате вместе с детьми. Филипп пару раз обнимает Петера и прижимается к нему, так что Ингрид даже ревнует. Петер ничего не делает для детей, но стоит ему только поиграть с ними, как они так и льнут к нему. Ингрид этого никак не может понять. Воспитывает детей она, а сливки снимает Петер.
– Мне не хотелось бы нарушать вашу идиллию, но если вы двое (она указывает на Сисси и Филиппа) немедленно не ляжете в постель, то и китаец отменяется, а что с возу упало, то пропало. Я не шучу. Быстро!
Когда потом перед телевизором падает ее зажигалка, Петер немедленно нагибается и поднимает. И когда она чихает, он тут же говорит:
– Будь здорова.
Эта непривычная внимательность озадачивает ее. Начиная с обеда, то есть вот уже часов шесть, Ингрид не слышит ни слова критики, никаких назиданий и обидных интонаций. Петер даже ищет повода прикоснуться к ней, хоть и не всегда галантно, вот сейчас он убрал ей за ухо прядь влажных волос. Однако благие намерения налицо, и поскольку Петер не занудствует, как большинство мужчин, она тоже не хочет нарушать гармонию вечера. Несколько раз она удерживается от замечаний, готовых сорваться с языка. Ведь получается же. За это ей воздастся добром, а может, все это курам на смех.
Может быть, Петер почуял, куда ветер дует, может, он испугался возможного расставания, какое угрожает Андричам. Может, это задевает его гордость, и он вспомнил на несколько дней о своих домашних обязанностях. Есть над чем подумать.
Кстати, Андричи: Ингрид интересно, устроит ли господин Андрич в полночь фейерверк, как в прошлый Новый год. Тогда не было ни ветерка, и весь дым от ракет завис на террасе и становился все плотнее, пока господин Андрич и его помощники (к ним присоединился и Петер после того, как мальчишка Андричей сдался) совсем не скрылись в дыму, и лишь их смутные силуэты сновали среди пиротехнических ракет и ящиков с напитками. Ингрид давно так не покатывалась со смеху, как в ту новогоднюю ночь 1969-го при виде этих кашляющих в дыму мужчин. В ликовании полуночного вальса и радостного колокольного звона, в ярких вспышках искр и взрывах смеха они все-таки бодро довели свою новогоднюю миссию до конца. У прекрасного голубого Дуная…
Кара прыгает к Ингрид на кушетку и зарывается холодным носом ей в подмышку, положив передние лапы ей на бедро и на ладонь. Снаружи опять пальба. Звук такой, будто соседские мальчишки взрывают банки из-под колы или кто-то лупит палкой по почтовым ящикам. Пока не начался настоящий грохот, надо еще раз дать Каре валерьянки и потом запереть ее в подвале.








