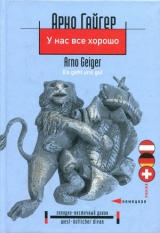
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Воскресенье, 29 апреля 2001 года
К следующему приходу Йоханны ванная комната настолько вычищена от хлама, что она, несмотря на побитый кафель и осыпающиеся с потолка клочья старой краски, залезает к Филиппу в ванну. Йоханна говорит, что от постоянного сидения на крыльце у него уже появились веснушки, хотя обычно они проступают в разгар лета. Она смотрит на него, ему нравится, когда она так смотрит, нравится и то, что она говорит, хотя ему не очень понятно, что кроется за всем этим, может, легкая критика? Или она хочет продолжить разговор с прошлого раза, касающийся отсутствия у него семейных амбиций? Нет. Точно нет? Тем лучше. На семейном фронте без перемен. Йоханна добавляет горячей воды. Вода течет по рыжеватым разводам под краном до тех пор, пока на лице у Филиппа не появляется румянец. Сначала запотело окно, а потом и светло-голубая плитка на стене. Йоханна вытягивается, насколько позволяет ванна. Потом спрашивает:
– Слушай, Филипп, можно я останусь у тебя на пару дней?
Вспоминая вчерашний телефонный разговор (да и многие другие, которых было немало), Филипп не особенно удивляется. Возглас Йоханны: я не хочу тебя потерять, я лучше расстанусь со своим мужем! Потом короткая надежда, что она на самом деле и взаправду это сделает, и сразу вслед за этим опять откровенный насмешливый смех (а он – как дурак в колпаке, который ходит по кругу на башенных часах, появляясь, когда дверца распахивается, и исчезая потом снова), ибо намерение это пройдет без последствий и на сей раз, как инфлюэнца или галлюцинация.
– Чему обязан на этот раз? – спрашивает он.
Все очень обыденно, как всегда.
Йоханна повздорила с Францем, а Юлия (дитя, навеки связавшее их отношения) на выходные останется у родителей Франца в Неккенмаркте. Поэтому дома Йоханна никому не нужна.
Полулежа-полусидя, они баламутят воду и разговаривают о том, что накопилось у Йоханны за последнее время, – о Франце, который, по утверждению Йоханны, пребывает сейчас в творческом кризисе. Она приводит подробности: Франц не работает и целыми днями только говорит о том, какие в нем борются идеи. Он часами разглагольствует о телесных формах и интуитивном в искусстве и о том, что он собирается навязать миру свои абсолютные условия. Он вроде понимает, что подобная затея кончится ничем, но все только потому, что ему не дают реализоваться тупые, заурядные люди. Под ними он, естественно, подразумевает ее, Йоханну, говорит Йоханна. И смеется. Вчера вечером он носился по квартире и бесконечно вопил, что весь мир – это сплошной бип! бип! би-и-ип! Он хватался за свои скульптуры, прятался за них и опять вопил: Бип! Бип! Бипер! В своей бесцеремонной манере. А после этих бесконечных бип! бип! ничего не объясняя, он вышел из квартиры и отправился в новую мастерскую. Новая мастерская, из-за которой возникает столько проблем. Франц ни в коем случае не хочет давать от нее кому-нибудь ключ, даже Йоханне, своей законной жене.
– Он аргументирует это тем, – говорит Йоханна, – что мои требования – это попытка заполучить над ним власть, потому что у меня появится возможность его контролировать. А если я пытаюсь доказать, что ключ мне нужен не для утверждения собственного «ego» или для того, чтобы завладеть его собственностью, тогда он задается вопросом, зачем мне в таком случае вообще нужен этот ключ. И раз я так и так собираюсь извещать его о своем приходе, тогда это всего лишь пустые угрозы, которых он не понимает.
Филипп замечает:
– Хорошая аргументация, против которой особо не возразишь.
– Возможно. Тем не менее это наглость. Ведь мы муж и жена.
– Кому ты это говоришь.
И хотя Филипп воспринимает игру ума вокруг брака Йоханны как ненужную нагрузку, как ловушку, в которую он однажды уже угодил, он думает: а может, все это совершенно нормально, – если у тебя связь с замужней женщиной и матерью ребенка, то приходится постоянно разбираться в психологических подоплеках отношений этой женщины с ее мужем и наоборот. И тут ему вдруг приходит в голову и он поражается сам на себя: столько лет мириться с таким положением как с чем-то само собой разумеющимся – быть вторым номером и безропотно довольствоваться со дня свадьбы Йоханны ее любовью на пару часов и без возражений принимать ее заверения, что она любит его гораздо больше, чем Франца, раз до сих пор не произвела от того на свет пятнадцать детей, а ограничилась одним, и то незапланированным, ребенком.
Йоханна продолжает:
– Этот ключ от мастерской стал своего рода символом власти. Но я сказала вчера Францу, что плевала на то, чтобы передавать ключ из рук в руки ради сохранения мира. Теперь пусть думает, что он с успехом защитил сферу свою интимных отношений с искусством, а заодно и со своим творческим кризисом.
И после небольшой паузы:
– По-моему, пусть катится к черту, и чем быстрее и раньше, тем лучше.
Но все эти заявления и как бы замелькавшие надежды на счастье не производят на Филиппа после стольких лет разговоров об этом должного действия.
– Я весь внимание, – только и говорит он.
– Вот увидишь, – уверяет Йоханна. – У меня с Францем не получится уже ничего путного.
– Как сказано, я весь внимание.
– Подожди еще немного.
– Да я уж подожду, это точно. Кто долго ждет, тот и королем стать может.
– Спорим?
– Правда, голым королем.
(Подведем итог: Йоханна никогда не стала бы меня обманывать или только в крайне редких случаях. Мы могли бы быстренько сотворить ребенка, или двух, или даже… Нет, ничего этого не будет.)
– Ну давай поспорим, – настаивает Йоханна.
– Кружка пива в Техасе, американские бои без правил в грязи[27]27
Эротическое шоу: борьба голых женщин в грязи.
[Закрыть] и впредь для меня привилегия секса без презерватива.
– Получишь.
– После дождичка в четверг.
Она насмешливо поднимает брови.
– Потому что я выиграю.
Она лупит руками по воде и без оглядки разбрызгивает ее Филиппу в лицо и на дверь. Потом еще раз напускает горячей воды. Пена для ванны почти полностью осела и растворилась, остатки ее образуют неровные линии вокруг выступающих над поверхностью воды частей тела. Они кругами поднимаются с льющейся водой и доходят Йоханне до груди. Филиппу бросается в глаза, что соски Йоханны торчат вызывающе радостно, что не соответствует ее общему настроению, зато вполне гармонирует с теплым и влажным помещением, мягким, насыщенным парами светом, исходящим из голой лампочки под жестяным колпаком.
Филипп говорит:
– Я не могу похвастаться, что я абсолютно незакомплексованная личность, но ключ от дома дам тебе без колебаний. Тем более что у меня есть не менее дюжины дубликатов.
– Очень прошу тебя, ну пожалуйста.
Он смотрит ей промеж ног. Ему хочется увидеть ее промежность в скользкой, голубоватой от ароматической соли воде. Но у нее на лобке, на жестких волосах зависли жемчужинками маленькие капельки воздуха, и это настолько его удивляет, что он переключается на другие мысли. Сердцебиение постепенно успокаивается, и он смотрит, а как у него там, не висят ли такие же маленькие жемчужинки и на его не таких жестких волосах. Нет, не висят, нет там ничего, и ему очень хотелось бы знать, почему такая дискриминация.
Йоханна тем временем продолжает рассуждать:
– Франц до такой степени меня раздражает, ты не поверишь. Он, и он, и только он. Он, он, он. Только один он. Я больше не могу это выдержать. Он и его скульптуры, он и его мастерская, он и его город, он и его машина, он и его черный верблюд. Его фотографии, его ботинки, его штаны, яйца, его голова и его плохое настроение. Он жутко действует мне на нервы своей персоной.
– Знаю, знаю, – говорит Филипп, давая ей понять, что он в курсе того, что еще может сказать Йоханна.
И чуть позже из тех же соображений он повторяет:
– Удивлен, крайне удивлен.
Вскоре они вылезают из ванны и встают под душ. Еще стекает, булькая, вода, а они уже спустились вниз, в швейную комнату, единственное, кроме ванной, помещение, расчищенное Филиппом. Вместе с мебелью исчез и несколько печальный запах полировки, вощеной бумаги, хранившейся в шкафу, да и самих старых людей. С верхнего этажа Филипп притащил пружинный матрац, застелил его чистым бельем и расположил под окном. Филипп тащит Йоханну на этот матрац. Он нервничает, но не из-за бабушки с дедушкой, этого застывшего изображения супружеской пары, холодно глядящей на него со стены, а от осознания, что переспит сейчас с Йоханной и в эти выходные дни это будет единственный раз, когда Йоханной движет уверенность, что развод с Францем уже решенный вопрос. И дело тут не в его, Филиппа, желании и воле, стоит ему лишь об этом задуматься. Он уверен, что фантазии Йоханны о разводе есть не что иное, как революция последних дней апреля, анархическое междуцарствие, которое даже май не переживет. Все это представляется ему как перемигивание с недомолвками и ложью, как перманентная смертность надежд. Тем не менее он запускает сзади свою левую руку в расставленные с готовностью ноги Йоханны, средним пальцем вперед, и все лишь потому, что не хочет упустить короткую передышку, предоставленную ему ссорой Йоханны с Францем, не получив от этого сексуальной выгоды. Он чувствует прикосновение ее языка к своему правому плечу, неутоленное, печальное наслаждение.
– Ты слышишь? – спрашивает она.
И потом, прежде чем ее язык заскользит по его шее:
– По шкале Ламонта[28]28
Иоганн Ламонт (1805–1879) – шотландский астроном и геофизик.
[Закрыть] силу ветра в четыре балла определяют по тому, как он воет в трубе.
Действительно, в трубе воет.
Среди ночи его будит звонок сотового телефона Йоханны. По тому, как она отвечает, ясно, что на другом конце Франц. Она говорит, что находится у подружки, и что ее только что рвало и еще у нее понос, и что она чувствует, что через пару минут все начнется сначала. И если он хочет что-либо сообщить, пусть говорит, да покороче, потому что она не хочет одновременно и в сортире сидеть, и по телефону разговаривать. Через секунду, что-то бормоча, она нажимает на красную кнопку, потом выключает телефон и опять обращается к заметкам Филиппа, от чтения которых ее оторвали.
Вся эта ситуация кажется Филиппу похожей на странный, но почти реальный сон. Он прижимается к голым бедрам Йоханны. В этом положении он с удовольствием бы опять заснул и посмотрел бы, будет ли продолжение сна. При этом он слышит, что говорит Йоханна, и в ее голосе по-прежнему звучит оттенок раздражения:
– Я сейчас как раз читаю, что ты тут набросал о своих предках и происхождении этого пушечного ядра. Не самая светлая мысль, я знаю, но ты такой же халтурщик, как и Франц. Ты пишешь прилежно, и это тебе легко дается, но на самом деле у тебя каждое слово сплошной сумбур, потому что в действительности неясен замысел. Пустое времяпрепровождение. Знаешь, я, наверное, могла бы согласиться с тем, что благодаря неудачному стечению обстоятельств ты слишком рано оказался оторванным от генеалогической связи поколений, которая обычно или, по крайней мере, не так уж редко существует в роду, именно благодаря ей и передается от одного поколения к другому история рода. Но я должна тебе напомнить, что по меньшей мере твой отец еще жив.
– Но только он разучился разговаривать за минувшее столетие.
– И поэтому лучше накручивать собственные истории рода, да? Хотя за одно это тобой уже можно было бы восхищаться. Я думаю, что смогла бы, если бы ты не выпендривался, а действительно по-настоящему взялся за работу, то есть я хочу сказать, если бы ты историю своего рода – ну ладно – пусть бы выдумывал, но без выпендрежа. Не обижайся на меня, но на роль отпрыска описанных здесь героев ты совершенно не годишься.
– Ну да, я уже подумал, – смущенно бормочет сонный Филипп.
Он догадывается, что Йоханна снова весьма трезво смотрит на вещи с полным сознанием того, что он, Филипп Эрлах, не тот человек, который вырвет Йоханну Хауг из ее пропащего брака.
– Так о чем ты подумал? – спрашивает она.
Но он не договаривает фразу до конца, и чуть позже, после того как Йоханна отпускает критическое замечание, все сказанное ею уже больше не волнует его. Пусть говорит что хочет:
– Если это будет продолжаться в подобном тоне, то в конечном счете я буду только реветь. Все идет к этому. Но мне такого не надо, я об этом сразу заявляю.
Вторник, 1 мая 2001 года
Йоханна непременно хочет принять участие в демонстрации и настаивает на том, что они поедут на велосипедах из протеста против снова принятого управлением городского транспорта решения не прекращать работу и 1 мая. Она аргументирует это тем, что раз уж сегодня ни одна свинья не соблюдает поста, так следовало бы по меньшей мере смириться и дать возможность колоннам пройти во время социалистических праздников по улицам. При ближайшем рассмотрении это умозаключение кажется Филиппу логичным, и он тоже готов следовать этой логике, и даже больше того: он просовывает между спицами по спирали красную гофрированную бумагу, да так ловко, что у глазеющих на них прохожих начинает кружиться голова. На велосипедах Филипп с Йоханной смотрятся великолепной парой, и во время демонстрации гвоздика в петлице Филиппа выглядит как орден опереточного большевика. Филипп стоит на Рингштрассе среди пенсионеров с профсоюзными значками на лацканах под цветущими каштанами с блестящими жирными листьями. Мимо проходят парадом марширующие ряды демонстрантов, и Йоханна среди них. Он тем временем вспоминает те песни, что слышал от своего отца, хвастуна и воображалы, научившего Филиппа петь их, чтобы ему было что подбросить (как говорил отец) во время школьных походов: Avanti popolo![29]29
«Вперед, рабочий народ!» – начало популярной итальянской песни рабочих-социалистов «Красное знамя».
[Закрыть] и Vorwärts und nicht vergessen![30]30
«Песня солидарности» (1936) – немецкая песня рабочих-интернационалистов, слова Бертольта Брехта, музыка Ганса Айслера, известна в исполнении Эрнста Буша.
[Закрыть]
Та-та-ра-та! Дзинг-бумс-та-ра-ра! Дзинг-дзинг! Оп-ля-ля!
Вечером по дороге домой, когда Филипп и Йоханна обгоняют на своих притягивающих всеобщие взгляды велосипедах других, тоже возвращающихся домой демонстрантов, которые волокут за собой по земле флаги и чем-то напоминают части разгромленной армии, Йоханна хочет узнать, готов ли Филипп выслушать приятное известие. Прелюдия и определение приятное известие настораживают его, поскольку ему известна относительность того, что в газетах именуется словом «счастье». Тем не менее он дает Йоханне возможность обхватить себя за плечо, чтобы приблизиться к нему во время оглашения означенного известия. Наполовину с гордостью, наполовину с насмешкой она сообщает ему, что договорилась с одним знакомым на стройке и, несмотря на подробно описанное ею ужасающее состояние чердака на вилле, завтра с утра придут двое работяг. Им дано указание помогать Филиппу при всех работах по дому, быть всегда у него под рукой и в случае необходимости даже подхватывать его под руки. Во всяком случае – таково мнение Йоханны, – приход этих мужчин на пару дней оградит его (да, Филипп, тебя) от выдумывания биографии предков и историй про пушечное ядро.
Вместо решительного отпора, что, по мнению Филиппа, было бы нормальной реакцией на эту провокацию, он издает стон. Пока он яростно жмет на педали, Йоханна еще сильнее хватает его за плечо. И лишь через несколько сотен метров, между Майдлингом и Шёнбрунном, когда его гневный запал вот-вот испарится, он решается на протест:
– Какой же я после этого король, если мне нужны герои труда, к тому же нелегалы, чтобы вычистить родовое стойло от навоза. Я прикажу обезглавить их, одного и другого! Точно! На том и стою, я – мерзкий и ничтожный король!
Белое воскресенье[31]31
Первое воскресенье после Пасхи, когда католические священнослужители снимают белые пасхальные одежды, является также воскресением первого причастия.
[Закрыть], 8 апреля 1945 года
(перевод Татьяны Набатниковой)
Вена – фронтовой город. Стуча тяжелыми деревянными подошвами, с фаустпатроном через плечо, пятнадцатилетний Петер Эрлах перебегает улицу и ныряет в причудливые развалины углового дома, где заняли позицию унтер-офицер и еще четверо юнцов из гитлерюгенда. Поверх обломков разбитой кирпичной кладки и сквозь зияющие оконные проемы нижнего этажа мальчишки видят первых в своей жизни большевиков, разведгруппу, свернувшую в переулок с южного направления. Впереди усатый офицер с автоматом наперевес, за ним солдат, он толкает перед собой детскую коляску на высоких колесах. Остальные пехотинцы с ружьями на изготовку держатся чуть поодаль. В основном коренастые, с серыми, изможденными от боев и недосыпа лицами, в грязных солдатских шинелях. Пузырятся плохо заправленные в кирзовые сапоги брюки, шинели, несмотря на ветер, нараспашку – в точности как описывалось в одной из книжонок для гитлерюгенда: в надежде, что пулю поймает шинель. Каски ни одной, сплошь обтерханные ушанки с оттопыренными ушами, как крыльями у чучел птиц. У двоих в шапке торчат тюльпаны, видимо, сорванные в уже захваченном ими дворцовом парке. У кого-то в уголках губ прилипла махорка. Ну и видок, подумал Петер, не хватает только лошаденки в навозе.
– Приготовились, – командует шепотом унтер-офицер, он у них за старшего.
Один из мальцов, доброволец, лет четырнадцати максимум, хоть и врет, что ему уже пятнадцать, ползет по-пластунски, огибая обломки стены, к бывшему краю тротуара. Целится из своего трофейного французского карабина в медленно приближающихся солдат. Раздается резкий выстрел, красноармеец, который толкал перед собой коляску, тут же с криком падает. Коляска опрокидывается, оттуда на подстреленного сыплются буханки хлеба и боеприпасы. Остальные большевики, не отвечая на огонь, бросаются в открытые ворота дома, прячась от автоматной очереди, которая застрочила сразу после выстрела. Это один из гитлеровских юнцов завертел для устрашения ручку украденной из августинской церкви пасхальной трещотки, зубья которой обиты железом. Тра-та-та-та-та. Хватает на четыре-пять секунд. Дольше этот обманный трюк не действует.
Подстреленный большевик, лежа посреди улицы, продолжает издавать крики, а стрелок отползает назад, к остальным ребятам. Углом приклада своего карабина он делает засечку в штукатурке стены, на которой уцелела информация для прежних жильцов. Потерев плечо после отдачи оружия, он говорит:
– В яблочко.
Довольно шмыгнув носом сквозь корочки засохших соплей, он снова принимается заряжать свое оружие. Крики раненого перешли уже в едва слышные стоны.
– Я тебе что, приказывал стрелять? – кричит на него унтер-офицер.
Но по его виду заметно, что не так уж он и недоволен тем, что наконец они ввязались в бой. У него уже не раз проскальзывало, что он намерен заработать ЖК-1[32]32
Железный крест 1-го класса.
[Закрыть], по его мнению, вполне разрешимая задача, поскольку фольксштурм – народное ополчение, а не регулярная боевая часть в строгом смысле; он надеется, что и небольшие успехи будут оценены по достоинству.
Чтобы оставаться на острие клинка, как выразился старший, он с Петером и еще одним мальцом прыгают через пролом в подвал разбомбленного дома. Остальные подают им туда три фаустпатрона и две магнитные мины. Через сообщающиеся между собой подвалы соседних домов маленький отряд подбирается ближе к тому месту, где укрылись большевики. Люди в подвалах не обращают внимания на солдат гитлерюгенда, волокущих за собой оружие. К раздающимся наверху автоматным (или трещоточным) очередям – тра-та-та-та – жители дома, сидящие на скамейках и чемоданах, тоже в большинстве своем равнодушны. Никто не проронил ни слова, ни привета. Они сидят безучастно, сгорбившись, неповоротливые от множества накрученной на себя одежды. Петеру приходит вдруг на ум, что вот уже два дня, как их поставили под ружье, а что-то не видно ни девушек, ни женщин, бросающих им под ноги цветы, и это, если честно, вызывает у него разочарование.
Когда они выбираются наверх из третьего подвала, автоматного огня уже не слышно. Вслед за старшим Петер крадется по стенке через парадный ход в сторону улицы, стараясь ступать осторожнее и не греметь своими стоптанными «гойзерами»[33]33
Тяжелые горные ботинки, названные по месту их изготовления – альпийскому городку Гойзерн под Зальцбургом.
[Закрыть]. Но большевики, похоже, отступили. Подстреленного красноармейца и коляски на дороге, помеченной лужей крови, уже нет, и кирпичики хлеба большевики тоже забрали с собой, о чем Петер сожалеет больше всего, поскольку паек, полученный накануне, был совсем скудный, а он дал маху и неосмотрительно съел все в первый же день. А ведь его предупреждали, что он должен растянуть полученное как минимум на два дня.
(Ему бы следовало помнить список из десяти заповедей, которым его снабдили перед отправлением в лагерь гитлерюгенда его образцовые сестры: не съедать в первые же часы весь свой походный паек и всегда вставать рано, чтоб не стоять вечно в очереди в клозет; одеваться тепло, прочищать нос и чтоб ничего не натворить, а то мама больна, а у папы и без того нервы никуда.)
Петер прижимается к воротам дома, открытым внутрь, выглядывает за угол и видит, как пятится советский офицер, прикрывая своих пехотинцев. Солдаты заворачивают с коляской и лежащим в ней поперек телом раненого в боковой переулок, туда же скрывается вслед за ними и офицер. Со стороны руин вдогонку офицеру раздается выстрел, но русского уже не видно. Из-за гулкого эха улица кажется еще пустыннее.
Гитлерюгендцы устроили в парадном второй наблюдательный пункт. Непрерывно зондируя местность, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся до них, они выжидают минут десять, но ничего существенного не происходит. Они боятся, но вместе с тем сами на взводе, что частично объясняется сознанием смертельной опасности, а частично убеждением, что страха по ним незаметно, а если и заметно, то все равно они не струсят. Если им и приходилось слышать споры среди товарищей, то уж никак не о трусости, на этом все сходились во мнении: трусость – последнее дело. Своенравные, они кичливо обсуждали, что бы еще усовершенствовать в их униформе, где что на них плохо сидит и какие есть хитрые приемы глажения синих брюк, чтобы стрелка держалась как на матросских клешах. Они говорят про мальца, который стрелял, он появился среди них накануне в таком безупречно пригнанном обмундировании, как будто был откомандирован поздравить с днем рождения фюрера. Они завистливо обсуждают его портупею из настоящей, свежесмазанной кожи, а не из папье-маше, как у них. И, как и накануне, когда они ночевали в кинотеатре «Беллария», речь опять заходит о возрасте этого пацана. Старший хвалит его за дух самопожертвования и волю к победе, называет его образцом, dulce et decorum est pro patria mori[34]34
Сладко и почетно умереть за родину (лат.).
[Закрыть], это он нам показал. Но ему приходится прервать свою едва начавшуюся речь, поскольку со стороны города по улице мимо развалин приближается гражданский.
Пожилой мужчина идет в кальсонах, а свои черные линялые тиковые брюки тащит на себе, только внизу они завязаны узлом и заполнены, судя по всему, мукой. Это раздутое, готовое лопнуть, словно утопленник, тулово мужчина волочет на себе, кряхтя и чертыхаясь, но с усердием удачливого добытчика, направляясь по тротуару к засевшим в подъезде мальчишкам.
– А ну-ка по домам, – рычит на них старик, качая головой, обнаружив в открытых воротах вооруженных сопляков. Он замирает на мгновение в согбенной позе, как бы силясь понять, что все это значит и к чему может привести то, что он стоит посреди улицы в драных кальсонах и сползших носках.
– Черт знает что, – говорит он.
Он вытягивает свои обсыпанные мукой руки вперед, расставив локти на манер штангиста, чтобы ловчее обхватить эту пузатую карикатуру на самого себя. Еще раз тихонько ругнувшись, он тащит свою ношу дальше.
– Там внизу русские! – кричит ему вдогонку Петер.
– Пускай они его пристрелят, – шипит унтер-офицер, – видишь, что это за тип.
Он плюет ему вслед, а мужчина удаляется вниз по улице на своих бледных, с синими вздувшимися венами на тонких, как у кузнечика, ногах, имеющих жалкий вид по сравнению с набитыми мукой штанами, объем которых свидетельствует о прошлом и грядущем – о лучших временах, которые бывали и, может быть, еще вернутся.
– Прострелить бы ему эти штаны, – предлагает Петер во искупление вины, что хотел предостеречь мародера от русских. – Давайте прострелим ему штаны, – повторяет он и смеется, представляя, как из них сыплется мука, будто зерно в «Максе и Морице»[35]35
«Макс и Мориц» (1865), в рус. пер. 1890 г. «Веселые рассказы про шутки и проказы» – популярная книга для детей немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832–1908).
[Закрыть].
Другой малец тоже прыскает.
– Вот жлоб, – говорит он, но не двигается с места.
Старшему предложение Петера не кажется таким уж смешным, и он сшибает у Петера берет с головы:
– Береги патроны, раззява, еще пригодятся.
Сохраняя невозмутимость (а может, апатичную покорность), Петер подбирает с пола берет. Он не любит своего старшего, который с самого начала не стремился завоевать особую любовь своих солдат. В начале февраля в лагере военной подготовки в Юденбурге он настоял на понижении Петера в звании, застукав его, когда тот ночью мочился в раковину. Подумаешь, обычное дело. А он: разжаловать! На плацу перед строем учинил разнос, а потом сорвал с него лычки шарфюрера. Это было ужасно. Такой позор.
Петер нервно зевает. В животе у него урчит. В памяти тут же возникает шутливая присказка про еду, которую они выучили в летнем лагере. Звучала она так: «Пусть живет, пусть живет, кто еду тебе дает. По башке получит тот, кто еду у нас крадет. Тому не жить, тому не жить, кто нас решил еды лишить».
Три недели перед каждой едой все выкрикивали одно и то же.
– Мародеров надо бить, – говорит он.
Но его уже никто не слушает.
С юго-запада враг целый день бьет над головами гитлерюгендцев из всех батарей вдоль радиальных улиц по 1-му району[36]36
Самый центр Вены.
[Закрыть], поразительно быстро выпуская заряд за зарядом. Судя по взрывам, больше всего достается домам вокруг Штифтгассе. Петер удивляется, как быстро привыкаешь к канонаде – все равно как к поездам, которые проезжают позади их дома. Петер вспоминает, что его мать стала любить проходящие поезда по мере того, как прогрессировала ее болезнь, она говорила, что ночами, когда она лежит без сна, шум поездов напоминает ей о давних поездках в гости и на экскурсии. Потом, когда у него появится время (очень не скоро), надо будет все это хорошенько обдумать. А сейчас не до того. И когда он вспоминает, с каким облегчением воспринял возможность уйти по призыву из этой тягостной домашней обстановки, ему становится совестно. Но и это ощущение тут же перекрывается требованием момента. К упорному грому артиллерийского обстрела примешивается и быстро нарастает лязг и визг плохо смазанных гусениц танка. Снизу на улицу въезжает танк Т-34 с намалеванной впереди красной звездой. Башенная пушка поворачивается вправо, наклоняется и выпускает по руинам проносящийся с пронзительным свистом снаряд. Он гулко детонирует. Страшный грохот в правом углу квартала. Взметнулись тучи пыли, летят камни – остатки руин, звенят стекла в уцелевших пока домах. Невидимо, но где-то совсем рядом, в одном из боковых переулков из радиомашины раздается скрежещущий металлом голос с венским акцентом, призывающий сложить оружие.
– Мы пришли сюда как освободители, – заявляет голос.
У унтер-офицера набухли жилы на шее, он хмыкает:
– Курам насмех.
В то время как голос из радиомашины пытается придать своему утверждению достоверность ссылкой на Московскую декларацию, старший пристраивает фаустпатрон на плечо Петера и, подталкивая его ближе к воротам, добавляет к лозунгам, доносящимся из переулка:
– И все немецкие мужчины будут кастрированы.
Эта перспектива кажется Петеру убедительной даже при поверхностном рассмотрении, как-никак, ведь именно русским отводится в новом мировом порядке роль чистильщиков сортиров. И рассчитывать на снисходительность с их стороны не приходится.
Из танковой пушки следует второй выстрел, опять по руинам. Петер даже не может понять, то ли он ощутил пушечный грохот ушами, то ли ногами, так его сотрясло. Он встает за углом на колени и, склоняя голову влево, расправляет правое плечо, на котором лежит железная труба фаустпатрона. Унтер-офицер снимает его с предохранителя и откидывает прицельную планку, как это было показано на схеме в газете несколько дней назад в целях молниеносного обучения ополченцев.
– Вот сейчас мы им устроим, – говорит старший. – Самое позднее на Рингштрассе они вляпаются в ловушку, и все покончат жизнь самоубийством.
Он берет танк на прицел, ждет, когда тот подойдет на расстояние в сорок метров, и поджигает запал. Граната, выброшенная из трубы трехметровой струей огня, несется к цели. Когда Петер открывает после взрыва глаза, он видит, что правая гусеница танка разорвана. Люк танка открылся изнутри, и большевик, даже среди сплошного огня все равно в меховой шапке, выпрыгивает оттуда, отстреливаясь из автомата. Но он не успевает направить дуло на ворота дома, пуля, пущенная со стороны развалин, попадает ему в голову. Без единого звука он падает на землю (а может, просто звука не слышно).
Теперь Т-34 разворачивается поперек улицы, ворочаясь с трудом, как издыхающая со стоном стальная жаба, и ползет по булыжникам мостовой к воротам дома на противоположной стороне. Ворота помечены буквами РБУ – расположение бомбоубежища (русский быстрее учи, острили они во время ночевки в кинотеатре «Беллария», к великому неудовольствию старшего). Стальное рыло утыкается в ворота, уцелевшая гусеница сносит столб ворот и, поскольку въезд узковат для танка, он врезается по диагонали на два метра в глубь дома. И тут мотор глохнет. Пускач дергается с ревом три или четыре раза, изрыгая на середину улицы клубы черного дизельного дыма, который рассеивается очень медленно. Из заднего топливного бака вытекает горючее. Унтер-офицер бросает ручную гранату, со страшным треском раздается взрыв, поднимается столб пыли, потом загорается задняя часть танка. Черный дым, вырывающийся из языков пламени, перекрывает ворота плотной завесой. За этой завесой слышны отрывистые голоса, это остальной экипаж прячется в укрытие. Проходит две или три минуты, потом внутри танка загораются боеприпасы, чудовище вздрагивает, покачиваясь от взрывов, и, наконец, последний мощный взрыв разрывает его пополам. Петер чувствует взрывную волну и содрогание земли. Трещины в стенах каменных домов стремительными огненными змеями извиваются по фасаду, будто прочерченные неистовым карандашом – снизу вверх и сверху вниз. Лопаются стекла, осколки сыплются на улицу. Большой кусок картона, которым был забит оконный проем, раскачивается в дыре, три или четыре раза меняя направление. Все выглядит ошеломляюще. Петера больше всего удивляет, что дом выдержал это сотрясение и устоял.
– Было на что посмотреть, – говорит он.
– Заткнись, – осаживает его унтер-офицер.
Но Петер и второй пацан не могут удержаться от смеха. На короткое время усмехается и старший. Но его тут же сотрясает нервная дрожь, и он спохватывается.
Пока Т-34 горит, Петер сожалеет, что его отец не видит этого, ему бы понравилось. В последнее время отец совсем его не хвалил, а только выражал свое недовольство, и это ранило Петера больше всего. С тех пор как матери становилось все хуже и хуже (или с тех пор, как прекратились известия о победах, трудно судить), его отношения с отцом резко ухудшились. Иногда Петеру кажется, что они с отцом в их обоюдной неспособности справиться с раком матери превратились во врагов, тогда как лучше бы им было сплотиться и действовать воедино как мужчинам, по примеру сестер, которые объединились с матерью по женской линии. Отец во всем искал крайнего, и им чаще всего оказывался Петер, и отец его бил, тогда как сестры отделывались сердитым окриком. А тут еще одна воздушная тревога за другой, ни газа, ни света, младшая сестренка то и дело ревет и писается по ночам, постоянная забота, где взять дрова, найти калорийную пищу, обезболивающие медикаменты, потому что весь морфий идет на фронт. Если сейчас еще и войну проиграют, отец этого не выдержит. Петер и думать боится, чем все это кончится.








