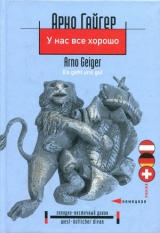
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Среда, 20 июня 2001 года
Утром Штайнвальд и Атаманов приварили свадебный подарок Штайнвальда – обручальные кольца – в моторном отсеке «мерседеса», пряча их там от таможенных и налоговых служб, которых они опасаются. Сейчас они стоят рядом с Филиппом в раскованных позах и наблюдают за рабочими, с помощью автокрана разбирающими большие участки крыши и складывающими черепицу у кромки. Когда кран некоторое время не используется, Атаманов вычищает водосточный желоб. В это время Штайнвальд приносит из подвала топор. Он собирается срубить растущее слишком близко к дому абрикосовое дерево, чтобы кран смог заехать и за дом. Филипп не вмешивается, он понимает, что дерево мешает. Однако когда он удаляется к своему крыльцу, он думает: как жаль, что вместе с деревом исчезнет и щетка, висящая на нем. Кто-то привязал ее щетиной вверх к ветке, которой требовалась подпорка. Но дерево было тогда молодым и выросло с тех пор еще почти на полметра.
Топор методично входит в ствол. Повернув голову на стук, Филипп слушает удары и (и) при этом представляет себе, как от них начинает сотрясаться земля под домом, как в комнате Атаманова падает на пол лицом вниз фотография его невесты, как с трудом удерживается сложенная на обрешетке черепица. Штабеля ее рассыпаются, черепица скользит по крыше, съезжает через край и со страшной силой обрушивается на Филиппа.
Его отец часто рассказывал одну и ту же историю – о том, как в пятидесятые годы самое сильное из когда-либо зарегистрированных землетрясений в Австрии застало его в Естественно-историческом музее, как нарочно, в окружении чучел животных. Животные вдруг задвигались и целыми рядами попадали со своих шестов, камней и подставок. Стекла витрин полопались, а он, отец Филиппа, только с трудом удержался на ногах, разинув рот и выпучив глаза, потому что совершенно не мог понять, что происходит. Этот рассказ глубоко впечатлил маленького Филиппа, он не переставал удивляться, представляя себе падающих животных: снежную козу, яванского носорога, сицилийского карликового слона. Однако со временем Филипп убедился, что отец обманул его. Вероятно, кто-то рассказывал ему о том землетрясении и его последствиях для Естественно-исторического музея или отец прочел об этом в газетах и допридумывал пару деталей. Как бы то ни было, Филипп тоже может прекрасно выдавать эту историю за свою собственную.
Он слышит, как падает абрикосовое дерево. Вскоре после этого он направляется за дом, чтобы посмотреть, как продвигается там работа. Атаманов стоит возле крана и, заложив руки за спину и запрокинув голову, наблюдает за кровельщиками, которые заменяют подгнившую обрешетку крыши. Раздетый до пояса Штайнвальд, сдвинув на затылок шляпу, вырезает заросли кустарника промеж оставшихся деревьев. Вообще-то Филипп собирался рассказать Штайнвальду историю о чучелах и землетрясении в Естественно-историческом музее, но вместо этого напускается на него, крича, чтобы тот оставил наконец в покое сад. Штайнвальд сдерживается, прекращает работу, не двигается с места и только слегка краснеет. Филипп с трудом пытается совладать с собой. Я с этим покончу, думает он, они же меня просто ставят в дурацкое положение (они просто ставят меня в дурацкое положение!).
– Я больше не позволю так себя унижать. Вы меня постоянно водите за нос.
Штайнвальд морщит лоб, озадаченный тоном Филиппа. Он собирается что-то возразить. Но не успевает вымолвить и слова, Филипп поворачивается к нему спиной и размеренным шагом, с высоко поднятой головой возвращается обратно к крыльцу.
Там он ужасно злится на свое поведение. Напустившись на Штайнвальда, он сразу же понял, что сад вряд ли истинная причина для такой сцены. На самом деле он (Филипп) в ярости, потому что Штайнвальд и Атаманов не хотят либо приглашать его на свадьбу, либо брать с собой на Украину; да только какая разница. Некоторое время Филипп раздумывает, как исправить случившееся. Но он ничего не может придумать, по крайней мере чего-то такого, что не вызвало бы нового припадка ярости. Несколько раз он встает со ступенек, заглядывает за угол дома, но не может заставить себя подойти к Штайнвальду и извиниться. Он мрачно удаляется в сад. Встав рядом с одним из стульев, он прислоняется спиной к стене и наблюдает за кровельщиками, передвигающимися по скату крыши в тяжелых башмаках и с килограммами инструментов на поясе. Двое рабочих мочатся на свежеуложенную черепицу. Это якобы ритуал такой, кроме того – экономия времени. Ребят трудно в чем-либо упрекнуть. Работа спорится. Пока кровельщики опорожняют свои мочевые пузыри, Филипп осознает, что скоро останется один: кровельщики уйдут, Штайнвальд и Атаманов уедут на Украину. Через два дня. Йоханна в припадке не зная чего купила себе новый велосипед, а ее старый, им починенный, стоит в его гараже. Уже несколько дней Йоханна не показывается. Не слышно и детских голосов из соседского сада, которые Филипп слышал еще час назад.
Когда он услышал детские голоса, ему показалось, будто он сам играл еще вчера. Но сейчас, без голосов за спиной, он не может объяснить, как возникло это впечатление. Сейчас ему кажется, что он – всего лишь большой хвастун, который все выдумывает: погоду, любовь, голубей на крыше, бабушку с дедушкой, родителей и свое детство – его он тоже (всего лишь) выдумал.
Он продирается к западной части стены, там он пытается выдрать из земли елочку, едва достающую ему до бедра, но ему это, однако, не удается, он только оцарапывает себе ладони. Не желая просить у Штайнвальда топор, он приносит из подвала тупую ножовку, которая постоянно застревает в стволе, так что Филипп несколько раз чуть не получает вывих запястья. Он пилит как сумасшедший и почти доводит мышцы до спазма, но тут деревце наконец ломается. Остается только перепилить кору. После чего Филипп отправляется с елкой под мышкой к Штайнвальду, протягивает ему дерево и просит позаботиться о том, чтобы кровельщики укрепили елочку на коньке крыши.
– Вечером я хочу устроить небольшую вечеринку, этот день стоит того, чтобы его отпраздновать. Дом ведь почти как новый.
Prepared for the future[89]89
Готовый к будущей жизни (англ.).
[Закрыть].
Штайнвальд с минуту пристально смотрит на Филиппа, будто у того горячка, затем требует:
– Сначала возьмите свои слова назад.
Вот собака, проносится у Филиппа в голове, это шантаж. Он набирает в грудь воздуха. Негодяй.
– Я беру свои слова назад.
Штайнвальд кивает. Берет елку, прислоняет к стене дома, ощупывает свою рубаху, висящую на ветках сирени, и протягивает Филиппу сигарету. Они долго молча курят. Затем Филипп идет в дом, заказывает по телефону еду и выпивку на пятнадцать человек, фейерверк и несколько факелов. После всего этого он полностью посвящает себя задаче пригласить как можно больше гостей.
Йоханна говорит, что у нее на вечер уже запланирована встреча, а кроме того, этой ночью обещают дождь.
Филипп спрашивает, это что, метафора или она вновь предпочитает лучше говорить о погоде.
– Циклон господствует на всех фронтах.
Она ворчливо отделывается от его реплики и заявляет, что на ее приход рассчитывать нечего, совершенно определенно, помимо запланированной встречи она терпеть не может мясо-гриль, это слишком напоминает ей о ее первом месте подработки в каникулы – на Венской ярмарке. Кроме того, есть еще ребенок и Франц (и его брюки, яйца, башмаки, ноги, ключ от мастерской, дом, картины, письменный стол, черный верблюд и город).
Потом еще:
– Мне завтра рано вставать.
Ах вот оно что.
– Я уже все понял.
Ничегошеньки он не понял. Больше всего он не любит, когда чувствует, что его бросают, оставляют на произвол судьбы (это ему никогда не нравилось), а также когда Йоханна дает ему понять, что он пристал к ней как банный лист, действуя ей на нервы. Сваливается ей на голову и сваливается. Как муха в суп, как незваный гость, который хуже пьяницы.
Незадолго до Рождества он потребовал от Йоханны объяснений. И получил:
– Мне кажется, ты частенько путаешь две вещи: когда не приемлешь ты сам и когда не приемлют тебя.
– Вот как?
– Тонко подмечено, а? Наверняка ты еще не думал об этом в таком ракурсе.
На этот раз лучше уж промолчать, чем отреагировать на такую удручающую оценку. Лучше уж. Лучше он заявит ей: Йоханна, пока не забыл, сообщаю, что решил поехать на Украину с Атамановым и Штайнвальдом.
– Через два дня отправляемся.
Йоханна кажется озадаченной.
– Ах вот как, – произносит она. И потом добавляет: – Черт побери, таким я тебя совсем не знаю, таким решительным.
Пауза. Очень напряженная. Филипп говорит:
– У кого нет друзей, тот сам себе враг.
Пауза, вновь напряженная (сдержанная, удивленная, отчаявшаяся, обдумывающая).
– Ты уже купил свадебный подарок, и если да, то какой?
Молчание. Можно вместе считать секунды. Филиппу вдруг приходит в голову, что в новых телефонах не слышно шума в проводах.
Йоханна смеется (развеселившись?):
– Так я и знала! Посылаю тебе рабочих, которые подставляют свою спину и берут на себя твои трудности на семейном фронте, а ты растрачиваешь освободившуюся энергию на то, что бегаешь хвостиком за этими унылыми типами. Что тут можно сказать? Удачи тебе. Надеюсь, что от этих двоих ты заразишься тягой к разгребанию дерьма.
После того как Филипп не реагирует и на этот жестокий анализ (его сумасбродства – его трагичности – его социальной неустроенности?), потому что прощание, через которое предстоит пройти, напрягает его уже заранее, Йоханна завершает разговор призывом при случае повзрослеть, чтобы потом не удивляться, что с ним стало.
Так, без этого тоже никак нельзя было обойтись.
– Чао.
– Ба-ба.
Возможно, думает Филипп, это превосходный признак взросления, когда систематически теряешь надежду на то, что все еще может в любой момент повернуться к лучшему. Он находится на самом верном пути. Тут даже начинает вдруг угасать и надежда на то, что на вечеринку в честь новой крыши соберутся гости. Он говорит себе, что Йоханна должна была бы громко хлопать в ладоши, если бы видела, как безрадостно плетется он к стене сада.
Во время последнего визита Йоханны, с неделю назад, когда ранним утром красный «мерседес» выехал за ворота, они вместе принимали ванну. Йоханна – на женской половине, как она называет более удобную, покатую, часть ванны, а Филипп поясницей на ребристой вращающейся ручке для регулирования слива воды. Они говорили о работе Йоханны на телевидении и о бабушке Филиппа, которая в преклонных летах решила освежить свои знания английского языка. За это время Филипп дважды вымыл волосы Йоханны шампунем с липовым цветом, про который она говорила, что он хорошо пахнет. Она хотела, чтобы и Филипп подтвердил, что пахнет хорошо. Она сидела перед ним, между его ног. Он смывал пену с ее волос и поднимал их, чтобы струя душа достала и до затылка. Вода стекала в сливное отверстие с клокотанием, потому что Йоханна, быстро сдвигая и раздвигая ноги, делала волны. Филипп сказал, что это бурление звучит так, словно под ванной живут привидения. Йоханна смеялась. Филипп тоже смеялся. Когда он вылез из ванны, чтобы освободить место, клокотание стихло, хотя Йоханна продолжала сдвигать и раздвигать ноги. От шампуня, стекавшего в воду в течение последнего получаса, Филипп стал совсем липким, и поскольку полотенца вчера были отправлены в грязное белье, он проскользил по полу на резиновом коврике в комнату бабушки, где лежали чистые полотенца. Когда он вернулся оттуда, Йоханна стояла, выпрямившись во весь рост, в ванне, невероятно большая и широкая и такая далекая, сияя от счастья, которого он никак не мог понять. Обеими руками она выкручивала волосы.
Филипп стоит у стены сада на последнем из стульев и прислушивается, затаив дыхание.
Однако отсутствие соседей грозит ему скандалом.
Он идет к фрау Пувайн и преподносит ей вишни. Господин Прикопа также сердечно приглашен. Он трижды звонит на почту, пытаясь разыскать почтальоншу. Но ему упорно отказывают и не называют фамилию сотрудницы.
Тогда он звонит своему коллеге. Там не берут трубку.
Он набирает номер отца. Тот дома.
– Эрлах.
– Привет, пап, это я, Филипп.
– Какой сюрприз. Удивил так удивил.
– Как у тебя дела?
– Не жалуюсь. А у тебя?
– Тут сейчас кровельщики. Чинят крышу.
– Значит, ты весь в делах?
– Можно и так сказать. А ты?
– Только что сложил в папку лицензии, которые они вернули мне сегодня по почте. Под конец года игру снимут с производства.
– Знаешь ли ты Австрию?
– Да. И это после сорока одного года. Плюс те годы, когда я сам был полновластным хозяином игры.
– И это когда я даже ночью думал, знаю ли я Австрию.
– Да, жаль.
– Пап, сегодня вечером я устраиваю небольшую вечеринку с грилем. Не хочешь прийти? Тогда и поговорим об этом.
– А я там кого-нибудь знаю? Кроме тебя?
– Фрау Пувайн?
– Понятия не имею, кто это.
– Господина Прикопу?
– Того, с телевидения? Смех – дело серьезное?
– А разве он не умер?
– Другого Прикопу я не знаю.
Молчание в трубке.
– Думаю, мне лучше остаться дома. И все же спасибо тебе, что вспомнил про меня. Ты на меня не обидишься?
– На что ж тут обижаться?
– Ну вот и прекрасно.
– Тебе грустно, что игру больше не будут выпускать?
– Немного. Но не так, чтобы очень.
Молчание в трубке.
– А ты помнишь, как в самом первом выпуске игры гласило последнее правило: проигравший не должен смеяться. В то время мне, двадцатилетнему, это казалось очень оригинальным. Как будто в Австрии кто смеется, когда проигрывает. Да мы почти всегда были в проигрыше. А сегодня, когда я включаю телевизор и вижу эти развлекательные шоу с молодыми людьми, добровольно позволившими запереть себя в четырех стенах, получается все как раз наоборот. Кто проигрывает и вылетает из игры, тот выходит перед камерой и говорит: огромное спасибо, было очень здорово, я горжусь тем, что сумел остаться самим собой. Это мне непонятно. Когда проигрывал я, то после этого я всегда становился другим. Я не любил проигрывать. Проигрыши никогда не шли мне на пользу.
Молчание в трубке.
– Только идиоты никогда не проигрывают, – говорит Филипп.
– Игру можно было бы еще раз модернизировать. С другой стороны, что уж теперь говорить, что прошло, то прошло. Я тебе никогда не рассказывал, что ДКТ[90]90
Das Kaufmannische Talant (коммерческий талант) – появившаяся в тридцатые годы и популярная до сих пор австрийская настольная игра, по своей сути очень напоминающая известную на весь мир «Монополию».
[Закрыть] до войны называлась «Спекуляция» и что нацисты хотели ее запретить, потому что они были против денег? Тогда игру в мгновение ока переименовали в Коммерческий талант, что придало ей аспект образовательной игры, и она пользуется успехом до сих пор. Немцы без всякого стеснения называют ее «Монополией».
– Знаешь ли ты Австрию? Это ведь тоже звучит как познавательная игра.
– Она таковой и является. Ну, да ладно, я уже сказал: проехали и забыли. Не переживай за меня. Может, и вправду не обязательно знать, как быстрее всего добраться от Куфштайна до Брука-на-Лейте. Если честно, то и мне это уже совсем безразлично: я предпочитаю оставаться дома. О’кей? Пойду снова прилягу. Как мило, что ты позвонил, Филипп.
– Ты тоже звони.
– И не сердись на меня, что я не приду. Да и дождиком в воздухе пахнет.
– Йоханна тоже так говорит.
– Йоханна, та, что была раньше?
– Да, она.
– Видишься с ней изредка?
– Вот именно, что изредка.
– Я не хотел быть назойливым.
– Ничего страшного.
– Ну, будь здоров.
– Ты тоже.
Филипп кладет трубку. Он подходит к двери, куда только что доставили заказанную еду, и бросает одно рыбное филе рядом со ступеньками крыльца. Филе предназначено кошке, которая в последние два дня тоже не удостаивает Филиппа посещением (потому что на чердаке она наелась крысиной отравы и окончила свой жизненный путь в шкафу на верхнем этаже – но Филипп этого еще не знает). Он втыкает факелы в землю, протягивает удлинитель в сад и запускает свадебную музыку. Он даже вытаскивает в сад кухонный стол и застилает его белой скатертью, чтобы все смотрелось прилично. Затем он снова влезает на стулья у стены в надежде пополнить короткий список гостей, готовых принять его приглашение.
Пожилой господин, пару недель назад угрожавший ему проволочной щеткой, собирает малину. Филипп привлекает его внимание, пожелав ему доброго вечера. Мужчина поворачивается к Филиппу, меряет его внимательным взглядом. В первую минуту Филипп сомневается, что тот его узнает. Все-таки при их первой и последней до сих пор встрече на Филиппе был респиратор и защитные очки. После нескончаемо долгой секунды, во время которой Филиппу кажется, что он чувствует запах гриля, а также слабую надежду, которая и сбивает его с толку, – у него нет ни малейшего повода надеяться на то, что сосед также ответит приветствием, тот отвечает, правда, не очень дружелюбным тоном, но и не очень недружелюбным, однако с таким демонстративным выражением терпения, которое дает Филиппу понять, что все всё о нем знают. Лучше бы ему и сейчас иметь на лице респиратор и защитные очки, да еще в придачу завязанный на затылке платок, закрывающий рот и нос. Он смотрит на соседа, обиженный, оскорбленный, испытывая неловкость, и в то же время, хотя внешне он остается спокойным, умоляет о сочувствии, упав мысленно на колени перед соседом-противником, мысли которого так ясно вырисовываются перед глазами Филиппа: вот это, значит, и есть новое поколение, этот маленький шпион и уклонист, он выучился карабкаться по родословному древу семьи, пригнутой ветром к земле, и сейчас использует приобретенные таким образом навыки для того, чтобы взбираться на стулья, расставленные вдоль садовой стены. Филипп начинает говорить. Мужчина вновь принимается за свое размеренное занятие, хотя и прислушивается, что выражается в нечастом поглядывании на собеседника, к тому, что излагает Филипп: он приглашает мужчину на вечеринку, вместе с семьей, вместе с дочерью.
– Она ведь ваша дочь? – спрашивает Филипп, чувствуя, как пылают его уши.
– Да, – отвечает деревянным голосом сосед и окидывает Филиппа нелюбопытствующим взглядом, ожидая, не сообщит ли тот чего еще.
Поскольку Филиппу в голову не приходит ничего лучшего, он добавляет:
– Я с ней познакомился. Она ожидает близнецов.
Мужчина кивает, но так, будто он на самом деле собирался осудительно покачать головой, но не сделал этого из вежливости. Теперь уже и Филиппу становится окончательно ясно, что разговор перешел все границы дозволенного.
– Я был бы очень рад, если бы вы пришли, – быстро произносит он и в этот момент действительно так думает. И еще – не хочет ли сосед вишен, у него навалом вишен. Нет, у нас есть свои, отвечает мужчина, указывая на дерево позади него, гнущееся под тяжестью плодов.
Сосед удаляется в направлении дома. А точнее: оставляет Филиппа без внимания.
Последний, в свою очередь, возвращается к площадке, туда, где Атаманов разгребает угли под решеткой гриля, а Штайнвальд стоит среди смеющихся кровельщиков и наблюдает за тем, как на коньке крыши устанавливается срубленная Филиппом елка. Филипп рад, что у рабочих такое хорошее настроение.
Один из них кричит:
– Дереву шляпа идет однозначно больше, чем тебе, для твоего черепа она слишком мала.
Только теперь Филипп догадывается, что шляпа Штайнвальда нахлобучена на макушку деревца и таким образом венчает крышу. Штайнвальд не протестует, даже робко посмеивается. Однако круги под его глазами чернее, чем когда-либо, углы рта опущены, плечи ссутулены. Очевидно, он не знает, как себя вести. Кажется, что он немного стесняется вмятины, оставшейся от шляпы на сальных волосах. Снова и снова он потирает голову. Один из рабочих замечает это и произносит, с точностью подтверждая поговорку о том, что стоит только раз споткнуться, как тут же и наподдадут вдогонку:
– Смотри только, чтоб фантомные боли тебя не замучили.
Штайнвальд осыпает кровельщика и стоящего рядом с ним подмастерье рядом ругательств, произнесенных сквозь зубы. Он сплевывает. В это же время рабочие убирают стрелу автокрана. Все еще хохоча, кровельщики подходят к столу, чтобы посмотреть, чем можно поживиться.
Они берут поджарившиеся колбаски, быстро открывают пивные бутылки с помощью своих зажигалок, слизывают капли с бутылочных горлышек, запрыгивают в кабину автокрана и уезжают еще до прибытия следующей партии гостей. Филипп ждет вместе с Атамановым и Штайнвальдом, не проронив почти ни слова (как обычно), или, лучше сказать, Атаманов и Штайнвальд перебрасываются время от времени парой слов. Филиппу, напротив, не до разговоров, потому что он боится, что произнесенные слова укажут ему на то, как скверно его положение дел. Постепенно небо затягивается облаками. Лишь Венский лес озаряется редкими закатными лучами, там, где за горизонтом свет пробивается сквозь облака. И тут в воротах появляются фрау Пувайн и господин Прикопа, они преподносят Филиппу бутылку вина, завернутую в подарочную бумагу – головки сухоцвета на голубом фоне. Филипп и представить себе не может ничего более безрадостного, чем бутылка вина в подарочной бумаге с золотой ленточкой на горлышке. Сейчас, вот сейчас он со всей остротой чувствует, как всё это убого, а если и не всё, то все же предостаточно, так что и остальное кажется не менее убогим. Он близок к тому, чтобы разбить бутылку о цоколь и с проклятиями покинуть собственную вечеринку: прочь отсюда, под одеяло, впиться зубами в подушку. Иногда это просто отлично помогает – вцепиться зубами в подушку. Однако, поскольку мужества у него не хватает даже на это, он ждет еще час, пока на небе не появляются первые звезды. Тогда он как следует раскуривает свою сигарету и, в надежде придать вечеру новый поворот, поджигает ею заказанные для фейерверка ракеты. Те со свистом взмывают в небо, разрываются там с громкими хлопками и забрасывают разноцветными искрами сад, дом, елку со шляпой Штайнвальда на макушке, соседей.
Настроение остается таким же.
Штайнвальд все еще не в духе, что он и демонстрирует с большим талантом в своей угловатой манере. Мрачно, покачивая головой с кислой миной, он швыряет куски мяса и половинки сладкого перца на решетку гриля и непрестанно выискивает места, куда он еще не сплевывал. Когда Филипп пытается поймать его взгляд, тот раздосадованно смотрит на него так, что Филипп понимает: стоит ему только сказать что-то не то, как он тут же схлопочет по морде. А когда Филипп пытается выведать у Штайвальда, откуда у того этот костюм – широченный, бежевый, с огромными нагрудными карманами, напоминающий Филиппу азиатских диктаторов, – Штайнвальд бормочет что-то невнятное, отказываясь повторить сказанное, из-за чего Филиппу приходится додумывать ответ самому (мать Филиппа часто говаривала: надо только сжать кулаки и молчать). Даже с фрау Пувайн, с которой Штайнвальд так хорошо общался в прошлый раз, он неразговорчив, причем настолько очевидно, что она вскоре оставляет свою затею выманить собеседника из бутылки, в которую он залез. Она поворачивается к Филиппу и рассказывает (хочет он того или нет, а он не хочет, потому что эти детали досаждают ему, показывают, как мало он знает, как мало он получил, как много ему было нужно, необходимо еще и сейчас и чего он никогда не получит): об Альме Штерк, его бабушке, которая никогда не упрекала своих внуков за то, что они не появляются у нее, и об Ингрид Штерк, его матери, когда она была еще ребенком, такая хорошенькая, и как жаль, что Ингрид умерла такой молодой, и что так и остался неразгаданным вопрос, почему Ингрид просто не выскользнула из браслета (ну да, ну так).
Филипп делает все возможное, чтобы обуздать рвение фрау Пувайн, с которым она жаждет поделиться своей информацией. Она чудовищно подробна в своих воспоминаниях. И пока в ее мозгу отыскиваются разнообразнейшие детали, лишь изредка побитые молью забвения, Филипп размышляет о том, почему он не хочет слышать эти типичные для своего жанра, в среднем скорее приемлемые эпизоды из детства и почему они ему кажутся произвольными, случайными, даже постыдными. Фрау Пувайн пространно повествует о том, как одиннадцатилетняя Ингрид поставила себе целью смастерить из каштанов и зубочисток всех животных и птиц Шёнбруннского зверинца, и далее о том, как она, Ингрид, была в то время по уши влюблена в ее, фрау Пувайн, сына Манфреда, Фредля.
– Она писала ему любовные письма. Фредль говорит, одно из писем у него еще сохранилось.
Этого Филипп уже не может вынести. Прежде чем фрау Пувайн углубится в дальнейшие подробности, Филипп использует возникшую в разговоре паузу, заполненную лишь сентиментальным смешком соседки, и переводит разговор на другую тему. А именно: он спрашивает о точности хода часов с маятником, которые он отдал фрау Пувайн.
Та, как кажется Филиппу, решает, что он хочет забрать часы назад. Она отвечает уклончиво: мол, то отстают на пару минут, то спешат, но это не имеет никакого значения, раньше или позже, больше или меньше, какая теперь разница. Она тут же вежливо прощается, кивая на грозящую испортиться погоду. И вправду – на небо наползают тяжелые тучи.
– Не беспокойтесь, – говорит Филипп. – Они пройдут стороной, дождя не будет.
Фрау Пувайн и господин Прикопа приводят тем не менее столько причин, что их хватило бы для извинений до конца недели. Они берут друг друга под руку и устремляются, шаркая, к воротам и, ни разу не обернувшись, исчезают за воротами и за стеной сада.
Филипп остается один с Атамановым и Штайнвальдом. Так они и стоят – один, второй, третий. И Филипп думает: кристально чистые личности так не выглядят. Стоит повнимательнее присмотреться, и увидишь, что это никакая не декларация независимости и не спасение трех жизней, это фиаско, три печальные фигуры, безосновательно надеющиеся на то, что надежда есть, болезненно осознающие, что ничто не осталось таким, как было, и ничто не останется таким, как есть.
– Возьмете меня с собой? Когда поедете послезавтра? – спрашивает Филипп, подспудно ощущая, что при всей гордыне и стыде, которые он испытывает, ситуация для этого вопроса сейчас вполне подходящая. Того гляди, начнется дождь, точно, как предсказала Йоханна. Звезды, по которым отыскивают свой путь корабли, стерты с неба. Поднимается ветер, бриз, он может изменить все. Вот уже сверкает молния. Раскаленные нити, ветвясь, извергаются из туч, у которых подбрюшье все сплошь в желтых складках. Через несколько секунд раскат грома падает словно груда камней в соседский сад и отдается в саду Филиппа вибрацией под ногами.
Штайнвальд смотрит на Атаманова, они обмениваются парой слов, Филипп их не понимает. Филипп безудержно падает в пустоту, а там ничего нет, что могло бы принести облегчение. Он чувствует себя одиноким, хотя и не может до конца признаться себе в этом, но таков он на самом деле. Луч автомобильной фары скользит по воротам. Филипп смотрит в его сторону. Вскоре не слышно уже и шума машины. Темнота вновь смыкается, плотнее, чем прежде. Штайнвальд и Атаманов продолжают держать совет. Филипп засовывает руки в карманы брюк, приготовившись к защите. Оба кивают друг другу. На одну секунду Филиппу кажется, что он забыл, по какому поводу Штайнвальд и Атаманов могут кивать друг другу. Они кивают и нерешительно выдавливают из себя:
– О, мы не знали, да-да, конечно, мы не подумали об этом.
– Это значит: да?
– Да.
Значит, он может поехать вместе с ними, взаправду. И хотя ему пришлось навязываться, чтобы добиться этой милости, он радуется или, по крайней мере, рад тому, что вместо помощников обрел спутников, тому, что в течение нескольких дней он будет с ними одно целое, этого он не ощущал уже давно. Он чувствует неуверенность в себе перед опасностями, которым собирается подвергнуть себя: другие погодные условия и что-то еще, что ему наверняка предстоит испытать, много больше того, что он может себе представить (а представить себе он может многое, уже хотя бы благодаря своей профессии). Тем не менее он готов сейчас же броситься в дом и начать собирать вещи: загранпаспорт, адаптер для розетки, глазные капли, хорошие средства от поноса и алкогольного отравления… Надо позвонить Йоханне, нет ли у нее каких советов.
Да, конечно, мой дорогой: не следует удерживать путешественника.
Спасибо.
Штайнвальд ударяет кулаком правой руки по левой ладони и заявляет, что должен достать свою шляпу с крыши, несмотря на начавшуюся грозу и мрак сгустившейся летней ночи. Несмотря на пыльный голубоватый отсвет, которым площадка перед воротами отвечает на разряды молний. Поднимается ветер. Всего через несколько часов, еще до рассвета, как утверждает Штайнвальд, его шляпа приземлится в Богемии (а если и не в Богемии, то у соседей, которые не явились на вечеринку). С помощью Атаманова Штайнвальд притаскивает самую длинную лестницу, она была за гаражом. Но лестница едва достает до края водосточного желоба. Штайнвальд скрипит зубами. Филипп видит, что тот не собирается так легко сдаваться. Поэтому он предлагает поставить нижний конец лестницы в багажник «мерседеса», того «мерседеса», в котором он уже скоро отправится в путь, уже послезавтра.
– Так можно удлинить лестницу на недостающие полметра, кроме того, в багажнике лестница будет более устойчива.
Штайнвальд, развернувшись, с удивлением смотрит на Филиппа, ага, это уже что-то, должно быть, этот парень вовсе не так глуп, как я думал. Он хвалит практичность Филиппа. Филипп радуется, его глаза блестят и широко распахнуты. Штайнвальд подгоняет машину, заправляет концы брючин в носки, вешает пиджак на открытую дверцу. Затем проворно карабкается по лестнице вверх. А Филипп за ним. Просто так. Из-за стольких разных причин, лишающих друг друга смысла, что в конце концов Филипп не знает зачем. Он продвигается по решетке от перекладины к перекладине, он хочет на самый верх, это, по крайней мере, ему ясно, на самый-самый верх, до щипца крыши и… и… – основательно освистать оттуда раскинувшийся под ним город.
А потом он сидит верхом на коньке только что отремонтированной крыши и просто радуется, ошеломленный той душевной смутой, в которой пребывает, сильно удивленный боязливым и в то же время стыдливым ощущением счастья, поглядывая влево и вправо, сбитый с толку темными, наползающими друг на друга крышами соседских домов, привлеченный огнями города и лицом Штайнвальда.
Штайнвальд сидит напротив него, шляпу он мельком осмотрел и вытряхнул. Сейчас она у него снова на голове, одной рукой он придерживает ее за поля, наклонив голову вперед, так что ветер придавливает шляпу, вместо того чтобы сорвать ее. Печаль Штайнвальда развеялась. Он меряет Филиппа взглядом, как и тот его. Филиппу кажется, что Штайнвальд доволен. Внизу играет свадебная музыка, разрываемая ветром в клочья, она порхает по саду и над садом, который теперь как на ладони перед Филиппом. У пьедестала ангела-хранителя, где мечутся на ветру огоньки факелов, Атаманов упражняется в танце, выполняя точные па и напевая при этом. До крыши его голос доносится редко и обрывочно, потому что звуки развеиваются по всем направлениям. Падают первые капли, быстро учащаясь. Ветер ненадолго стихает, но потом поднимается вновь, дуя еще сильнее, чем прежде. Футболка трепыхается на груди Филиппа. Но он крепко сидит в седле. Он прижимает ноги к крыше, вытягивает свои длинные руки ввысь и наблюдает за облаками, проносящимися над ним.








