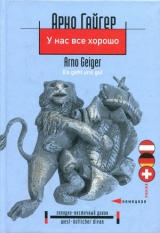
Текст книги "У нас все хорошо"
Автор книги: Арно Гайгер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Чего тебе пожелать на новый год? – спрашивает Петер.
– Благие пожелания? Это опиум для несчастных, – отвечает Ингрид. Она гладит собаку. Через некоторое время она произносит: – Знаешь, от пожеланий мне и в минувшем году толку не было, их еле хватило до Богоявления[72]72
6 января; в православной религии – Крещение (19 января).
[Закрыть].
Петер что-то смущенно бурчит, но и возразить ему нечего, или не может подобрать нужных слов. Но по нему видно, что его бы добрые пожелания утешили.
Он сидит рядом с ней, сгорбившись и подавшись вперед, катая в пальцах сигарету, выпятив губы. Некоторое время он смотрит на экран, даже смеется пару раз, будто раздваиваясь, но, выждав немного, выпрямляется и хочет поговорить о том, что будет дальше. Ингрид курит и разглядывает дым своей сигареты, оставаясь безучастной к сменяющим друг друга картинкам на экране. Она благожелательно отвечает, что все сказала ему еще позавчера и ей нечего к этому добавить.
Петер говорит, что ему трудно примириться с ее позицией. Она переводит это на себя и говорит, что ей так же трудно принять его позицию. Петер гасит свою сигарету и сидит, засунув руки в карманы, приподняв плечи. Ингрид протягивает ему единственную соломинку, пусть и словесную, которая еще имеет для нее какой-то смысл:
– Это настоящее достижение, что мы продержались весь нынешний год. Дальше, может, окажется легче.
Тем не менее: заветные желания на новый, 1971 год у нее есть. Желания. Они всегда есть, хотя пора уже отвыкать от них.
Пустые слова, ничего больше.
Сиди теперь смирно у своего разбитого корыта.
От недосыпа у нее ноют зубы и стоит пеленой смутная боль в голове. Мысли ее расплываются тем больше, чем дольше она сидит. Но одно ей ясно: она ни в коем случае не готова оставить свою работу. В этом она не уступит. Она любит свою профессию. Она выбрала ее сама. Ей нравится входить в больницу, раздеваться до белья и влезать в белые штаны и белый халат до колен. В этой профессиональной спецодежде она чувствует себя современной, самостоятельной и сильной женщиной. Ее записи в историях болезни. Отношения с пациентами и персоналом. Она нравится себе при этом, это наиболее полно отвечает ее представлениям о себе самой, это то, что ей нужно.
Между тем уже половина седьмого, и она слышит, что дети наверху опять бегают. Их легкий топоток, от которого дрожит абажур лампы, когда они гоняются друг за другом по комнатам.
Четверг, 31 мая 2001 года
Под утро Филиппу снится сон: будто он трудится в колхозе «Победа коммунизма» и встречает там невесту Атаманова, которая работает оператором машинного доения. Оператор машинного доения. Это выражение озадачивает Филиппа даже во сне, и ему кажется, что своей странной ходульностью оно как бы заранее ручается за все, что еще произойдет потом: женщину зовут Ася, а почему бы и нет, они на Украине, в Криворожской области. Там у Филиппа и начинаются отношения с Асей, в помещении, где рядами стоят пятидесятилитровые молочные фляги и сепаратор размером со стол. Детали соблазнения обычные, и, как и полагается в таких снах, женщине нравится то, что с ней делает Филипп. Она кричит от счастья, это производит на Филиппа особенно сильное впечатление, как и вообще вся она: ей лет двадцать пять, она темноволосая, у нее своеобразное широкое лицо, высокие скулы, нависшие веки и слегка оттопыренная верхняя губа. Она среднего роста, практически без грудей, но две верхние пуговки расстегнуты, что каким-то образом возмещает отсутствие бюста, как будто намекая на то, что ничего обещано и не было, и в этом вся прелесть. На самом деле у Филиппа такое чувство, что невеста Атаманова в чем-то ему отказала, как будто это было ее решение, особый вид заносчивости – не иметь бюста. Это ощущение приводит его в замешательство, и вдруг невеста Атаманова стоит в отдалении от него, снова полностью одетая, и он понимает, по-прежнему во сне, что сон успел сделать скачок за то время, пока он был в замешательстве, и отнял у него финал полового акта. Филипп и Ася покидают помещение. Теперь на невесте Атаманова – потертая кожаная куртка, в которой она похожа на партийную соратницу времен классовой борьбы. От нее исходит решимость и убежденность, что вызывает зависть Филиппа, так что ему самому хочется стать коммунистом, иметь красный паспорт и таким путем найти выход из своего бедственного положения. Он говорит об этом невесте Атаманова, уже в одном из коровников, и на какое-то мгновение ему кажется, что сейчас он разразится слезами, растроганный глубиной и значительностью своих чувств. Но невеста Атаманова едва взглянула на него и потом сказала:
– В политике я ничего не понимаю.
Чрезвычайно озадаченный этим сном и исполненный желания в будущем стать лучше, Филипп, проснувшись, первым делом идет к контейнеру с бумагами, чтобы из письменного наследия бабушки спасти то, что еще уцелело (я стану целеустремленным, ответственным, перерабатывая руду прошлого). Но, увы, ему не везет. Нет ему счастья. Не везет, и все тут. Один выбрасывает, другой подбирает. Кроме нескольких пожелтевших инструкций по применению (пылесос, ультрафиолетовая лампа, миксер, телевизор) и выскользнувшей почтовой открытки пятидесятых годов, на которой изображена пара лапландцев в национальной одежде во время доения оленихи, все личное и все книги, которые он выбросил, нашли своего интересанта в чужом лице. Подавленный, понимая, что связи невосстановимы, он садится на крыльцо и выщипывает из памяти обрывки писем, которые читал.
Филипп ходит в детский сад с большим сопротивлением.
Ему не вполне ясно, сколько реальности содержит в себе это замечание в отношении него, прекратил ли он свое сопротивление по прошествии более тридцати лет, когда повторяет эту фразу, и сделал ли шаг вперед и ходит теперь добровольно, хочет ли ходить или больше не обязан никуда ходить.
Он ждет, сам не зная чего.
Около десяти приходит почтальонша. Филипп целует ее, как уже было не раз, укрывшись от посторонних взглядов в тени стены. Потом спрашивает ее (под впечатлением романа Вильгельма Раабе[73]73
Вильгельм Раабе (1831–1910) – немецкий писатель, автор «Хроники Воробьиной улицы» – повествования о бедняках, не лишенных чувства юмора.
[Закрыть]), сколько километров в день ей приходится проходить.
– Километров десять, – отвечает она.
Он говорит ей, сосредоточенно подсчитывая, что она, вместо того чтобы обойти кругом земной шар, для чего ей понадобится, проходя в день по десять километров, чуть больше десяти лет (тогда ей будет далеко за тридцать), топчется все время на одном месте. Несмотря на многие километры, пройденные с почтовой тележкой, она даже из Вены не выходит и даже из 13-го района. Она непонимающе задумывается на некоторое время и потом говорит с равнодушной миной, что ей это безразлично и что ей больше хочется пообниматься, чем разговоры разговаривать. Можно подумать, Филипп все это говорит ради разговоров. Они еще немножко целуются. Но это не совсем то, что может прорасти. Филипп ошеломлен, насколько холодным оставляют его эти прикосновения, разрешенные почтальоншей.
Обман и измена – последняя вспышка и тем самым последняя надежда любви. Вот что это значит. Но Филипп возвращается к себе на крыльцо таким же подавленным, каким его покинул. Сверкают молнии, начинается дождь. Потом разражается ливень. Капли барабанят вовсю, что акустически особенно заметно по медному козырьку над дверью. Словно костяшками пальцев стучат. Гравий на площадке перед воротами подскакивает вместе с каплями. Время от времени дождь стихает, но ненадолго. Сильно парит. Все в сером мареве. Зеленые деревья, зеленые кусты, зеленые ставни на окнах. Зеленое и серое. Никакого красного «мерседеса», потому что Штайнвальд и Атаманов заняты другими аферами. Никаких телефонных звонков. Никакой Йоханны. Ничего.
От ярости Филипп затягивает ремень на одну дырочку туже и, невзирая на дождь, идет к перекладине для выбивания ковров, где ему удается подтянуться до бедер и сделать переворот – впервые с тех пор, как он силился выполнить этот трюк. Он тут же пробует повторить свой успех, поскольку чувствует в себе достаточный кураж, но соскальзывает с мокрой от дождя перекладины и со всей силой шмякается о землю. Легкие его судорожно сжимаются, и, пока он изо всех оставшихся сил прогибает поясницу и ждет, когда снова сможет вдохнуть, он напоминает себе, что надо сохранять спокойствие и не цепляться за жизнь. Вот он уже снова нормально дышит или почти нормально. Некоторое время он так и лежит на траве – досадная соринка в глазу Господа нашего и Творца – с вызывающей заносчивостью, которая удерживает его от проклятий. Дождь стегает его по лицу (мелкий дождь нисходит на него), и он чувствует, как у него на затылке неуловимая боль и неприятный жар ритмически работают над шишкой. Он не хочет даже потрогать эту шишку, из упрямства, не из страха, из чистого упрямства.
Но когда спустя некоторое время он лежит в ванне, то все-таки дотрагивается до нее и очень удивлен, что волосы слиплись от крови.
– Боже правый, что это со мной?
Вечером он сидит с перевязанной головой перед телевизором и чувствует себя сравнительно неплохо. Возвращаются Штайнвальд и Атаманов. Филипп их уже заждался. Он слышит, как они наполняют холодильник, несколько раз поднимаются по лестнице на верхний этаж и снова спускаются. Они разместились в бывших детских комнатах, самых маленьких в доме, как бы демонстрируя, что у них есть совесть и они претендуют на самый минимум; а заодно помогают Филиппу обживать дом, и не более того. Через некоторое время Штайнвальд стучится в дверь Филиппа. Он входит и осведомляется, будет ли Филипп ужинать с ними. Получив положительный ответ, Штайнвальд просит, с самой невинной миной, не мог бы Филипп, пока идет дождь, ничего не выбрасывать в контейнер. И сообщает, кстати, что крыша дома течет.
Филипп отрывает взгляд от экрана и спрашивает себя, что еще успеет прийти в голову Штайнвальду до того, как он наконец заговорит о перевязанной голове Филиппа. Штайнвальд продолжает, что Атаманов только что поднимался на чердак забрать оттуда кассетный магнитофон и сделал это удручающее открытие (капает вода, даже король ничто по сравнению с непреложным фактом). Штайнвальд, извиняясь, разводит руками:
– В нескольких местах.
– Плохая новость для такого закоренелого бездельника, как я.
Штайнвальд чешет голову под шляпой. Он почти не снимая носит свою маленькую коричневую фетровую шляпу, из-под которой выбиваются темные кудри.
Филипп говорит:
– У вас миленькая шляпа, Штайнвальд. Она напоминает мне шляпу нью-йоркского полицейского из американского фильма Французский связной. Ну, помните, Джин Хэкман, погоня, когда шикарный лимузин гонится за поездом городской железной дороги, которая проходит по эстакаде.
Штайнвальд сжимает губы так, что они белеют. Филипп думает: ну вот сейчас Штайнвальд переведет разговор на тему повязки. Но нет. Штайнвальд игнорирует повязку, как будто убежден, что Филипп вымогает из него сочувствие, и сверх того полагает, что надежнее всего оставаться чуждым всякой угодливости, он лишь добавляет по-деловому, перед тем как уйти, что они с Атамановым не смогут починить крышу. Но, если Филипп хочет, он может подобрать надежную и недорогую фирму и проконтролировать работу. Штайнвальд непринужденно смотрит на Филиппа, и Филипп, не зная, что ответить, бурчит недовольно «спасибо» и снова поворачивается к телевизору.
До ужина остается еще час времени, и Филипп, как обычно, постоянно переключая каналы, дольше всего задерживается там, где говорят или что-то зачитывают вслух. Может, говорит он себе, встретится фраза, которую он сможет ввернуть Йоханне или которая пригодится ему в какой-то другой связи – с Атамановым и Штайнвальдом, в разговоре с почтальоншей, при разглядывании фотографий, которые висят в бабушкиной спальне над комодом. Ему нужно много всяких фраз.
Я еще слишком мал для твоих сказок на ночь. Там будет официальный прием, наденьте что-нибудь темное. Почему ты мне сразу об этом не сказала? Нельзя же впускать такого клоуна. Да и молодые коллеги напирают сзади со своими детскими шуточками, но мало-помалу все мелкие критиканы отваливают в сторону. Ну хватит, Эдда, прекрати свое нытье и стенания, возьми себя в руки! Добрый вечер, Йоханна расскажет нам, какой будет погода. Ему срочно нужен врач! Пропустите меня! Если ты сейчас не уйдешь, я вышвырну тебя, а если мне это не удастся, я позову кого-нибудь на помощь. Завтра мне надо снова вернуться, а я еще совершенно не созрел для этого. Кто выигрывает? Никто, просто одна сторона проигрывает медленнее, чем другая. Это самое верное слово. Я не хочу, чтобы мне приходилось выпрашивать каждую пару чулок. Минуточку, отныне это твоя история, но уже никак не наша. Не ломай себе мою голову. Ложись спать, само все пройдет. Все склоняет к лени. Вероятность дождя шестьдесят процентов. Ветер северо-западный. It’s a crying shame[74]74
Вопиющая стыдоба (англ.).
[Закрыть]. Говорят, правда, там случаются оперные сцены, но это все одни уловки.
На стене в туалете университета Филипп прочитал как-то фразу:
«Однажды я услышал трубный глас, но не знал, что это значит».
Такие вещи почему-то запоминаются.
За ужином они говорят про шишку Филиппа, и Штайнвальд рассказывает про несколько несчастных случаев на стройке, свидетелем которых был сам или о которых слышал от других. Самое сильное впечатление на Филиппа производит потерянный глаз. У полностью загруженного тягача на стройке лопнула шина, и давлением воздуха отшвырнуло камешек с такой силой, что он выбил глаз одному рабочему. Этот рассказ поражает Филиппа. Он погружается в мысли об огромном седельном тягаче, о черной повязке для глаза, о морских разбойниках и флибустьерах, которые похищают дочерей польской шляхты, и некоторое время просто молчит. Но потом, уже лежа в постели (слушая, как один из рабочих играет на поперечной флейте, просто для своего удовольствия), он рад, что поранил голову, и ищет положение, при котором чувствовалась бы шишка, но не чувствовалась боль.
С опозданием до него доходит, что у него тоже есть в запасе история про грузовик. Теперь он сердится на себя, что упустил случай рассказать историю, которая пришлась бы так кстати. Хотя Штайнвальд и Атаманов еще не легли спать, а занимаются на верхнем этаже благоустройством своих комнат, Филипп сопротивляется потребности встать еще раз. Но для того, чтобы в следующий раз за ужином держать эту историю наготове (ему приходит также в голову, что и Йоханна еще не знает этой истории), он рассказывает ее себе самому не меньше четырех или пяти раз, в различных вариациях.
Во всех версиях ему шестнадцать и он сбежал из дома. Один раз его подбирает финский дальнобойщик, который едет в сторону Греции, в другой раз бургенландский, направляющийся в сторону Франции. Оба шофера заезжают среди ночи на небольшую парковочную площадку и ложатся головой на руль с намерением часок поспать. С этого места история развивается по одной и той же схеме: в отличие от шофера, Филиппу совсем не хочется спать, потому что он не устал. Кроме того, ему досаждает включенное на полную мощность отопление, а шофер, беспокоясь за свою слегка простуженную шею, запретил открывать окно. В кабине царит гнетущая жара. Филипп, скучая, смотрит в сторону дороги, на фары, сверлящие темноту. Через некоторое время на почти пустую площадку въезжает седельный тягач и пристраивается прямо перед ними. Фургон подает назад, расстояние между ними медленно сокращается. В этот момент шофер рядом с Филиппом просыпается, отрывает голову от руля, видит в полусне приближающиеся задние огни, лицо его искажается от ужаса, он упирается в руль и давит на тормоза, но они не реагируют Шофер в панике, сейчас он врежется в идущую впереди фуру, он, широко раскрыв рот, снова жмет на тормоза. Но и на сей раз никакого результата. Шофер уже начинает выворачивать руль. Но тут Филипп хватает его за плечо и кричит (тут возможны варианты):
– Мы стоим, эй, да мы же стоим!
Пятница, 1 июня 2001 года
Наутро Филипп усталый и разбитый, голова у него гудит, как колокол. Он долго не может подняться с постели, тело словно окаменело, он чувствует себя таким несчастным. Не в силах снова заснуть, он лежит под одеялом до тех пор, пока не уезжает «мерседес». Потом он сидит на крыльце, неумытый и небритый, с пустой головой, какой-то весь сам не свой, хотя кофе выпил за двоих, зевая и протирая глаза, и чувствует себя отхлестанным по щекам жаркой погодой. Он записывает это в свой рабочий блокнот, потом смотрит на школьников, проходящих мимо по улице. Он вспоминает незабвенный запах разлитых чернил и мелких крошек, который всегда поднимался со дна его портфеля да так и не выветрился до конца из его памяти. Он вспоминает свою школьную тетрадку по чистописанию. Он смотрит на голубей, на их неприхотливый, будничный полет в том сегменте сада и неба, который виден ему с крыльца. Он зевает. И ждет, не произойдет ли что-нибудь. Ждет, не переспит ли почтальонша с ним и сегодня.
Приходит почтальонша. И даже она говорит нечто значительное:
– На большее нет времени.
Она пугливо смеется и быстро натягивает брюки.
Провожая ее из дома, Филипп видит, что в дверь на веранду невзначай залетел голубь. Взъерошенная птица сидит нахохлившись, кораллово-красные чешуйчатые лапки вонзились когтями в перила лестницы, в полуметре от пушечного ядра, и смотрит на Филиппа своими маленькими грязно-оранжевыми глазками. Филипп растерян, не зная, что делать раньше. Потом решает сперва проводить почтальоншу до ворот. Оба испытывают неловкость и смущение. Их приключенческий азарт иссяк. Чтобы как-то отвлечь ее, Петер рассказывает, как однажды, это было два года спустя после смерти матери, отец уговорил его помочь почтальону разносить по домам телефонные справочники. Дело было зимой, снег по колено, но это отвечало интересам семьи. К вечеру Филипп должен был устать как собака, чтобы его отец мог беспрепятственно пойти к соседке, не боясь, что сын проснется среди ночи. Филипп смеется и пожимает плечами – жест, который в равной степени относится и к его отцу, и к почтальонше. Они целуются на прощанье, как и в прошлые разы, укрывшись в тени от стены. Потом Филипп без спешки возвращается в дом и выгоняет голубя на волю через входную дверь.
Голубь летит на крышу. Кофе стынет. Солнце раскаляется. Филипп сидит с бутербродом на своем привычном месте, где в это время дня уже, вообще-то, не выдержать. Он ни на что не может решиться. Он изучает передвижение полуденных теней. Он расчесывает комариный укус под левым коленом. Зуд постепенно стихает. Иди в комнату Штайнвальда, которая содержится в безукоризненном порядке, посмотри оттуда в окно или из заднего окна бабушкиной спальни, твоего любимого. Сходи на Лайнцер-штрассе и забери фотографии, которые уже наверняка давно готовы.
Филипп уговаривает себя.
И остается сидеть на крыльце.
Он пытается представить, что делают сейчас Штайнвальд и Атаманов, где они сейчас. И где там Йоханна. Он бы ей с удовольствием позвонил, но не смеет, потому что боится помешать ей, или стеснить, или вызвать подозрение, что хочет от нее чего-то, а то и ждет. Он знает по опыту, чем это обычно кончается, когда он звонит Йоханне, не имея ясного представления, какую цель тем самым преследует (разве что претендует на ее чувства). Поэтому он берет себя в руки, хотя не любит, когда ему приходится это делать.
– Это тоже путь ко лжи, когда приходится держать себя в руках, – говорит он себе и поднимается с крыльца, упираясь руками.
Его круги вдоль садовой стены начинаются с некоторых пор с северной стороны: после того как у этих соседей наполнили бассейн, он надеется наконец-то там кого-нибудь застать. Солнечные зонты раскрыты. Кругом валяются белые резиновые шлепанцы. На сей раз на воде покачивается даже надувной кораблик, и это может указывать на то, что непосредственно перед появлением Филиппа в бассейне плавала школьница или директор банка. Однако жители по-прежнему невидимы, как вымерли, или сидят в засаде, или у них много дел, или ушли проконтролировать уборщицу, или поругаться с супругой, или посчитать деньги, или помешать в кастрюле, или стонут и кряхтят, потому что на пороге выходные, или, мокрые от липкого пота, эпилируют ноги, или сочиняют стихи о природе, или разучивают гаммы за звуконепроницаемыми окнами, например, на трубе.
В следующем саду Филиппу везет больше. Там, где несколько недель назад ему угрожали проволочным скребком, сегодня сидит на одеяле в траве молодая женщина и читает. Рыжая, веснушчатая. Она не замечает Филиппа либо потому, что он почти не производит шума, либо потому, что погружена в чтение так, что не замечает ничего вокруг себя. Филипп некоторое время смотрит на нее. Потом окликает ее и спрашивает, что это за книга.
Она поднимает голову, не особенно удивленная, и показывает ему книгу, но из-за большого расстояния Филипп ничего не может разглядеть.
– Интересная? – спрашивает он.
Женщина делает неопределенное движение рукой, которое либо ни о чем не говорит, либо о том, что не очень.
Тогда Филипп предлагает ей чтение из собственных запасов, женщина может перелезть через стену и выбрать себе книгу.
– Не получится, – кричит она, радуясь своему аргументу. – Я беременна.
Это сообщение неожиданно задевает Филиппа. Он думает: ну вот, опять меня опередили, ты пропускаешь в жизни все, она вот беременна, а у тебя опять ничего.
Женщина говорит:
– Близнецы.
– Что-что?
– У меня будут близнецы, – кричит она и радуется, как будто только что узнала об этом.
Филипп тоже рад, ибо ему еще не приходилось слышать от женщины, что она беременна близнецами.
– Вот здорово, – кричит он. – И уже известно, кто отец?
Женщина смеется и слегка краснеет. Она качает головой, но так, что ясно: это не отрицательный ответ на вопрос Филиппа, а всего лишь готовность продолжить разговор. Филипп тоже смеется. От смеха ему больно локоть, и он взбирается чуть повыше, чтобы занять более удобное положение. При этом с него сваливается правый резиновый сапог. Потом он лежит животом на черепице, ею – с уклоном к дому – покрыта стена, и лежит так, что его туловище торчит над стеной, будто высовывается из жерла пушки, направленной в небо. Филипп не знает, куда девать руки, и чувствует себя странно посторонним или кажется себе очень глупым или только что очнувшимся от сна, и говорит, чтобы отвлечь ее от своего неприглядного положения:
– А ведь могло быть, что этот счастливец – я.
Женщина с любопытством смотрит на него сквозь завиток, как будто эта мысль заслуживает раздумья, а потом говорит:
– Нет, это не вы.
Но это было бы возможно, думает он. Конечно, возможное в форме прошедшего времени – это пустое. И все же Филипп доволен ее ответом.
Некоторое время они болтают о близнецах, как это будет, когда дети уже научатся ползать и вдруг расползутся в разные стороны. Однако недостаток комфорта пребывания на стене через некоторое время не дает Филиппу свободно вздохнуть, у него начинают болеть ребра, так что разговор приходится прекратить. Женщина кивает, когда он извещает ее о своем уходе. Она машинально берется за живот, но не спускает с Филиппа глаз, пока он не скрывается за стеной.
Вообще-то Филипп на всех стенах своей жизни – второстепенная фигура, вообще-то все, что он делает, это сноски, а текст к ним отсутствует. Нечто вроде того бедного чистописания, говорит он себе, и говорит он это со смешанным чувством гордости и упрямства, ибо мысль, что он ищет близости только там, где ему не грозит опасность быть присвоенным, на мгновение представляется ему доказательством его суверенитета – хотя вместе с тем ему ясно, что он притворяется перед самим собой. И все-таки (все-таки, все-таки) он чувствует, что эта мысль укрепляет его (а встреча с беременной немного улучшила его настроение), и он решает воспользоваться попутным ветром и сорвать обои в своей комнате, бывшей швейной.








