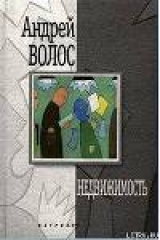
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Виновник происшествия, а именно первый муж, человек высокого роста, с напряженным лицом исхудавшего патриция, сидел за столом и курил. Поднося ко рту сигарету, невольно демонстрировал, как дрожат пальцы. Должно быть, он ждал нехорошего оборота -
Магаданец тяжелой глыбой маячил у дверей. Наталья натянула юбку, мы спустились к такси и поехали пить какую-то желтую наливку.
Кажется, это была айвовая. “Ну?” – сказал я, ожидая объяснений.
Объяснения были простыми. Она вышла из института, а он подъехал на парламентской “Волге” и усадил в машину. “Ты кукла, что ли?
– спросил я, горько недоумевая. – Как можно живого человека усадить в машину? Он позвал тебя и ты пошла?” Наталья презрительно усмехнулась моему непониманию: сзади шествовала группа преподавателей, и она не могла на их глазах участвовать в какой-либо безобразной сцене. Я допил желтую наливку и спросил:
“А почему ты была в колготках?” – “А в чем мне спать прикажешь?
– огрызнулась она. – В юбке? Чтобы все помялось? Или так всю ночь и сидеть на кухне?..”
Должно быть, она говорила чистую правду. Можно сформулировать иначе: должно быть, она не сказала ни слова лжи. Я никогда не знал, что лучше: обидеть близкого недоверием или позволить оскорблять себя обманом.
Эти чертовы колготки фигурировали и при нашей последней встрече, которая произошла примерно годом позже. Я приехал на дачу не вечером пятницы, а в середине четверга. Дорожка от калитки вела мимо окна, и, заглянув туда мельком, я увидел, что сосед-майор рвет ее приспущенные колготки танками на погонах. Оттоманка скрипела, и оба они деловито покряхтывали.
13
Я каплю за каплей смаковал остатки чайной горечи. Что толку вспоминать? Ни черта не поможет. Так человек у игорного стола все кладет и кладет монеты: разумеется, он помнит разочарования прошлых поражений, но почему-то уверен, что будущее принесет радость побед.
Я ополоснул чашку и завернул в газету остатки провианта.
Потом погасил свет и лег на продавленный диван, положив под голову скомканную куртку.
Диван был тот самый, на котором умерла Аня, и мне хотелось верить, что это случилось во сне: она прилегла вздремнуть и уснула и во сне перестала быть.
Сам я долго не засыпал, смотрел в мутное окно, где стояла серо-голубая мгла, думал о Павле: удачно ли прошла операция, и сколько продержат его теперь в больнице, и когда выпишут, и что сейчас в этой квартире жить невозможно, и, значит, нужно много чего сделать и привести в порядок.
Половинка луны неподвижно стояла в небе, но стоило ненадолго закрыть глаза, как оказывалось, что она уже переползла на несколько сантиметров, оставаясь при этом все в той же координатной плоскости оконного переплета. На полу лежал светлый прямоугольник и тоже понемногу смещался и скоро должен был захватить ножку стола. Луна жила и двигалась, но ее движение не могло открыть ничего нового, потому что она катилась по раз и навсегда заведенному кругу, словно человеческая жизнь. Я думал о том, что люди стараются жить так, словно все давно и окончательно известно и уже не стоит ни о чем задумываться; а между тем несколько самых важных вопросов остаются открытыми, и всякий раз, как хочешь решить для себя какую-нибудь пустяковину, непременно на них натыкаешься. Я не знал, боится ли Павел смерти и думал ли когда-нибудь о ней.
В конце концов я уснул, а разбудил меня скрип открывающейся двери. Луна пропала, в комнате стоял плотный мрак, но на лестнице горел желтый свет, и в этом свете мне была видна женская фигура. Спросонья я решил было, что это Ксения. Но потом подумал – бог ты мой, да откуда же ей здесь взяться?
Дверь тихо закрылась, и снова стало совсем темно.
– Ты чего? – сказал я. – Чего тебе надо? Ты живешь у подружки – ну и живи себе там! Нечего сюда шляться!
Ответа не было, но я слышал легкие шаги: Вика осторожно пробиралась к дивану.
– Чего тебе надо? – повторил я негромко. – Ну что ты молчишь, я тебя все равно узнал. Зачем ты пришла? Тебе не стыдно? Ты в какое состояние квартиру привела, видела?
Вика негромко хихикнула и, пошарив рукой, села в ногах. В комнате стало немного светлее. Ее халат распахнулся, открывая глазам тяжелые влажные груди с большими темными сосками и плоский живот.
– Я просто так… – прошептала она. – Я же не мешаю. Просто посмотреть, как ты здесь устроился. Ты спи, спи.
Я приподнялся на локте, вглядываясь в ее лицо. В полумраке оно казалось светлее и глаже.
– Ты почему глаз-то не открываешь? – спросил я.
– Потому что я совсем голенькая, а смотреть мне стыдно, – проговорила Вика детским капризным голосом. – Подвинься, я лягу.
Она и в самом деле уже была без ничего – я не заметил, как халат то ли соскользнул, то ли просто растворился.
– Только ты мне денежек дай… Дашь? – спросила она. – Я Павлу снесу. Ты ему скажи, чтобы дачу мне оставил. Скажешь? Нет, ну правда – скажешь? Это ведь земля. Недвижимость. Ее продать можно.
Вдруг она схватила меня за волосы и потянула к себе:
– Скажешь? Скажешь?
– Да ты что! – крикнул я. – Пусти!
– Па-па! – произнесла Вика, и ее белое лицо с закрытыми мраморными глазами, похожее на древнегреческую скульптуру, еще больше приблизилось к моему. – Па-па-па! Па-па-па!..
Я дернулся, высвобождаясь, и проснулся. Окно было совсем светлым, на лестнице уже бухали чьи-то шаги, где-то невдалеке тарахтел на холостых тракторный движок, и его шум отдавался в голове неприятным звоном.
Я посидел минутку позевывая; затем чертыхнулся, встал, помахал руками, кое-как умылся над ржавой раковиной и утерся носовым платком. А потом вышел на лестничную площадку и не колеблясь позвонил в соседнюю квартиру.
Дверь открыл плотный старикан в фиолетовой майке. Похоже, обитатели города Ковальца ничего другого не носили.
– Добрый день. Я из девятой квартиры. Не знаете, где плотника можно найти?
– Плотника? – Старик неторопливо разглядывал меня с головы до ног, словно прикидывая, можно ли с незнакомцем разговаривать. -
Это на какой же предмет плотника тебе, голубь ты мой?
– На предмет починки двери, отец, – бодро отрапортовал я. – Вот этой вот самой двёрки. Видите?
Старикан почесал лысину.
– Вижу, как не видеть… Давно уж присматриваюсь. А сам-то где?
– незаинтересованно спросил он. – Вроде не видать.
– Сам-то в больнице, – с готовностью пояснил я. – Приболел малость. А я вот хочу тем временем двёрку в порядок привести.
– А девка где? – спросил старик. – Бедовая девка-то.
– Бедовая, точно. У подружки живет. Так что насчет двёрки?
– Сколь же стоит такая работа? – задумчиво произнес дед и подошел к Павловой двери. – Это ж разве сюда бобышку какую-никакую врезать… – пробормотал он, оглаживая широкой ладонью разбитый косяк. – На шпунты разве ее посадить…
Бобышку-то я найду, это не беда… – толковал он, щупая саму дверь заскорузлыми пальцами. – Клея нет, вот дело-то. Разве что эпоксидку у Петровича взять… Сколь же такая работа стоить будет, голубь ты мой? – спросил он, твердо глядя в глаза мне своими плотницкими буравчиками.
– Не знаю, отец. Скажи сам.
Он сказал. Я поделил на три и вернул. Старик прищурился, снова почесал лысину и чуточку прибавил. Сумма получилась странная – некруглая какая-то сумма.
– Договорились, – сказал я.
– Надо бы аванец, – заметил старик.
– В каком размере?
– В каком, в каком… На бутылку.
– Э-э-э, не пойдет. Никаких авансов. Через два часа приеду, если будет готово, приплачу за скорость.
– Сколько? – заинтересовался он.
Я сказал.
– Ишь ты! Ну, это дело другое… Как тебя звать-то, голубь ты мой?
– А так и зови, отец, – голубем, – предложил я. – Ну, можно и
Сергеем.
– Ну что это: голубем! – возразил старикан. – Ты ж не птица!
Серегой-то лучше. А меня, значит, Михаил Герасимович… Вот и познакомились, Серега. Значит, так: через два не через два, а часам к одиннадцати сделаю. – И добавил деловито: – Замок-то где?
Я отдал ему замок и вышел из дома. Утро было холодное, сырое. Я действительно рассчитывал вернуться часа через два. Но из этого ничего не вышло, и уже снова смеркалось, когда я залил полный бак на маленькой заправке при выезде из Ковальца и погнал Асечку по пустому черному шоссе. Столбики ограждения мельтешили в желтоватом свете фар, редкие встречные слепили пронзительным сиянием галогенок. На лобовом стекле начали появляться мелкие волдыри дождевых капель – гуще, гуще, – и скоро дождь хлестал вовсю: было видно, как он черными полосами бежит по дороге, и ветер швыряет его вправо и влево. Мне пришлось сбавить скорость, но через полчаса, когда струи дождя дочиста отмыли асфальт, я снова прибавил газу и гнал, гнал в темноте, ничего не боясь и думая только о том, что этот долгий ливень сорвет с земли всю красоту и позолоту и уже завтра леса будут стоят черные и пустые. Было невозможно понять и представить себе, что, когда полгода назад мы с Павлом сидели на чурбаках и пили водку, закусывая луком и хлебом, и чувствовали тепло солнца, свежесть воздуха, влажную теплоту пара, поднимавшегося от черной земли, ощущая все бесчисленные тонкие канальцы вселенной, по которым струится то, что называется жизнью, – уже тогда, оказывается,
Павел был обречен. Три часа я стоял с Людмилой в коридоре, дожидаясь хирурга, и теперь, глядя на черный лоснящийся асфальт, бешено рвущийся под колеса, то и дело повторял про себя то, что смог понять из его торопливых слов. Хирург сказал, что в чисто техническом смысле операция прошла успешно: она, несмотря на свою вынужденность и паллиативность, позволила сохранить пациенту жизнь, находившуюся под серьезной угрозой вследствие непроходимости кишечника. Однако на данном этапе не было возможности зачистить метастазированные участки, поэтому в скором времени потребуется вторая операция. Если пациент эту вторую операцию переживет – что, исходя из общего его состояния, представляется маловероятным, – то все-таки следует помнить о том, что процесс метастазирования находится в заключительной стадии и не вызывает никаких сомнений в скором исходе болезни…
Все это он отбарабанил впопыхах как по писаному, а потом замолчал и вдруг положил руку мне на плечо жестом сожаления; но тут открылась дверь в дальнем конце коридора, и звонкий женский голос прокричал: “Косталенко! Косталенко!..” Хирург устало извинился и поспешил туда, а мы все стояли в коридоре у окна. На подоконнике кто-то глубоко вырезал слова “ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ”; подоконник с тех пор был заново покрашен и, может быть, не один раз; но глубокие буквы отчетливо читались, а проведя ладонью, я каждую из них угадал на ощупь. С другого краю шариковой ручкой на белой краске был нарисован футбольный мяч в обрамлении пальмовых ветвей. Людмила все повторяла: “Вот тебе раз, вот тебе раз…” – и смотрела на меня со смешанным выражением непонимания и возмущения: словно требуя, чтобы я объяснил ей, что же, черт возьми, происходит. “Видишь, какая ерунда, – сказал я, чтобы не молчать. – Видишь как”. Она вынула платок из кармана коричневого вязаного платья, неровно сидевшего на ее тумбообразной фигуре, и стала вытирать мокрые глаза. Я смотрел на ее широкое растерянное лицо и думал, что она совсем не похожа на покойную сестру. Потом мы медленно пошли к выходу. “Я смогу приехать только послезавтра, – сказал я. – Я тебе сейчас дам денег, чтобы платить нянечкам. И если купить что…” В машине я протянул деньги. Людмила испуганно округлила глаза. “Ну зачем это, ну зачем?” Потом положила конверт в сумку не считая. Мы заехали в ближайшую аптеку, чтобы приобрести какие-то специальные полиэтиленовые пакеты. Павел еще не приходил в себя и поэтому не знал, что в результате операции он лишился некоторых способностей, свойственных взрослому человеку. В этом отношении он был теперь не самостоятельнее младенца: конец кишки вывели в живот с левого боку; к ее-то отверстию и нужно будет два или три раза в сутки приспосабливать эти чертовы пакеты. Хирург мельком заметил, что и это-то сделать было довольно трудно из-за того, что очень большой участок кишки потребовал иссечения. В его усталом голосе отдаленно звучала законная гордость: было трудно, но все-таки он смог это сделать, чтобы продлить человеку жизнь; а я старался не думать об открытии, которое ждет Павла, когда он очнется, потому что все равно не мог представить себя на его месте; и не мог вообразить, как в подобной ситуации ответил бы на вопрос о том, чего мне больше хочется: умереть или жить с дыркой в животе, из которой сочится жидкое дерьмо. Впрочем, как я заключил из слов хирурга, никто никого ни о чем не спрашивал.
Пакетов не оказалось ни в ближайшей, ни в следующей. Я двинулся знакомой дорогой к аптечному складу. На этот раз ворота были закрыты. “Куда это ты? Куда это? – в испуге спрашивала Людмила.
– Это что же?” У нее была очень широкая, словно смятая переносица, и глаза казались совсем маленькими. Я оставил ее в машине, а сам пошел барабанить в калитку. Вохровец на посту стоял уже другой, но это, как выяснилось, не имело значения.
Важным было лишь то, что пакетов не оказалось и здесь. Мы купили в каком-то киоске несколько больших пластиковых бутылок воды и вернулись в больницу. Был уже второй час, но к Павлу не пускали.
Я нашел старшую медсестру, оказавшуюся молодой некрасивой женщиной с пышным многоярусным строением белокурых волос на голове. Она сидела за столом в кабинете, заполняя какие-то бумаги. Я кашлянул, и тогда она раздраженно обернулась и пальнула в меня: господи! вот ходят целый день! вы не видите, что я занята?! Я молча положил на стол деньги и только после этого высказал свою просьбу. Должно быть, я дал ей слишком много. Старшая тут же вскочила и принялась добросовестно квохтать, без конца повторяя, что именно собирается предпринять в целях улучшения ухода. “Да, и пакеты! – вспомнил я. – Я привезу послезавтра или в крайнем случае в четверг. На пару-то дней у вас найдется?” Она все кивала: “Конечно, конечно! О чем вы говорите! Конечно же! Все, что только можно!..” Глаза ее светились преданностью, и было понятно, что теперь Павел без пакета не останется: в крайнем случае она отнимет этот проклятый пакет у другого – у кого не нашлось ни копейки, чтобы дать ей. Я попятился и быстро вышел, не сказав ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ; мне было одинаково противно и смотреть на нее, и понимать, что это мои деньги – деньги, протянутые моей рукой, – оказали на нее столь сокрушительное воздействие. Может быть, для нее лучше было бы не получить их и остаться такой, какой она была пять минут назад: раздраженной и злобной теткой с белой башней на башке, одинаково равнодушной к несчастьям любого. Но я знал, что этим все равно нельзя было добиться справедливости: придет кто-нибудь еще и посулит ей денег; и она возьмет их и тогда отнимет пакет у
Павла, чтобы дать другому…
Михаил Герасимович уже кончил работу и сделал все аккуратно и с умом: треснувший косяк был в четырех местах рассверлен и зашпунтован, а в дверь врезан свежеструганый кусок дерева взамен расщепленного. Проведя пальцем, я не нашел шва. Сам Михаил
Герасимович, на котором теперь поверх фиолетовой майки был надет старый пиджак с несколькими побрякивающими медалями, стоял рядом, смущенно улыбаясь и разглядывая свою работу с таким видом, словно и не ожидал, что все так ловко выйдет. Деньги он поначалу недоуменно крутил в руках, а потом свыкся, свернул трубочкой и сунул в нагрудный карман.
– Отлично, отлично, – в третий раз устало повторял я. – Просто очень хорошо.
– Нет, Серега, ты посмотри: бобышка-то какая!.. – не унимался он. – Я ведь что? Я хватился: нет бобышки! Ну, к Петровичу – так и так, мол, выручай! Да за такую бобышку ста сот не жалко!
– Знатная бобышка. Ну спасибо…
– Нет, ты взгляни: лучше новой дверь-то! А? На дубовых шпунтах!
В конце концов он удалился, несказанно довольный, и было похоже, что сегодня его ожидало еще много радостей.
Я отцепил от связки один ключ, чтобы оставить себе, а другие три протянул Людмиле. Замок открылся с масляным пощелкиванием.
Пройдя в комнату и оглянувшись, Людмила сонно протянула:
“Та-а-а-а-а-ак…” – и сомнамбулическим движением подоткнула длинный подол своего вязаного платья. Это могло бы придать ее внешности игривый вид, если бы не сине-черные узлы варикозных вен на обнажившихся толстых ногах. Уже через секунду она с места в карьер принялась вывозить грязь с той носорожьей бабьей ухваткой, что всегда наводила меня на мысли о конце света. Все вокруг нее рушилось, падало и затем вставало обновленным – как из огня чистилища; сначала она смела мусор, подняв столбы пыли, а потом наплескала из ведра воды и стала яростно гонять ее по линолеуму большой грязной тряпкой. Время от времени с ее губ слетали непечатные идиомы – это случалось в те моменты, когда
Людмила в очередной раз сталкивалась с вопиющими, на ее взгляд, примерами неряшества. “Ну уж нет, с балконом я не буду разбираться, ну его, пускай Вика”, – сказала она и немедленно полезла туда, гремя стеклом и железом, и стала со скрежетом выдирать что-то из горы тлелого хлама и шумно кидать вниз. “Это что же, – выкрикивала она время от времени, заглядывая на секунду в комнату раскрасневшимся лицом. – Это что же! Из больницы выйдет, так ему и посидеть на воздухе негде!” Затем опять несколько минут была видна за мутными стеклами только ее большая мужичья фигура да вновь слышался тот же самый скрежет и уханье падающих предметов. “Как же ему после операции на четвертый-то этаж пехом! – ненадолго всунувшись, возмущенно спрашивала она. – Это что ж за гуляние! Не натаскаешься!..”
Потом она ринулась искать Вику и скоро привела ее. Я услышал неразборчивый крик, поначалу доносившийся с лестницы. “Ты видишь? – спрашивала Людмила у племянницы, стоявшей в дверях с тупым и взъерошенным видом. – Ты видишь, до чего ты довела?
Видишь? Обокрали тебя? Вот какое несчастье! А почему я тут два часа твое говно вывозила?! Ты как себя ведешь?! Ты как жить-то будешь? Ты с голоду сдохнуть хочешь? Под забором околеть?.. Все!
Хватит! Собирайся, ко мне поедешь! Пока Павел в больнице, будешь у меня жить! Быстро, я сказала! Что – „нет”?! Я тебе дам „нет”!
Я тебе сейчас такое дам „нет”, что ты света белого не взвидишь!
Быстро! Ты хочешь тут остатки порушить, сучка?! Где твои шмотки?! Дожилась!.. Вот мать-то небось радуется, на тебя глядючи! Смотрит сейчас с облачка – как там моя дочка? А дочка вот вам – пожалуйста! Спасибо, что не пьяная! Тебе Павла не жалко?! Себя-то не жалко тебе?! Павел из больницы выйдет – как жить будете?! Телевизор – украли! Телефон – украли! Ты почему не работаешь? Почему, я тебя спрашиваю! Как жить-то будете?! Все друзей сюда водила, лахудра! Доводилась! Хорошо, саму-то не убили! Да, может, и лучше было бы – убили и убили, ничего не поделаешь: поплакали бы, похоронили, да и дело с концом! Чем на твою опухшую-то рожу смотреть!.. Быстро собирайся, я тебе говорю!.. Стой, погоди!.. беги вниз, перетаскай из-под балкона все на помойку! Быстро!..”
Напуганная Вика, хлюпая носом (плачущей она становилась почему-то похожа на старуху, – должно быть, из-за выражения полной беспомощности, что накатывало на мокрое лицо) и так же по-старушечьи покряхтывая, чтобы сдержать рыдания, поплелась вниз, а Людмила устало села к столу, закурила и стала говорить, что девочкой Вика была просто прелесть, не налюбуешься: славная такая девчушка; а теперь видишь как – совсем от рук отбилась, лахудра. И еще – что Вика похожа на воду: куда ее вольешь, такую форму она и принимает: если дураки кругом, так и она дура, если злые – так и она злая, а если живет с нормальными людьми, тогда и сама становится совсем другой, и нельзя заподозрить, что она может быть злой и пьяной дурой… И что ей племянницу жалко: уж очень она неудалая, все у нее наперекосяк, вся жизнь, просто сил нет смотреть; уж ей под тридцать, а что у нее есть? И что, мол, не дай бог, с Павлом что случись, так даже дачу получит Танька,
Павлова дочь, хоть он с ней жил всего до году, а потом только видел пару раз, да и то, можно сказать, случайно; а с Викой сколько лет бок о бок, одной семьей бытовали, заместо отца ей был, а она ему – дочерью; и все равно Вика ничего не получит, потому что такие дурацкие у нас законы; хотя, конечно, если разбираться, то Вике эта дача куда как нужнее; да и вообще это во всех отношениях было бы справедливее, потому что Вика там и горбатилась, и все, и Павлу помогала – взять хотя бы, как таскали они вдвоем туда сетки от кроватей: Павел привез их поначалу домой, в квартиру – ведь сарая-то еще в ту пору не было, – взволок и поставил на балконе; а потом уж они с Викой
(Аня-то не могла, потому что вечно болела, – тут Людмила безнадежно стряхнула пепел на чистый пол) носили их по очереди сначала к трамваю, а через две остановки сгружали и волокли к участку – ну просто как мураши; вот как; да и вообще, случись что с Павлом, дай ему бог здоровья на многие года, так Вика окажется у нее, у Людмилы, на шее – как говорится, в полный рост; а кормить ее надо? а одевать надо? сама-то она – сам видишь какая; в общем, была бы эта дача большим подспорьем – да хоть бы картошки весной насадить, а осенью выкопать… Да уж что говорить… И она горько махнула рукой и загасила сигарету о каблук.
Я слушал ее, думая о том, что физика жизни проста: тело Ч обречено переместиться из точки Р в точку С, назначенную ему в качестве конечного пункта, за время Ж; тело Ч может, если способно и хочет, размышлять о том, что траектория его движения верна и справедлива или неверна и несправедлива, или в чем-то верна и справедлива, а в чем-то – нет; или верить в одно из этих утверждений; однако каким бы размышлениям и верованиям ни предавалось тело Ч, само оно изменить свою траекторию не в состоянии. Павел родился в сороковом, а в сорок шестом был голод, и он с малолетства хлебнул лиха: долго еще прятал сухари под матрас, и никакими силами его от этого нельзя было отучить.
Как началось – так и пошло: звезда его была неясной, тусклой бедняцкой звездой. Может быть, родись он в другой день и час… жаль, что нельзя прожить вторую жизнь, а потом и третью. А впрочем, если б и можно было, то и вторую, и третью пришлось бы проживать точно так же: вслепую и на большой скорости – как сумасшедший мотоциклист в тумане.
Я сказал, что обсуждать это не хочется, но если уж начали – то, конечно, резонно, чтобы дачу в случае чего получила Вика; даже лучше не Вика, поскольку Вика ничем толком распорядиться не сможет, а сама Людмила; и что так оно и будет, – не дай бог, конечно. Людмила посмотрела, словно я рассказывал небылицы, недовольно хмыкнула и перевела разговор на другое. Через час или полтора я залил полный бак на маленькой заправке при выезде из города. К тому времени стемнело. Скоро начался дождь, и огни встречных машин на лобовом стекле дробились в радужную крошку.








