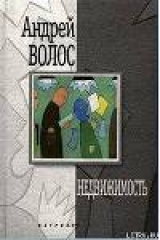
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
15
“Самсон трейдинг” располагался где-то в тесных недрах помоечных дворов на Селезневке, и сколько раз я ни приезжал сюда, столько совался не в ту подворотню. А как их различишь? Чертыхнувшись, я сдал задом, выбрался на улицу, проехал еще сорок метров и снова нырнул в туннелеобразный въезд под покосившимся трехэтажным домом.
Гулкий туннель заканчивался почти таким же сумрачным и гулким колодцем двора, обставленным кривобокими домишками.
Я приметил знакомый “ниссан” и встал вплотную.
В торце одного из этих не внушающих доверия зданьиц металлический козырек прикрывал ступени, ведущие в полуподвал.
– Слушаю вас, – прохрипел динамик, когда я нажал неприметную кнопку.
– Кастаки у себя? – спросил я. – Откройте.
Замок щелкнул.
Миновав неодобрительно посмотревшего охранника, я прошел недлинным коридором и оказался в прохладном холле. Секретарша сидела за полукруглой стойкой.
– К Александру Васильевичу.
– Вы договаривались?
– Он ждет, – соврал я.
– Направо по коридору, – сказала она.
И здесь же, тыркнув клавишу, преданно донесла в селектор:
“Александр Васильевич, к вам…”
Дверь кабинета была открыта. Шура сидел за столом. Ноги, на американский манер, лежали на столе.
– Здравствуйте, дядя босс, – сказал я.
– Дядя босс и гол, и бос, – пробормотал он в ответ. – Здорово, здорово… Кофе будешь?
– Я еще не обедал, – сказал я. – Письмо давай.
Кастаки опустил ноги и сел по-человечески.
– Второе пришло, – сказал он, роясь в карманах пиджака. – Хотел звонить. А ты сам заявился.
И протянул два конверта.
– Спасибо, – сказал я. – Все, погнал.
– Слушай, что-то мы с тобой все как не родные? – спросил Шура. -
Ты вечером что делаешь? Может, посидим где? Пивка, рыбки… а?
Я развел руками:
– Сегодня точно не могу. Да погоди, вот повод какой-нибудь будет…
– Повод, повод… Ты, Капырин, не понимаешь. Какой повод? Наше обоюдное желание – это не повод? Мы же не можем вечно ждать милостей у природы…
– Александр Васильевич, извините, – строго сказала голубоглазая девушка, заглянувшая в кабинет. – Шульман звонил, у него на таможне проблемы. Просил с ним связаться.
Шура чертыхнулся и потянулся к телефону, махнув рукой: пока, мол…
Я сел в машину и разорвал конверт:
“Сереженька, дорогой, здравствуй!
Поговорила с тобой и все не могу успокоиться, села сразу за письмо.
Болит, болит у меня душа за Павла, и не знаю, что делать. Уже по-всякому думала. Ведь родная кровь Павел, своя. Кто за ним ухаживает, как? Я Людмилу никогда не видела, но если они с
Аней-покойницей похожи, то такая же волоха, наверное. Как бы я хотела поехать в Ковалец! Но как бросить здесь все?
Какая все-таки жизнь страшная, Сереженька. Откуда такая гадость у Павла взялась? Хорошо, что вовремя прихватили, сделали операцию. Если ранняя стадия, то, может быть, обойдется. Помнишь
Коломийцев? Они теперь где-то под Калугой живут. Так вот
Витиному отцу тоже делали такую операцию. И ничего, жил себе и жил, пока не умер от инфаркта. Бедный Павел. Как мне его жалко.
Вечно он у нас был какой-то обсевок. Уехал, всю жизнь там один, не особенно-то у него все складывалось. Я достала альбом, смотрела фотографии. Какой Павел был мальчишкой красивый – глаза большие, взгляд серьезный, задумчивый. Ему бы в артисты. А он какую тяжелую жизнь прожил. Завтра Таньке напишу, но куда она с малым дитем из Воронежа поедет? Ей тоже нет никакой возможности.
Смотрела фотографии, даже всплакнула. Помнишь, где ты в матроске и бескозырке? Ты очень гордился этой матроской. Однажды к нам пришли гости – Валя Кострова с мужем и сыном, Красновы, Лешка
Гарипов. Все дети большенькие, а тебе годика четыре всего было.
Ты к ним и так, и сяк, а они с тобой играть не хотели. Они взрослые, им с тобой неинтересно. Ты постоял, постоял, посмотрел на них. Я думала, ты плакать сейчас будешь. А ты подходишь ко мне и говоришь таким упрямым-упрямым голосом: „А я играю в паровозик! Ту-ту-у-у-у-у-у-у!.. ”
Помнишь ли ты сестру Насти Кречетовой, Катю, прихрамывает. Я тебе писала, что они квартиру продали. Несколько дней назад к ним ворвались какие-то бандиты и убили и ее и мать. Наверное, кто-то узнал, что они квартиру продали. Думали, у них денег много. Но у них денег никаких не было. Деньги за квартиру они
Насте переправили и собирались уезжать. А другие деньги у них откуда? Всегда жили бедно, а теперь уж и говорить нечего – сколько лет пенсий не платят. Наверное, это случайно. Но с другой стороны, я всегда говорила: лучше не рыпаться. Сидишь – и сиди, от добра добра не ищут.
Сереженька, пожалуйста, думай о себе. По крайней мере ешь вовремя. Ты все время в беготне. Испортишь, не дай бог, желудок, это очень плохо. Целую тебя. Павла за меня поцелуй крепко-крепко, скажи, пусть держится. Он из хорошей породы – шлыковский. Скажи, пусть помнит: Шлыковы – люди железные, их об дорогу не расшибешь. Скажи, еще встретимся с ним обязательно. И вообще – пускай выздоравливает да к нам приезжает. А что?
Отлично мы здесь заживем. О нас не беспокойся, у нас все в порядке. Целуем тебя”.
Я сунул письмо в конверт и завел двигатель. По
Краснопролетарской поток еле полз. Я смотрел в лобовое стекло.
Мысли как цепные собаки прыгали на одном и том же месте. Передо мной тащился зеленый “Москвич”. Минут через десять мы встали у самого светофора. “Об дорогу не расшибешь”. Если бы. Из
“Москвича” выбрался мужик и стал неспешно протирать стекла оранжевой тряпкой. Садовое гудело, серый асфальт лоснился, вылизанный колесами. Москва лежала окрест на многие километры, громоздя к мутным небесам лоснящиеся камни. Все всегда у них в порядке. Зажегся зеленый. Через несколько минут я свернул на бульвары, думая о том, что сегодня все должно наконец определиться.
Вопреки ожиданиям отперла мне вовсе не Алла Владимировна, а
Голубятников: узнав, молча отступил к своей комнате. Дверь туда была полуоткрыта, изнутри тянуло куревом, а на полу в коридоре лежал сизый параллелограмм тусклого света. Лампочка в прихожей отродясь не горела. Сам же Голубятников и объяснил однажды почему: ему, видишь ли, надоело покупать на свои, а соседям эта лампочка до лампочки, им не до лампочек, им бы только глаза залить, вот и вся иллюминация.
– К Алке, что ли? – спросил он, одной рукой берясь за ручку, а другой почесывая загривок.
Я кивнул.
– Смотреть поедете?
– Ага.
– Согласится?
– Кто ее знает.
– Ну-ну, – мрачно сказал Голубятников, переступил порог и решительно закрыл за собой дверь, ликвидировав тем самым последний источник света.
Должно быть, Голубятников уже не верил в успех предприятия, хотя сам был готов на все, только б выбраться из коммуналки. Огромная сумрачная квартира на четвертом этаже старого дома на
Пречистенке представлялась лакомым куском, а на поверку оказывалась совершенно дохлой: я не первым ломал об нее зубы.
Жильцы давно перессорились, Аллу Владимировну дружно возненавидели, и мне стоило немалого труда уговорить всех еще на одну попытку. Наличествовало шесть лицевых счетов. Четыре комнаты пустовали – хозяева их жили по другим местам и были согласны получить взамен своих гнилых углов по однокомнатной квартире в любом районе. Голубятников тоже не упирался: четырежды, по счету предпринятых мной попыток, соглашался на предложенный вариант. Качество их раз от разу хужало: не потому, что я хотел сделать Голубятникову хуже, а потому, что приходилось за счет Голубятникова и прочих пытаться улучшить будущие жилищные условия Алки, то есть Аллы Владимировны
Кеттлер, – а иначе она и думать о разъезде не хотела. С чертовой этой Аллой Владимировной просто не было никакого сладу – именно на ней все попытки-то и обламывались…
Чертыхаясь, я кое-как пробрался по коридору и постучал:
– Алла Владимировна, можно?
Как и брат ее, Валентин Владимирович, она была из какой-то очень мелкой человечьей породы. Когда они, как сейчас, сидели рядышком на продавленном диване, казалось, что это два ссохшихся щуплых ребенка, ненадолго притихших перед тем, как разыграться с новой силой. Оба были медлительны, с тихими, робкими повадками, только брат по мере увеличения дозы становился невыносимо рассудительным и подробным, а сестра обретала способность к вспышкам беспричинного гнева, удивительного на фоне ее обычной вялости. При первой встрече, произошедшей едва ли не год назад, они вот так же сидели на диване, немного навеселе, но честно стараясь сосредоточиться. Примерно полчаса я убил на то, чтобы растолковать, как могу помочь им выбраться в отдельную квартиру; подробно разъяснял, что сколько стоит; раскладывал, как пасьянс, возможные варианты. Я старался не употреблять слов, которые не были бы понятны второкласснику, говорил короткими ясными фразами и почти каждую повторял дважды. Поначалу Алла Владимировна понятливо кивала, но потом чело ее стало хмуриться, на бледном лице появилось выражение растерянности, голубовато-белесые, как свежевыстиранное белье, глаза обиженно повлажнели, и вдруг она спросила, обратившись к брату и недоуменно указав на меня пальцем:
– Валечка, а что это он такое говорит?..
Теперь мы были давно знакомы. Брат и сестра Кеттлер были удивительно нежны друг с другом – должно быть, алкоголизм обоюдно резонировал в них, порождая волны доброжелательности. К прочим явлениям мира они относились с достаточной степенью равнодушия, чтобы можно было говорить о беззлобности, и в целом вполне годились для такого рода общения, каким является риэлторское дело. Конечно, время от времени Алла Владимировна по сущему пустяку готова была взвиться и понести по кочкам; этого у нее не отнимешь – чрезвычайно вздорная женщина. Однако в глубине души я все-таки был уверен, что мне уже удалось бы их развезти, если бы не Голубятников, который, посмотрев первую попавшуюся из ряда более или менее подходящих ему квартир, зачем-то похвастался этим Алле Владимировне. Услышанное породило в ее помраченном сознании некий туманный образ, совершенно не соответствующий тому, что предложили ненавистному соседу в действительности, но почему-то ставший для госпожи Кеттлер эталоном ее собственных безумных требований.
– Значит, так, – сказал я, демонстративно глядя на часы. – В чем дело? Который час, знаете? Почему не готовы?
– А что такое? – холодно протянула Алла Владимировна, надменно хлопая жидкими ресницами.
– Как – что такое? Мы опаздываем! Алла Владимировна, я вам вчера два раза звонил. Вы на бумажке записывали. В час дня! Квартира на Кожуховской! Пора ехать. Опаздываем! Вы чего ждете? Вы издеваетесь?! Я вас год на себе таскаю! Вы что?! Быстро собирайтесь!
– Валечка, где моя бумажка? – спросила Алла Владимировна и, легонечко икнув, поднесла ко рту голубой кулачок.
– Я не знаю, – ровно и тихо ответил Валентин Владимирович. -
Какая бумажка?
– Он говорит, бумажка, – безмятежно пояснила сестра, по обыкновению показывая на меня пальцем.
– Какая к черту бумажка! Собирайтесь, говорю! Или вы будете вечно тут сидеть?! Пожалуйста! Сидите! Вы что?! В коммуналке своей хотите жить?! С чужими тараканами? С Голубятниковым?
Сколько можно надо мной издеваться?! Мы с вами договаривались или нет? Я что, просто так на ушах стою из-за вас?! Для своего удовольствия?
– А что такое? – удивилась Алла Владимировна. – Я готова.
Валечка, давай на посошок…
– Все-все-все! Никаких посошков! – Я подхватил со стола бутылку и поставил на шкаф. – Сначала съездим. Так же лучше, Алла
Владимировна! Привезу вас – сядете без спешки… а?
– Хорошо, – неожиданно легко согласилась она и встала, пошатнувшись. – Поехали.
Валентин Владимирович был по кожевенной части и всякий раз норовил растолковать мне разницу между шевро и лайкой в самых тонких деталях, поэтому в машине, как всегда, рассуждали о процессах дубления: то есть Валентин Владимирович, клюя носом, неразборчиво бормотал, а я угукал; когда же брат Кеттлер угасал, помаленьку начиная валиться на бок, я реанимировал его давно отработанным приемом: упоминал о каком-нибудь кожаном предмете из обихода – о перчатках или ремнях. Он немедленно оживал и пускался в дальнейшие подробности. Алла Владимировна, слава богу, молчала, глядя в окно, за которым проносились встречные машины и мелькали вывески, с тем же озадаченным выражением бледного лица, с каким обыкновенно кошки наблюдают за рыбками в аквариуме.
У подъезда давно ждала девушка-агентша; в квартире оказалось чистенько и уютно; кухонный гарнитур, состоявший из нескольких висячих шкафчиков, столика и мойки, было предложено оставить, если нужно. “Даром? – удивлялась Алла Владимировна. – Даром, что ли?” Я перебросился с девушкой парой слов и посмотрел документы.
“Матрас тоже оставим, – с готовностью предложила девушка. -
Хороший матрас. Почти новый, а хозяевам ни к чему”. Она указала на пружинный матрас, который стоял на чурбачках у окна. “Хороший матрас какой… – недоверчиво протянула Алла Владимировна, переступая по облезлому паркету тонкими ногами в перекрученных чулках и грязных летних туфлях. – Совсем новый матрас. Валюша!
Смотри, матрас еще. Даром, что ли?.. Ой”.
– Какая хорошая квартирка, – сказала она, садясь в машину.
– Хорошая, – согласился я и завел двигатель. – Очень хорошая.
Рядом с метро…
– И балкончик, – заметил Валентин Владимирович.
– Шкафчики, – умильно протянула его сестра.
Она повернулась к брату.
– И ремонт недавно был, – сказал брат.
– И подъезд чистый, – вставил я.
– Матра-а-а-а-асик, – пропела сестра, прикладывая ладошки к щекам.
Я победно выруливал в подворотню.
– Это откуда же такая хорошая квартирка взялась? – плаксиво вопросила Алла Владимировна. – Это где же ты, Сережа, такую квартирку нашел?
Голос ее дрожал.
– Такую мне хорошую квартирку подыскал! Мне! – такую хорошую квартирку! Валюша! Видишь, какую хорошую квартиру нам Сереженька нашел! А ты говорил – обманет! Видишь? Балкончик, и чистенько все так!
– И от метро близко, – вставил брат-кожевенник. – И балкончик.
– Сереженька! – воскликнула Алла Владимировна, валясь в мою сторону и припадая к рулю. Мне пришлось отодвинуть ее локтем, чего она в припадке восторженной благодарности не заметила. -
Это же какая мне хорошая квартирка будет! Где ты такую нашел?
Сережа! Да как мне тебе спасибо-то сказать! Это же какое дело-то, Сережечка!
Слезы катились по ее бледным щекам.
– Я о такой и думать не могла! Разве я мечтала?
Я прибавил газу, обошел грузовик, перестроился еще дальше влево.
Светофор мигнул. Притормозив, я вклинился между каким-то
“Запорожцем” и возмущенно гуднувшим “крайслером”.
Алла Владимировна была так явно сражена моим предложением, что я невольно начинал преисполняться к ней довольно теплыми чувствами. Готово дело. Готово. И на всякий случай незаметно поплевал через левое плечо.
– Мамочка моя! – голосила она, размазывая слезы кулаком. -
Мамочка моя если бы видела!.. Валюша! Ты помнишь мамочку?
– Помню, – ответствовал брат ее Валентин. – Еще бы.
– Она бы умирать не захотела! Такая квартира у доченьки ее, у
Аллочки! Балко-о-о-ончик! Матра-а-а-а-асик! Чи-и-и-и-истенько!..
– Конечно, – согласился Валентин Владимирович. – Жить и жить в такой квартирке. Что говорить…
– Как благодарить-то? Чем ответим? Валюша!
– Да уж… конечно… квартирка что надо.
– Не то что раньше! Раньше-то Сереженька не нам, а Голубятникову хорошие квартирки предлагал. А теперь нам вот какая квартирка, а
Голубятникову… – Алла Владимировна икнула и вперилась в меня взглядом голубых и совершенно безумных глаз. – А что
Голубятникову? Сережа, что Голубятникову? А что Голубятникову,
Сережа? Что Голубятникову? Голубятникову-то что? – снова и снова настырно повторяла Алла Владимировна.
– Голубятникову? – как можно более равнодушно переспросил я. -
Да ничего особенного… Позавчера показал ему одну квартиру. На первом этаже, правда. Но он согласен.
– А сколько метров? Метров-то сколько у Голубятникова?
– Да какая вам разница, Алла Владимировна! Вам ведь ваша квартира-то понравилась? Уверяю вас: у Голубятникова хуже.
– Нет уж, Сережа, вы скажите!
– Ну сколько метров однокомнатная в панельной пятиэтажке? – раздраженно поинтересовался я. – Тридцать с половиной.
На самом деле было тридцать два.
– А у нас?
– А у вас тридцать четыре. Только в полноценном кирпичном доме, на четвертом этаже, с балконом. С кухней! С лифтом! С матрасом!
Есть разница?
– Ага. Здесь у меня комната двадцать три. А у него пя… пятнадцать. Теперь ему три… тридцать. А мне, значит, тридцать четыре?
– Ну и что? – спросил я, яростно вруливая в арку. – Вы о себе подумайте, Алла Владимировна! Вы же не первый день расселяетесь!
Вам мало, что ли?
Алла Владимировна опять икнула, а потом выговорила басом, оборачиваясь:
– Валентин! Это что же такое у нас получается?!
16
Степаша запаздывал, я слушал доверительное бормотание Нины
Михайловны, иногда кивал и поддакивал, а думал все о ней, о ней, проклятой! – об Алле Владимировне Кеттлер.
Господи, ну почему ее заклинило на Голубятникове?..
Конечно, Алла Владимировна Кеттлер – это особый случай. Это как бутылка с прокисшим шампанским. Того и гляди, даст в потолок и всех уделает…
Вот и дала.
И дала просто-таки с необыкновенной силой!..
Я снова вспомнил, как подвез их к дому… Алку уже разобрало как следует. Нет, ну откуда в такой субтильной дамочке столько голоса? И ведь какого – пронзительного, как железом по стеклу… бр-р-р-р!.. Я понимал, что урезонивать ее – это все равно что уговаривать самум или землетрясение. Единственным выходом было бежать без оглядки. Но я даже и убраться не мог! То есть не мог без ущерба для ее здоровья: из машины Алла Владимировна, вопя, все никак не могла вылезти целиком: раскорячилась впополам – одна нога уже на асфальте, другая на полике. В конце концов мне пришлось ее немного подтолкнуть… А пока она в этой позиции разъясняла, кто чего стоит, кто чего хочет и кто что получит в итоге, брат ее Валентин мирно стоял у водительской, у моей то есть, дверцы, склонив голову набок и прислушиваясь к визгливым воплям своей бешеной сестры с явным интересом, – хотя в том, что она говорила, ничего нового не было.
Ну что с ней, с безумной теткой, поделаешь? Да и зачем ей, если вдуматься, отдельная квартира? Ни к чему. Ей все равно, где водку трескать. В коммуналке даже лучше – будет кому “скорую” вызвать, когда вальтов погонит…
Дустом таких посыпать! Как тараканов.
– Да, да, – сказал я. – Конечно.
Дустом, дустом… Однажды я привел покупателя в квартиру, лишь накануне освобожденную жильцами. Это была однушка в панельке, и прежде жили в ней пятеро – муж с женой, двое детей и кошка, – и если кто-нибудь из них хотел ненадолго присесть, ему приходилось взять на руки что-либо из скарба. Покупатель волновался – квартира, по его словам, совершенно ему подходила, цена тоже устраивала, и ему не хотелось бы упустить выгодную покупку. Мы воодушевленно переговаривались в предвкушении удачи. Я отпер дверь и легонько подтолкнул его вперед жестом гостеприимного хозяина – ведь всегда приятнее входить первым. Когда он шагнул через порог, ему на голову с притолоки с неприятным шорохом обрушился рой тараканов – конечно, если слово “рой” применимо к плотно слепившемуся сообществу этих милых насекомых. Случившееся произвело на него сильное впечатление – во всяком случае, с тех пор я его не видел. Что же касается меня, то я понесся в ближайший хозяйственный, купил огромный баллон какой-то ядовитой жижи и обильно залил ею все, до чего мог дотянуться. На следующий день к вечеру я сметал их веником в кучи и ведрами спускал в канализацию…
Вот такой бы штукой – и Аллу Владимировну Кеттлер!
– Естественно, – кивнул я. – Еще бы.
Прав Константин – есть же люди, что умеют работать с таким контингентом! В сущности, это не трудно. Денег дать в долг… пару недель поить… втереться в дружбаны. Потом р-р-р-раз – перемена участи: пора за все хорошее бабки на стол! Нет бабок?
Ну извини, брат, извини, сестра… тогда переедем в славный город Павлов Посад. Нет, что вы, никто никого не неволит. Полная свобода. Хочешь – в Павлов Посад. А не хочешь – послезавтра у помойных баков найдут. Говорят, все выбирают Павлов Посад…
Но я не умею.
А чисто теоретически интересно, конечно, вообразить, что бы сказала Алла Владимировна, обнаружив, что я хочу стать ее другом. Сидеть в ее закисшей комнатенке, гонять в магазин, выпивать и беседовать о бесчестии коварного Голубятникова… Да ничего бы не сказала. Подумаешь. И почище дружили. Нормально.
Всякому человеку есть чем гордиться…
– Что?
– Я говорю, такие люди попадаются, что просто нет с ними никакой возможности!..
Я снова согласно кивнул: вот уж что да, то да.
Нина Михайловна продолжала монотонно ворковать, совершая руками мелкие взмахи и время от времени возмущенно тряся головой.
Ничего содержательного она не говорила, и поэтому я все кивал, а думал между тем о своем. У Огурцова я взял тысячу авансом под расселение Алкиной квартиры… тысячу теперь придется отдать, будь она трижды неладна, эта тысяча… Где ее взять-то? Вообще, почему все время нет денег? Этот вопрос оставлял после себя в груди ощущение неприятной сухости. Нужны, ой как нужны – и много; а нету. Опять вляпался, почти равнодушно поставил я диагноз. Степаша запаздывал, а матушка его несла что-то с Дону, с моря… занимала время. Тоже хороша, ничего не скажешь. Та еще штучка. Бог ты мой, откуда же столько придурков на мою голову?..
– Нет, ну вы представляете?!
– Да-а-а…
– А ведь до четвертого класса он замечательно учился! Вы не поверите: учителя души не чаяли.
– Да, да…
До четвертого класса. Понятно. Спиноза. Яблочко от яблоньки…
– И очень, очень скромный всегда был мальчик. Другие, знаете… самонадеянные такие – не надо того, не надо сего! Молодость-то играет в одном месте. Вот они и топырятся – я сам, я сам!.. А
Степаша так и сказал: нет, мама, я без репетиторов не поступлю.
Он мальчик серьезный, может силы свои оценить. Все сам рассудил: так и так, говорит. Сели мы с ним, поговорили по душам… Нет, мама, давай нанимать. Ему четыре экзамена нужно было сдать… первый математика. Ну, конечно, на пятерку-то я не рассчитывала.
Там, знаете, как все так устроено?.. ужас! Своих-то тянут… сват-брат… знаю я это все! Они-то своих, а о моем кто подумает? Он ведь сын! Сын есть сын, никуда не денешься.
Ребенок! Ребенку и сорок лет будет, а для матери все дитя!.. А потом, знаете: ведь без отца. Кто же ему еще поможет?
Нина Михайловна мелко рассмеялась и вся вдруг пошла добрыми морщинками – ну просто как Ленин на фотографиях.
– Мать есть мать, – добавила она со вздохом, снова расправляя свой белый лоб до прежнего состояния. – Что делать? Полгода репетиторы ходили. Все в один голос: мальчик очень одаренный.
Особенно физичка. Очень, очень, говорит, одаренный! Его бы, говорит, прямо в спецшколу какую! Только ленится немножко.
Светлана Иванна. Пальчиком так, знаете, погрозит – немножко, говорит, ленится… А с математиком-то мы промазали. Я уж ему и так и этак: Альфред Семеныч, вы уж помягче… мальчик одаренный… ну, знаете как?.. нервная система все-таки.
Пыр-фыр! Я, говорит, не сиделка. При чем тут сиделка?.. Я, говорит, все делаю, что могу. Бессердечный какой-то человек оказался… знаете как? люди-то разные.
Она вопросительно смотрела на меня, ожидая подтверждения, и я кивнул – конечно, мол, разные. Еще бы не разные. Как-то раз я стоял в набитом вагоне рядом с каким-то старичком. Со скамьи поднялась женщина, а на ее место сели две. Старичок тогда тоже покачал головой и потрясенно пробормотал: “Какие все-таки люди разные!..”
– …И вот итог: на математике-то и срезали. Я без памяти! Что?
Как? Куда? Я к брату! Только руками разводит. Нет, ну вы представляете? Вот такие родственники. Когда кому что-нибудь, так сразу, а когда мне какой пустяк… ах, да что говорить!.. Я на апелляцию! Понимаете?
– Ну да, – подтвердил я. – Куда ж еще?
– Никому нет дела! У ребенка жизнь ломается – им хоть бы хны!
Особенно одна там женщина… вот фамилию не помню… змея!
Просто змея! Какие дети у такой вырастут? Тычет мне Степашину работу – а что мне тыкать? Я в этом ничего не понимаю.
Намалевали красным как для быка – вот и вся комиссия!..
Нина Михайловна перевела дух.
– Какой-то, знаете, он у меня невезучий. На других посмотришь – прямо в руки все идет. Другие как-то за себя сказать что-то могут… я, я! Только и слышишь – я, я! Раньше-то говорили: я – последняя буква в алфавите… А мой – ну просто теленок, честное слово. Вот и с машиной с этой тоже. Или девушек его взять… Вы понимаете: ведь приличному юноше не с кем завести отношения.
Разве это девушки? Проститутки, а не девушки. – Нина Михайловна брезгливо сморщилась и настойчиво повторила: – Прос-ти-тут-ки!
Как одеваются! Как смеются! Курят! Тут у него появилась эта… -
Нина Михайловна сделала короткую паузу, вытянула губы дудочкой и произнесла почти так же, как предыдущее: – Мо-дель.
Представляете? Без юбки ходит. Трусы вот такие, вот досюда только, – и сапоги. А? Можете представить? Я говорю:
Степашенька! Ну где же твои глазыньки? Где ж, говорю, глазыньки-то твои, сынок!..
В прихожей послышалось щелканье замка, скрип двери, и через пять секунд Степаша появился в комнате, заорав с самого порога так, что я вздрогнул от неожиданности:
– Ну что? Договорились?
Это был худощавый юноша лет двадцати трех, коротко стриженный и довольно броско одетый: розовая майка с синими разводами, фиолетовые джинсы и необыкновенно продвинутые в техническом отношении кроссовки: при каждом его шаге (а на месте Степаша почему-то не стоял, мотаясь, словно заведенный, из угла в угол) они музыкально мурлыкали, одновременно поражая воображение голубыми вспышками в глубине толстых прозрачных подошв. Поверх майки была надета хорошей кожи желтая куртка, которую, на мой взгляд, сильно портило подробное изображение златоперого орла с растопыренными стальными когтями, хищно свергающегося с небес на геральдическую змею. На шее у Степаши поблескивала золотая цепь, простота которой не искупала сложности часов на левом запястье.
Этот сверкающий механизм жил полнокровной самостоятельной жизнью: то и дело попискивал, позванивал, иногда что-то бормотал и безостановочно гнал мелкие радужные картинки по цветному дисплейчику. Время от времени Степаша смотрел на него или между делом зачем-то нажимал одну из многочисленных кнопок сбоку.
Смысла его действий я не постиг, однако было очевидно, что к банальному “который час” они не имели никакого отношения. Кроме того, в левой руке Степаша держал бутылку пива “Корона”, из которой в процессе беседы время от времени отхлебывал, причем на шее у него двигался большой острый кадык. Надо сказать, меня всегда занимал вопрос: если в двенадцать часов дня человек пьет пиво, то что он пьет в двенадцать часов ночи? И если ничего, то как ему это удается? Впрочем, интересоваться этим сейчас было явно не ко времени.
– Ну что? Столковались, что ли? – повторил Степаша хриплым уверенным голосом, за которым, закрой я глаза, мне помстился бы солидный муж.
– Чу, чу, чу, детинушка! – сказала Нина Михайловна, любовно глядя на сына и в то же время скованно улыбаясь в сторону гостя, в мою то есть, отчего лицо ее приобрело черты окоченелости. -
Вот какие мы быстрые! А что нужно сказать, когда входишь? Ну ладно, ладно… Сразу в бутылку. Ты же сам хотел поговорить,
Степашенька. Я же тебе говорила, что Сергей, – (теперь она попросту показала на меня пальцем), – говорит, что…
Я ошеломленно вертел головой по мере безостановочных и резких
Степашиных проходов от двери к окну и обратно.
– Говорила, говорит! – зычно воскликнул он, возмущенно махнув на ходу бутылкой. – Ма, что ты гонишь? Опять под клаву косишь?
Может, у тебя критические дни?! Так пойди послипай! Я тебя сколько напрягать буду? Мне бабки нужны – бабки, а не рамсы! Не догоняешь, что ли? Мне пацаны счетчик включат! Тебе по барабану?
Нет, конечно, – (голос Степаши обрел неожиданную глубину, он выпятил живот и закачался из стороны в сторону, желая, видимо, показать то состояние беззаботности, в котором находилась мать),
– ты тут сидишь клава клавой, мумишься! Тебя-то на счетчик не ставят! Тебе что стрематься? Это ж у кинда матка до кадыка, а тебе до банки. Так, что ли?.. Ты что, ма? Я просто офигеваю! Ты прикинь: им кал встряхнуть – как два пальца обоссать! Этого хочешь? Ты будешь лишних три кола из своей кислой хавиры выжимать, а мне беду под ребро?! Так, что ли?
– Ты что! – закричала в ответ Нина Михайловна, начав ни с того ни с сего подпрыгивать, как крышка на чайнике. – Ты как с матерью разговариваешь, скотина! Я для тебя все, а ты! Ты сам что! Сколько можно?! Ты что?! Как ты говоришь! Приди в себя!..
– Не надо меня лечить! – гаркнул Степаша. – Ты лучше себе башню поправь! Что, блин, не втыкаешься? Что вы тут шуршите? Мне бабки, бабки нужны, а не шуршание ваше!
– Почему все время деньги?!
– Нет, пожалуйста: ты давай кочумай, а мне вилы! Для начала пару раз отмаздают, а потом по келдышу не глядя! Ха-ха-ха! Ништяк!
Из-за того, что я их поганую лайбу коцнул, мне кеды в угол ставить. А ты будешь тут сидеть и считать копейки. Правильно!
Тебе-то что!
– Копейки?! Это для тебя – копейки! Какие кеды?! Что ты сам? Ты когда? Сам?! Тебя!!! Это все, что у меня! Что ты сам?! Где есть?! Почему? Ко-пей-ки?! Я тебя спрашиваю – ка-а-а-а-пе-е-е-е-ей-ки?!
– Ты на это запала? Ништяк, пусть я ласты склею!
– Пусть!
– Вот именно – пусть!
– Да, пусть!
Выкрикнув это (похоже, на пределе сил), Нина Михайловна пошатнулась.
Я чувствовал неприятное сердцебиение, вызванное тем, что, с одной стороны, мне хотелось вникнуть в суть произносимого, а с другой, еще не вникнув толком, я уже с большим трудом пересиливал острое желание схватить Степашу за ворот роскошной куртки, подтащить к балконной двери (это можно было бы упростить, дождавшись момента, когда Степаша именно возле нее и находится; в крайнем случае одним коленом поддых и здесь же, переступив, вторым – в нос, чтобы не брыкался) и рывком перевалить поганца за перильце. “Чтоб вас обоих разорвало!” – подумал я, но все же вскочил и поддержал Нину Михайловну под локоть.
– Степашенька! – простонала она, опираясь. – Степаша!
– Что Степаша? Двадцать пять лет Степаша! – отвечал сын. – Опять
Степаша! Ты что? Лажать меня сколько можно? Мы ж с тобой запрессовали – а ты опять динамишь! Не, ну я от тебя съезжаю! Ты что, ма? Ты годами этот флэтуху толкать собираешься? Так и скажи: мол, так и так, не будет тебе ни хруста, пусть тебя режут лучше, чем я хоть рубль отсвинарю!
– Боже!
Нина Михайловна схватилась за виски и села на стул.
Степаша неожиданно замер на месте и долгим взглядом посмотрел в лицо матери. Должно быть, увиденное его удовлетворило, и он зашагал дальше.








