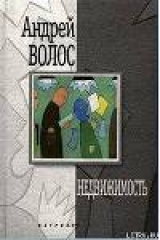
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
21
Мартин Кроненгер говорил по-русски с тягучим западным акцентом: мы понимайт… вы понимайт… это есть хорошая идея… ми будем сотрудничайт… и т. д., одет был с иголочки, благоухал дорогими ароматами, приезжал на “саабе”; за рулем сидел секретарь – бородатый русский мужик лет тридцати пяти, которому очень подходила его фамилия – Прикащиков. Секретарь открывал дверцу, носил за шефом портфель и подавал телефон, а также вступал в беседу, если Мартин Кроненгер испытывал затруднения в использовании какого-либо русского оборота. Все вместе выглядело чрезвычайно респектабельно.
К риэлторскому бизнесу Мартин Кроненгер не имел никакого отношения – он был главой датской полиграфической фирмы, сделавшей ставку на русский рынок, почему и торчал безвылазно в
Москве. Заниматься продажей квартиры его вынудило стечение смешных и по-житейски понятных обстоятельств, немалую роль среди которых играла дружба. Дело в том, что во время частых и продолжительных отлучек Мартина Кроненгера в Копенгагене его замещал младший партнер и друг – Николай Владимирович Кравец, русский, нашедший в Дании вторую родину, преуспевший там, женившийся на датчанке и соответственно сворачивавший остатки дел в России по причине их совершенной исчерпанности. Дочь
Кравца, Лена, вострила лыжи в ту же сторону – в Копенгагене наличествовал жених-датчанин, а здесь полугодовалый ребенок от него и оформленная виза. Единственное, что еще держало в Москве,
– это ее законное желание убедиться, что квартира продана, а деньги благополучно переведены.
Интерес был понятен. Однокомнатная квартира на Преображенке принадлежала Кравцу, однако вырученную за нее сумму он предполагал подарить дочери – причем, ввиду ее скорого отъезда, плату хотелось бы получить, естественно, не в Москве, а в
Копенгагене. Приурочить один из своих редких приездов в Москву к сделке с порядочным покупателем, у которого, разумеется, нашлось бы множество причин настаивать на удобных ему сроках, Николаю
Владимировичу Кравцу было затруднительно. С другой стороны, не хотелось и отдавать квартиреху абы как, за бесценок. Переводить на имя Лены, чтобы она сама потом ею занималась, тоже не с руки: и впрямь таскаться по присутствиям с младенцем на руках чрезвычайно обременительно. Кравец прикидывал и так и сяк и в конце концов вместе с Мартином Кроненгером нашел следующее решение: оказавшись на несколько дней в Москве, договором купли-продажи переоформил квартиру на Владислава Егоровича
Прикащикова, секретаря Мартина, – с тем, чтобы, невзирая на отсутствие Кравца, Мартин Кроненгер – друг и доверенное лицо – смог бы без особой спешки найти реального покупателя и перевести деньги в Данию на имя Лениного жениха.
Долго ли, коротко, но реальный покупатель нашелся. Сказать, что мне доставляло удовольствие иметь с ним дело, – значит покривить душой. Однако плох тот риэлтор, который не сумеет заместить неприязнь в своем озлобленном сердце самой искренней привязанностью. Мы колесили по городу в поисках подходящей квартирки, я рассуждал о степенях риска на рынке недвижимости, а
Стреповиков удовлетворенно мычал, когда мои слова находили в нем хоть какой-нибудь отклик.
Он был невелик ростом, очень плотен и упитан сверх меры – холодные, стального цвета глазки помаргивали в складочках сальца. Кроме того, походка его демонстрировала неприятные последствия детского полиомиелита: шагал Стреповиков нешироко, переваливаясь на коротких и кривых, колесом, ногах. Ничто так не сближает, как почти ежедневные вылазки по квартирным делам, однако Стреповиков о себе говорил немного. Кое-какие его замечания да еще переговоры, которые он без конца вел из машины по сотовому, позволяли заключить, что ему принадлежат несколько разнопрофильных магазинов (один из них был мебельный, двухэтажный, на Рязанском проспекте, мы как-то раз заскочили туда попутно, и я наблюдал легкую панику персонала, посеянную внезапным появлением хмурого хозяина). Квартиру он подыскивал для содержанки. Эта женщина – точнее, двадцатидвухлетняя девушка
– была единственным, о чем он с удовольствием рассказывал – многословно, без конца повторяясь и заполняя паузы бараньим блеяньем и матюками. Особенно Стреповиков напирал на ее рост и молодость; немало времени потратил также на то, чтобы попытаться объяснить мне, что же в конце концов делает мужчину мужчиной.
Главную роль в мужском становлении он отводил деньгам, хорошие же манеры стояли, похоже, на самом последнем месте – во всяком случае, молвить слово, не оснащенное спереди и сзади вспомогательными матерными, у него никак не получалось.
Квартира на Преображенке его полностью устроила, и мне было приятно увидеть наконец на жирной физиономии Стреповикова знаки воодушевления, свидетельствующие о скором окончании наших отношений. Единственное, что его смущало, – это необходимость послать двадцать четыре тысячи долларов на имя неведомого ему жениха. Технических проблем не существовало: Стреповиков имел несколько счетов за границей, с каждого из которых мог перевести требуемую сумму по указанным реквизитам. Ему лишь не нравилось, что придется отправить деньги лицу, не имеющему к сделке никакого отношения. “А тут-то нельзя отбашлять? – спрашивал он.
– После регистрации-то? Как-то через банк люди делают… а?” Я привычно растолковывал, что предлагаемая схема часто встречается на практике, в ней нет ничего заведомо опасного. Житейские обстоятельства. Бывает. Участвовал же я в сделке, когда триста двадцать тысяч переводили в Израиль – и ни копеечки не пропало, и как только пришло подтверждение, договор купли-продажи на тот коттеджик был зарегистрирован. И вообще, даже если, невзирая на очевидную солидность и порядочность партнеров, вообразить ситуацию, объяснял я, при которой они по той или иной причине, получив деньги, не захотят участвовать в государственной регистрации договора купли-продажи, каковая окончательно делает квартиру собственностью Стреповикова, регистрация будет произведена и без их участия, – правда, через суд. “Ну и на кой кляп мне этот суд? – недоумевал Стреповиков. – Не знаю… Валяй, если уверен. Мне сказали, ты по этой петрушке фишку рубишь. Да ладно, ты ведь сам понимаешь…” Еще и еще раз вникнув во все обстоятельства и тонкости продажи, неоднократно и подробнейшим образом изложенные мне Мартином Кроненгером, я в конце концов решительно пресек сомнения Стреповикова. Он почесал лысую репу и повторил: “Ну, сам смотри тогда, что к чему… Ты ведь понимаешь”. И посмотрел на меня со значением, несколько раз моргнув свиными глазками, а я ответил, что понимаю (про себя еще подумав: уж не меньше твоего, жирная твоя морда, учить меня будешь! Торгуй-ка лучше своими табуретками, а в риэлторский бизнес не суйся!..).
Конечно, жизнь складывалась бы иначе, если б два года назад человек, называвший себя Мартином Кроненгером, и в самом деле оказался бы датчанином, а не эстонцем, как я запоздало догадался. Впрочем, это именно догадка – я и по сей день не знаю, кто он такой на самом деле. Паспорт Мартин Кроненгер показывал, и паспорт был отчетливо датский, со всеми мыслимыми и немыслимыми причиндалами – с голограммой, с давлеными печатями и головастыми орлами… Однако, учитывая, что датских паспортов я отродясь в руках не держал, Мартин Кроненгер мог конечно же подсунуть мне что угодно. Напиши только DENMARK красивыми буквами – и дело в шляпе.
Договор купли-продажи был подписан, Стреповиков распорядился, деньги пошли в Данию, и на пятый день, не дождавшись звонка ни от Прикащикова, ни от шефа его, Мартина Кроненгера, я позвонил сам. На месте их не оказалось. Детали моих розысков малоинтересны. Ни Мартина Кроненгера, ни секретаря его
Прикащикова Владислава Егоровича я более не видел и голосов их, отчасти жизнерадостных, отчасти озабоченных сложностями той самой жизни, что приносит не только заботы, но и кое-какие радости, более не слыхал.
В суде мы со Стреповиковым оказались четвертыми, а за нами чуть позже появились еще два претендента на справедливость. Нечего и говорить, что все желали зарегистрировать-таки договор купли-продажи на квартиру номер 37 в доме 4 по улице Новоткацкой
– пусть даже и через суд. Все семь купчих были оформлены на протяжении двух дней (что, на мой взгляд, потребовало ювелирного расчета со стороны исполнителей), и после подписания каждого из них на банковский счет в Данию уходило от двадцати четырех до двадцати девяти тысяч. Стихийное расследование, предпринятое группой энтузиастов в составе шести риэлторов и одного шалого мужика (не имевшего представления о том, чем справка ЖСК отличается от свидетельства о праве на наследство, но то и дело грозно восклицавшего: “Мне плевать! Я не за правду бьюсь, а за бабки!..”), показало, что у каждого из семи нотариусов, удостоверявших сделки, осталось в архиве по экземпляру одинаково поддельных (или, если угодно, одинаково подлинных) договоров купли-продажи на имя Прикащикова, – и лично для меня ничего нового в этом уже не было. Поскольку во всех договорах была указана, разумеется, не истинная стоимость квартиры, а (в целях сбережения сумм, идущих на нотариальные сборы) инвентаризационная по справке БТИ, нотариусы выглядели совершенно спокойными: даже если бы суд решил повесить на них ответственность, их ущерб (равно как и компенсация нашего) оказался бы копеечным. Мы заплатили меньше всех – и это было единственное, что могло в этой безнадежной ситуации порадовать.
Стреповиков в отличие от меня радости не выказывал. Он был так же немногословен, как и прежде. Ему, по его словам, все это было по барабану. Он вручил мне доверенность на право ведения дел и получение денег, ежели таковые воспоследуют. Я ему – двадцать четыре тысячи долларов США стодолларовыми купюрами нового образца. “Ну, Серега, прощевай, – благодушно сказал он напоследок. – Ладно, чего там… я на тебя не в претензии.
Мебель будешь покупать – заглядывай. Ты человек обеспеченный, подберем чего ни там…”
Кастаки считал деньги. Я посмотрел на его внимательное лицо – брови вскинуты, губы поджаты – и подумал, как сильно все-таки
Шурик изменился за эти годы. Памперсы его изменили. Гладок стал.
Говорит так уютненько: дождичек, водочка, лимончик. И уже обходится без теорий. Все больше на практике решает поставленные жизнью задачи… Ну и ладно. А кто не изменился? Я не изменился?
Мы уже выпили по паре-тройке рюмок, но легче мне не стало, наоборот – тяжесть в груди стянулась до размера кулака, начала горячеть, я вспомнил лицо Павла, каким оно было вчера, птичье выражение его глаз и то, как он пытался выхватить из накатывающей на все темноты хотя бы нас, сидящих у постели, – стало жарко глазам, я несколько раз сморгнул, потом без раздумий налил половину фужера и тут же выпил.
Кастаки досчитал деньги и сунул обратно в конверт.
– Две двести пятьдесят. Двести пятьдесят – это за два месяца: за прошлый и за этот, – сказал я зачем-то. И без моих уточнений все было ясно как дважды два. Язык развязывался. – За этот. Ну за тот, который кончился. Ты понимаешь. Сентябрь то есть. А за октябрь через недельку, ладно? Через недельку не поздно? Сейчас что-то… в общем, какая-то напряженка сейчас с этим делом и…
– Да ладно, чего ты. – Кастаки сунул конверт в карман пиджака. -
Разберемся.
– Короче, непруха, Шурик, – сообщил я, наливая ему и себе. -
Что-то все никак не вяжется. Знаешь, я о чем думаю? Нет, вот ты смотри. Я у тебя двадцать брал. Думал, за полгода отдам. Ну за год от силы – это если нога за ногу. И что? Еще три должен. И процент-то ведь небольшой…
Шура поморщился.
– Да нет, я не к тому! Я просто рассказываю. Да ну, ты чего,
Кастаки! Я же тебе за это очень благодарен, правда… Ну, в самом деле, какого черта. Мы же рассудили. Ты бы положил их в банк и получал бы – ну не два в месяц, ну полтора процента бы получал… Но тебе-то в банке было бы надежней, верно? Я же понимаю. Ты мне двадцатку дал – а кто его знает, может, я только чудом под трамвай не попал с твоей двадцаткой? Нет, ну бывает же! Бац! – и готово. И плакали твои денежки. Верно? То есть риск. А за риск надо платить. Нет, ну правда – надо же? Вот я и платил. Все нормально, чего ты.
Шура поднял брови, и лицо у него сделалось отсутствующее.
– Ну-ну, – сказал он, отрезал кусочек мяса, положил в рот и стал аккуратно жевать, глядя куда-то мимо меня. – Говорено-переговорено.
– Я шучу, конечно, про трамвай… не попал и не попаду… но все-таки! Ты пойди попробуй вот так на ровном месте займи двадцатку!.. Да никто не даст! Ни у кого нет… а у кого есть, так побоится… или, например, машину хочет покупать… или еще чего-нибудь. В каждой избушке свои погремушки. Ну и что было бы?
Я, конечно, сам виноват, но… Как вспомню этого Стреповикова – у-у-у-у!..
Я замолчал, подумав, что загудел сейчас точь-в-точь как Будяев.
– Да ладно тебе, – поморщился Кастаки.
– Не-е-е-т! – Я покачал пальцем. – Ты не должен думать, что я думаю, что ты думаешь, то есть… э-э-э… ну, я хочу сказать – вот, мол, процент берет и вообще… а? – Мне хотелось еще добавить что-то про честность и всякое такое, но почему-то стало скучно.
Тогда я просто поднял рюмку:
– Ладно, все… Давай теперь за твое прибавление еще раз.
Сколько уже? Полгода? Семь?
– Девять.
– Во, девять уже… видишь. Уже поровну – девять до, девять после. Девять там, девять здесь… Это большое дело, Шурик. Это ты как молодой себя ведешь. Раз – и опять замолодел. А Петьке-то сколько?
– Семнадцать скоро.
– Во! Вот так! Семнадцать!
Мы чокнулись.
– Ты закусывай, закусывай, – сказал Шура. – Что-то ты, Серега, воодушевился сверх меры…
Я опрокинул рюмку и посмотрел в тарелку.
– Знаешь, Шура, – сказал я, тыча вилкой в аппетитный кусок свинины. Потом поддел картофельную долечку, положил на язык, сжал зубами – она захрустела. – Вот я однажды шел мимо лужи.
Такая громадная лужа. Понимаешь? С водой такая лужа…
– Понимаю, – кивнул Кастаки. – Лужа всегда с водой. Без воды – это, как правило, уже не лужа.
– Вот, с водой. Нет, ты не смейся. Такая огромная лужа. Занимает полполосы. А с той стороны – такая большая колдобина. В асфальте. Ну яма такая…
– Яма, – подтвердил Шура.
– И мимо меня проехали две машины. Две. Водитель первой, заблаговременно заметив пешехода… ну меня то есть… взял влево. Туда, к колдобине. Хрясь! – не знаю, как ступицу не разнес. Зато на меня не попало ни капли. Вот. Водитель второй заблаговременно разглядел колдобину. А не меня. И принял резко вправо. Ш-ш-ш-ша!.. Меня окатило с ног до головы, понимаешь?
Зато машина совершенно не пострадала. О чем это говорит, Шура?
– Не знаю, о чем это говорит, – ответил Кастаки. – Ты ешь, ешь.
– Вот и я не знаю, о чем это говорит, – согласился я и взял еще картофелинку. – Я хочу сказать, что по этой луже ничего не поймешь. Чтобы понять, в каких пропорциях делятся в мире добро и зло, пришлось бы стоять у лужи вечно. Нет, ну никуда не денешься
– нужно же получить статистически достоверный результат!..
– И что же мы поймем по статистически достоверному результату? – усмехнулся Кастаки. – Что есть добро, а что – зло?
– Вот как раз это-то совершенно не важно. Можно принять условно.
Допустим, грязный плащ – зло. А расколотая ступица – благо. Или наоборот: расколотая ступица – зло, а тогда грязный плащ – благо. Какая разница? Наплевать. И все равно: что нам скажет статистически достоверный результат? Допустим, сорок пять процентов – в лужу. Пятьдесят – в колдобину. Пятеро из ста были пьяны и вообще ничего не заметили. Так что же, Шура, вот эти-то убогие соотношения и есть пропорции добра и зла? Те самые непостижимые пропорции, а?
Смеясь, я снова погрозил ему пальцем.
– И потом: ну что все деньги, деньги… Потом раз! – и уже ничего не нужно. Это как?
– Все в свое время, – рассудительно заметил Кастаки. – Ты же сам сформулировал: все там будем. Это правда. Но еще не все там, понимаешь? Поэтому такой раздрай. Кому-то уже не нужно… а кому-то еще нужно. Поди разбери…
– Ну да, конечно, – согласился я, глядя в тарелку. Мясо остыло.
– Да, разумеется… то-то и оно.
Все вдруг снова потускнело. Зачем я сказал? Какой смысл без конца вспоминать об этом? Я ведь могу не думать. Люди по-разному устроены. Наверное, кто-то не мог бы не думать. А я могу: щелк – и я выключил эту тему. Все, хватит. Горе бесплодно. Что толку горевать? Ничего не вернешь, ничего не поправишь. Зачем терзать себя этими мыслями? – если бы я раньше узнал… если бы то, если бы сё… Ни черта бы не изменилось. Нет, нет. Все. Жизнь идет в одну сторону. One way ticket. Обратной дороги нет. Ба-ба-бам.
Проехали. Только фонарики, фонарики… Нет никакого резона что-либо помнить, потому что все это… что?.. На меня вдруг накатило острое пьяное прозрение. Я отчетливо вспомнил запах.
Вот как это было раньше. Четыре года назад. Запах – вот что. В психосоматическое отделение не достучишься. Стучишь, стучишь – заперто. Потом сестра все-таки услышит, откроет. И тот зверий запах, что душил уже на лестнице, шибает в полную силу. Впрочем, к запаху быстро привыкаешь. Небольшое усилие – и его перестаешь замечать. Все в жизни так. Воля есть воля. Стоит только захотеть
– вообще ничего не увидишь и не услышишь. Старуха на соседней кровати кричала басом: “Доченька! Постриги мне ногти!” – и тянула вверх желтые руки. Никто не обращал на нее внимания. Я тоже не обращал. Я сидел у бабушкиной постели. Бабушка лежала на боку и дышала мелко-мелко, часто-часто, будто бежала, бежала, бежала – и вот упала отдохнуть. Она уже сутки не приходила в себя. Что значит – не приходила в себя? Она давно была не в себе. Месяца полтора. А сутки назад впала в забытье. Я осторожно положил ладонь на влажный морщинистый лоб. И вдруг она, в глухом своем беспамятстве почувствовав все же прикосновение моей руки, не открывая глаз, удивленно подняла брови. Значит, под этой влажной морщинистой и родной кожей еще что-то жило, мерцало – длилось сознание, продолжалась жизнь, не представляющая себе того, что она может быть не бесконечной. Своим прикосновением я вторгся в пространство ее сужающегося мира – и, может быть, именно в это мгновение возник там, в сумерках, на закате, перед ее глазами, досматривающими фильм, – и, может быть, даже сказал что-то, а она мне ответила… но что сказал? и что она мне ответила?.. никто не знает, и я не знаю и не узнаю уже никогда.
– Да ладно тебе, в самом деле, – недовольно сказал Шурик. -
Разрюмился. Что с тобой? Как будто первого хоронишь. Выпей еще, что ли.
Я отмахнулся:
– Сейчас, погоди… вода-то у них есть, у чертей?
Он щелкнул пальцами.
Мы помолчали.
– Вообще, конечно, надо Верке сказать, – задумчиво произнес
Кастаки, когда официант удалился. – Кто у тебя остался-то? Что ж одному… Пусть она тебя женит.
Вода шипела и пузырилась в толстом стакане.
– Что значит – кто остался? Навалом народу. Вот скоро их перевезу… – Я замолчал на полуслове, почувствовав вдруг тяжелую, страшно тяжелую, ну просто свинцовую досаду. “Перевезу, перевезу…” Ах, черт, да сколько же это может тянуться! С долгами никак не расплетусь, идиот… Слюна почему-то стала кислой. Я проглотил ее, кое-как рассмеялся и сказал, глядя в сторону: – Опять жениться? Пожалуй, рано. Потерпи маленько.
– Почему?
– Почему? Гм… Не могу обременять собой ни в чем не повинную женщину. Ты представь – со всеми своими проблемами сесть ей на шею. Нет.
Кастаки хмыкнул.
– Джентльмен. Пока может стоять, пьет стоя. Понятно… А у Верки подружек – не счесть. Все такие хорошенькие, – промурлыкал он. -
Заглядение. Есть, например, одна такая Маша, так она такая, знаешь, раскосая… и вообще.
Он подробно толковал о какой-то там Маше, а я ненадолго задумался, кое-что вспомнив, и, когда он замолк, сказал торжественно – может быть, несколько более торжественно, чем требовалось:
– Что там твоя Маша. Брось. Я вот встретил недавно очень милую девушку. Очень. Суровую такую… даже не знаю, как описать.
Очень серьезная. Что-то ее мучит. А что – неизвестно. Но красивая. Помнишь Бэлку Кливидзе? Похожа. Только другая совсем.
Упрется взглядом – и кажется, что, если сморгнешь, она исчезнет.
Смотрит странно – с ожиданием. Но это ожидание мне непонятно.
Да? В общем, что-то я ее никак не пойму…
– Это опасно, – заметил Кастаки. – Непонятное притягивает. Ты постарайся, пойми. А то, как всегда, сначала вляпаешься, а потом разберешься, – нехорошо, знаешь.
– Но обычно.
– Я же и говорю – как всегда, – согласился он со вздохом. -
Давай еще по двадцать?
– Давай. Нет, просто там что-то такое есть… не знаю. Откуда мне знать? Я с ней тремя словами не перекинулся. Все по делу.
Задаток, цена… уступите, не уступите. В общем, как на базаре.
Собственно, почему – как? Базар и есть. Торговля. Недвижимость.
А про жизнь мы не говорили. Она очень грустная.
– Мужик ее бросил, – сказал Кастаки, ставя бутылку. – Вот и грустная.
– Ну начинается… с чего ты взял? Там есть, конечно, какой-то мужик… коммерсант какой-то, хрен его знает. Сейчас в Париже.
По делам. Но скоро приедет.
– Естественно. У всякой девушки есть мужик. И не верь, если кто-нибудь скажет другое. С детьми?
– Нет.
– Ну тогда точно мужик бросил. Давай. Не чокаемся?
– Нет уж, чокаемся. Давай за тебя, Шура.
– И за тебя.
– Я про нее потом все узнаю. Понимаешь, мне сейчас неловко. Она подумает, я к ней клеюсь, чтобы какую-нибудь выгоду получить… между делом… понимаешь? Она клиентка моя. Нет, не моя. Ну не важно. Все равно неловко. Глупо. Дело есть дело, верно?
– Между делом иногда тоже, знаешь…
– Да ладно тебе. Тут совершенно все не так. Вот сделка пройдет, я буду свободен от прежних обязательств. И уж тогда позвоню.
Кстати, у меня и телефона-то ее нет. И никто не даст. Там такая
Марина одна, агентша… не даст она мне номера. Ты что! Телефон!
Это же в нашем деле каюк!.. Я напою Марине всякого про свою любовь, Марина мне даст телефон, я позвоню Ксении – и что скажу?
Неужели тоже про любовь? Черта с два! Я скажу совершенно другое!
Так, мол, и так, дорогая Ксения, зачем вам платить этой Марине, когда можно и без нее обойтись? Вас ведь цена не устраивала? Вы скидочку хотели? Пожалуйста: если будете со мной дело иметь напрямую – так на две тысячи меньше. Или даже на три. Закоротим
Марину – и все довольны. А? Годится?.. Нет, Марина мне телефончика не даст. Что ты! Это только после сделки. Как ты считаешь?
Я замолчал.
– Что-то ты мне не нравишься, Капырин, – сказал Кастаки.








