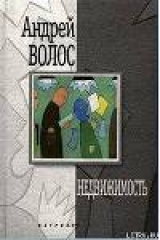
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
И все это было бы значительно лучше, чем то, что последовало на самом деле.
Потому что, когда минут через сорок мы кое-как утрясли наконец все вопросы и более или менее договорились, Кастаки раздраженно просвистел мне в ухо, что квартира ему не нравится и покупать он ее ни за что не станет, потому что не верит в возможность получения маломальского навара с такого дерьма.
Если бы он в ту секунду съездил мне по роже, я бы меньше удивился. Я крепко взял его за локоть, еще надеясь урезонить, и сказал, то и дело посылая улыбки в сторону Казанца: “Ты что,
Шура?! Ты же меня подставляешь!” Шура принужденно рассмеялся и поднял руки красивым жестом: мол, о несерьезных вещах заговорили. “Погоди, Шурик, – сказал я. – Тогда дай мне шестнадцать под пять процентов. На два месяца. У тебя никакого риска, я сам все проверну. Дай!” – “У меня нету”, – скрипнул
Кастаки, выпячиваясь в прихожую.
Во время последовавшей сцены один только Степаша, он же Кислый, сидел молчком, кусая губы. Он глядел то на одного из нас, то на другого – несчастный, с выражением совершенного отчаяния на физиономии и, казалось, готовый вот-вот разрыдаться; меня вдруг пробрали мурашки – во взгляде его я прочел точно такую же надежду и точно такое же разочарование, как в карих глазах
Ксении Чернотцовой. Мне стало его жаль, и из-за этого я затянул окончание разговора минуты на две, на три – все надеялся, что
Кастаки, болван, передумает; потом заорал: “Все, хватит! я умываю руки! идем отсюда! хватит базарить!..”, мы вывалились из дверей; Казанец яростно материл нас еще и на лестнице; Женюрка тоже гнусил в полный голос и грозил большими разборками; короче говоря, до смертоубийства не дошло, а с Шурой мы доругивались уже у машины.
Трясясь от злости и отвращения, я съел затем противную сосиску с кислым кетчупом возле кинотеатра “Салют”. В “Свой угол” я приехал последним, опоздав минут на десять. Без чего-то восемь залил полный бак вонючего бензина и взял курс на
Симферопольское. Дождь нагнал меня на полдороге.
24
Как всегда это бывает, неизъяснимая тяжесть копилась до той самой секунды, когда гроб скользнул в могилу и, не очень ловко направляемый двумя дюжими землекопами, глухо ударился о мокрую землю.
Звук удара подвел черту, и часы снова принялись исполнять свои прямые обязанности.
В той длинной череде осмысленных, не вполне осмысленных и совсем бессмысленных действий, что называются похоронами, не осталось ни одного неисполненного звена, если не считать поминок. Уже не нужно было стоять у гроба, глядя на изболевшееся, худое и темное, навек успокоенное лицо с плотно сжатыми губами и голубыми веками, туго натянутыми поверх неестественно больших глазных яблок; не нужно было делать вид, что именно сейчас предаешься скорби и вызванным ею глубоким размышлениям; не нужно было ходить на цыпочках, стараясь не тревожить воздух. В изголовье горели свечи, и как ни осторожно было движение живых возле мертвого, но все же и оно беспокоило желтые язычки потрескивающего пламени: тени оживали, шевелились, бесшумно прыгали со стены на стену; и лицо Павла тоже оживало: казалось, лоб его морщится, веки трепещут и губы вот-вот разомкнутся.
До поздней ночи возле гроба шла тихая, но напряженная жизнь, смыслом и содержанием которой было стремление к верному исполнению ритуала. Многочисленные старухи с монотонным шепотом кружили вокруг, как будто исполняя медленный шаманский танец или пребывая в блаженном наркотическом опьянении. Две самые авторитетные из них – такие же темные и бесшумные, как тени, летающие по стенам, но одна сухая и высокая, а другая плотная и размашистая – непрестанно и враждебно (хоть и очень негромко) препирались, поправляя друг друга и в доказательство своей правоты приводя в свидетели присутствующих. Обе они говорили свистящим шепотом, а если молчали, то с оскорбленными лицами. Я не мог уловить смысла их противоречий, поэтому послушно следовал любым распоряжениям. В результате меня оттеснили к самым дверям.
Время от времени появлялась новая старуха. Как правило, уже с порога она принималась ахать и ужасаться, прикладывая полупрозрачные темные ладошки к морщинистым щекам под концами черного платка. Каждая из них хотела бы отменить все предыдущие указания и дать свои, в целом похожие, однако принципиально отличающиеся неразличимо-мелкими деталями. В эти моменты авторитетные старухи ненадолго объединялись, чтобы не допустить искажений, и ставили ее на место.
Вынос был назначен на половину одиннадцатого, с утра нашлось множество дел, и мы с Людмилой разъезжали туда-сюда. Часов в десять в какой-то столовой на дальней окраине (там работала одна из родственниц) нам вручили четыре гнутых алюминиевых поддона, на три пальца залитых схватившимся столярным клеем, и если бы не
Людмилина подсказка, мне и в голову бы не пришло, что это поминальный кисель. Мы едва успели поднять их в квартиру, как оказалось, что уже нужно освободить проход, потому что четыре разноростных мужика, одетых в похожие коричневые костюмы, подняли гроб и несут его к дверям. “Нельзя тебе! Нельзя!” – шикала на меня Людмила. Однако, по обыкновению, пронести покойника на лестницу можно было не иначе как почти стоймя, и я упирался в шершавое неструганое дно и топал и сопел вместе со всеми.
Транспорт для похорон выделила экспедиция. Взамен она непременно желала получить свою долю траурного торжества. По дороге на кладбище тело пришлось завезти туда и на некоторое время оставить на двух стульях в холле за стеклянными дверями – чтобы дать возможность работникам экспедиции проститься с… как правильно сказать? С телом их бывшего сотрудника?.. с их сотрудником, населявшим некогда это тело?.. как ни скажи – все глупость.
И действительно, это было долго, маятно и глупо, потому что те, кто с Павлом и в самом деле работал, – то есть бок о бок с ним зимой и летом, в жару и мороз, в дождь и вёдро, и пьяный и трезвый, и посуху и помокру, и по болоту и по лугу, и по равнине и по горке, и молчком и с матюками таскал теодолит, нивелир и проклятущую рейку, – так эти и так все были здесь. Остальные двести человек, которым по местной селекторной сети приказали спуститься в холл, испуганно глядели на обитый кумачом гроб и шепотом спрашивали друг у друга: “Ой, а кто это?” Тем не менее краснорожий начальник сказал сухую, но неожиданно связную речь.
Из нее стало ясно, что экспедиция понесла невосполнимую утрату, что людей, подобных Павлу, по всей стране – по пальцам перечесть и что именно поэтому Павел много лет был его, начальника, правой рукой, – и оставалось непонятным лишь, почему он, начальник, путает отчество и величает Павла Петровичем вместо Ивановича.
Пустячная оговорка не испортила дела: во всяком случае, я, слушая и попутно размышляя над тем, кем и что будет сказано у моего собственного гроба, в конце концов невольно прослезился…
– По горсти попрошу, – сказал могильщик, отступая. – Пожалуйте.
Я поднял комок осклизлой мокрой земли. Эта земля ничего не стоила. Ее нельзя было ни продать, ни заложить. Можно было только кинуть ее в темный прямоугольник могилы и услышать, как она гулко стукнет по гробу. Я так и сделал – бросил вслед за
Людмилой и отошел на несколько шагов в сторону, вытирая пальцы.
Теперь у ямы снова теснились повязанные черными платками старухи. Были совсем древние – эти стояли парами, цепко держась друг за друга. Что помоложе, колготились, создавая живое колыхание. И те и другие одинаково жадно стремились заглянуть напоследок в темный зев разверстой могилы, как будто этот взгляд мог хоть на йоту прояснить их недалекое будущее. Я уже разобрался и знал, что все это – бесчисленные и разноюродные тетки и бабки Людмилы и покойной Ани: баба Таня, баба Варя, крестная Клава, тетя Нюра, тетя Маруся, крестная Шура, баба
Лида – и еще, и еще, и еще: общим числом никак не меньше пятнадцати. Я заметил, что все они косятся на меня одинаково недобро и опасливо, и догадывался почему: должно быть, во мне видели представителя другого клана. Они-то свои, семенихинские, со стороны своих кровных, Аньки да Людки Семенихиных, даром что девки замуж повыходили да фамилии поменяли – не важно, кровь есть кровь; а я чужой – шлыковский. Да вдобавок еще и вовсе Капырин.
Земля громко стучала по крышке, а кругом было тихо, только издалека от другой могилы, где тоже стояли люди, слившиеся из-за расстояния в неразличимую мелкую массу, доносился переливчатый двухголосый вой. После давешнего приступа зимы небо было удивительно низкое: слоистые тучи ползли на восток, и ветер, время от времени налетавший со стороны темного, обтаявшего леса, шевелил мокрые ленты на венках. Да-да-да – стучала земля.
Да-да-да…
Могильщик пристроил охапку цветов на бугор и без раздумий порубил лопатой. Потом взял протянутую напарником железяку и воткнул в землю. Теперь их было две рядом. На первой, как и прежде, – “Шлыкова А. С. Уч. 3-754”. На второй, новехонькой, -
“Шлыков П. И. Уч. 3-754”.
Людмила высвободила из матерчатой сумки четыре бутылки и поставила их возле могилы.
– Благодарствуйте, – сказал могильщик. – На помин души, как говорится. Земля пухом.
Я протянул деньги.
Все понемногу побрели к автобусу, шаркая, где можно, ногами об мокрую жухлую траву, чтобы сбить грязь. Вика по дороге села на железную скамью у какой-то оградки, опустила повязанную платком голову, стала задумчиво ковырять землю мыском стоптанного сапога. Одна из родственных старух сердито крикнула ей, она нехотя поднялась и пошла дальше, часто озираясь.
Я тоже шаркал ногами по мокрой траве, когда услышал:
– А вы знаете, что у Павла есть акции?
– Что? – спросил я, поворачиваясь. – Какие акции?
Это была Антонина, председатель месткома, энергичная брюнетка в черном лоснящемся плаще.
– Как же! – По-видимому, она полагала, что время бесплодных сожалений миновало и пора переходить к делу. Оно, в сущности, так и было. – Как же! Десять акций! Мы же недавно стали акционерным обществом! Вы не в курсе?.. Вы можете оставить их у нас, и тогда с течением времени, – тут Антонина восторженно на меня посмотрела и, протянув руку, сделала пальцами такое движение, словно присаливала котлету, – понимаете? Дивиденды!..
А можете продать их экспедиции – мы купим. По номиналу. Плюс триста процентов на инфляцию. Деньги, конечно, небольшие, но…
– Нет, это уж лучше вы к Людмиле Сергеевне.
– Людмила?
– Она сама будет разбираться… как сочтет нужным.
– Но почему?
– Так удобнее всем. – Я пожал плечами. – Если надо, могу бумажку какую-нибудь оставить.
Антонина скривилась:
– Конечно, как хотите… вы не беспокойтесь. Как хотите. Людмиле
Сергеевне – пожалуйста, что ж… как угодно…
Мы подошли к автобусу и остановились у дверей.
– Я еще хотела вот чего спросить, – сказала Антонина, помявшись.
– Дело-то житейское, что уж… Вы ведь дачу Павла Ивановича будете продавать? Да? Будете? Вам-то ведь она не нужна?
– Дачу-то? – механически переспросил я.
Точно: еще и с дачей будет морока. Наследница – Танька. Стало быть, нужно ей звонить в Воронеж… или письмом разъяснять, что к чему… какая доверенность от нее требуется… Не забыть
Людмилин адрес записать… Да, все так: доверенность на
Людмилино имя… на вступление в наследство… и на всякий случай на право продажи.
– Ну да, – повторил я. – Верно. Еще ведь эта дача… – И добавил, вспомнив Павла: – Недвижимость.
– Вот я и говорю. – Антонина неожиданно рассмеялась и дурашливо замахала руками: – О-о-ой! Да что там за дача – ведь слова доброго не стоит! Да и не наездитесь вы из Москвы на эту дачу!
Вы что! Двести верст! Это мыслимое ли дело? Да нет, ну что вы, ну что вы!..
Она была права: у меня и впрямь даже мысли такой отродясь не было – за двести верст на дачу ездить.
Я кивнул.
– Да, конечно… я же и говорю. Мне ни к чему совершенно. С этим то же самое: это уж теперь как Людмила…
– Какая Людмила? – Антонина распрямилась и вскинула голову: -
Почему?
– Потому, что это теперь Людмилы Сергеевны дача, – пояснил я.
– Как же! Да ведь вы наследник!
Она раздражала меня, и я вдруг понял, что резкий запах цветочных духов не может перебить другого, от природы ей присущего, – такой бывает, когда мажешь старый пыльный картон густым казеиновым клеем.
– Ну если быть совсем точным, то не я. А дочь Павла Ивановича,
Таня. Но ей-то эта дача точно как рыбе зонтик. Понимаете?.. В общем, вы с Людмилой Сергеевной поговорите. Всем этим она будет управлять.
Антонина легонько надула губы:
– Что мне с ней говорить? С ней поговоришь… как же! Нет, но как-то вы странно рассуждаете: рыбе зонтик… Как же так! Мы с
Павлом Ивановичем когда еще договаривались… Честь по чести… он сказал, что подумает. Ему ведь она была не нужна, вы знаете?
Он все жаловался – времени много отнимает, воруют часто! Нет, ну правда, зачем ему дача? Он, знаете, выпить любил все-таки…
Должно быть, она прочла что-то в моих глазах, потому что осеклась и отступила.
За окном автобуса скользили ряды могил… кресты, ограды… вот миновали ворота кладбища… потянулись облетевшие сирые деревья, которым теперь оставалось лишь ждать нескорой весны… потом тротуары и дома с глянцевыми мокрыми стеклами. Низкое небо висело над городом Ковальцом, равнодушно струя тусклый свет на его горбатые улицы. Я бездумно смотрел в окно. На душе было тяжело, а главное – как-то пусто: место, отведенное в ней Павлу, должно было ныне заполниться чем-то иным – а вот чем? и когда?
Зеленый забор военной части менялся оградой парка, ограда парка
– длинным-длинным прудом. Оловянная вода рябила, кое-как отражая пятнистое небо. Я подумал: как странно, что Павел напоследок думал о такой ерунде: какой-то там Чуйкин, пьяные шоферы, полевой стаж, пенсия… Стало быть, жизнь не кончается до последнего, а когда все же кончается, то уже некому это заметить. Если сейчас в автобус въедет самосвал, окажется, что я и сам за минуту до гибели думал о каких-нибудь пустяках – о
Будяеве, о Ксении… нет, Ксения, пожалуй, – не пустяк… что еще не пустяк?
Я достал из кармана письмо и надорвал конверт.
“Сереженька, дорогой, здравствуй!
Большое тебе спасибо за посылку. Зачем ты так тратишься? Едва мы ее дотащили. Если бы не тележка, не знаю, что бы делали. Поезд приходит поздно, в городе совсем темно. Правда, не стреляли. Я ничего не боюсь, ты знаешь, но все равно немного страшно ночью ходить. Деньги я проводнику дала, сколько ты сказал, он был доволен. Зачем ты столько всего накупил? Нам на целый год хватит. Погода у нас хорошая, сухая. Самое время собирать хлопок. Весь пропадет, собирать некому, все воюют. А кто не воюет, боится. Соседка Шура, ты ее помнишь, говорит мне, зачем говорите – проклятый хлопок, он нас кормит. А я говорю, кого кормит, а кому всю жизнь изуродовал. Как вспомню, сколько я его собирала, мне дурно делается. Осенью вроде бы учиться, а нас всей школой в колхоз. Месяц и полтора месяца жили в полевых условиях. Днем жарко, ночью холодно. Москиты. Дети сами о себе как могут позаботиться? Чем я только там не болела. Малярия у меня была, гепатит. После шестого класса приехала вся больная, завшивела, мама едва со мной сладила. Что ты хочешь, тогда была война. И студенткой ездила, и уже работала. Несколько раз мы вместе с Павлом попадали, он ведь на два года младше. Я его опекала, следила. Да разве за ним уследишь, он всегда был шалопутный. Ничего не скажет – надо, и все тут. Вот и говори с ним. Как он там? Передавай ему большой, большой привет, скажи, мы его помним, думаем о нем. Пусть выздоравливает поскорее.
Предложи ему к нам приехать. Поживет полгодика, поправится. Это все-таки не в Ковальце одному или с этой Викой. Тут и овощи, и фрукты. Арбузы полтора, помидоры четыре. Сухой воздух, это немаловажно. У него, наверное, нет денег. Откуда у него после всех передряг. Ну как-нибудь соберем на билет. Пусть оформляет пенсию и приезжает. Какой из него теперь работник. Поцелуй его крепко-крепко, пусть поправляется, он шлыковский, крепкий. Целую тебя, звони. До свидания”.
Я сложил письмо и сунул в карман. Двигатель гудел, стало тепло.
За окном тянулись дома, дома, палисадники… люди шли по своим делам… кое-где уже светились окна. Мокрые крыши одноэтажных домов лоснились и поблескивали. Однажды мы зачем-то полезли на чердак. Я закрыл глаза и увидел перламутровую раковину пространства. Оно шумно взорвалось, оно разворачивалось хлопаньем крыльев и вихрями всклокоченного воздуха… воскрылий, пуха и помета… Я вскрикнул и схватил Павла за руку. Стая голубей с шумом вылетала в чердачное окно. Казалось, каждый из них, взлетев, мгновенно растворяется в ослепительном синем квадрате. Несколько перьев кружились и падали в полотне оранжевого света. Он сказал, улыбаясь в чердачном сумраке: “Ты чего? Испугался? Это голуби”. На пыльном шлаке, хрустевшем под ногами, как бабушкины сухарики, лежали сизые комья. Я тронул один и понял, что это мертвый голубь: сухой и невесомый. “Павел, смотри! – сказал я. – Они мертвые?” Павел не отозвался. Я поднял голубя, держа перед собой на вытянутой руке. Голубь покрутил головкой, моргнул, а затем сказал гулко и многоголосо: “Ну слава богу, приехали!..”
– Слава богу, приехали… приехали, слава богу… вот уж приехали… слава те господи, приехали, – бормотали старухи.
Они клубились, появляясь из автобусного нутра клоками черного дыма. В подъездных дверях была открыта только одна створка – проломленная и висящая на одной петле, – и там тоже произошло небольшое стеснение.
25
Лицо почему-то горело, и было приятно чувствовать мелкие капли холодной мороси. Я стоял у гнутой и ломаной металлической загородки палисадника, ожидая, пока старух всосет в подъезд.
Окна лестничной клетки были где распахнуты, где просто разбиты.
Двор горбился – дом стоял в низине, а на лысом бугре надрывно визжали качели. Изо всех окон торчали головы, наблюдая за нашим прибытием. Множество других, не наших, старух высыпало из дома.
Они собрались кучками, стоя невдалеке, и от наших отличались только тем, что были одеты в цветное. Вчера я приехал за полночь, а спал вполглаза, то и дело оказываясь в бесконечно разматывающемся коконе беспокойных снов, и теперь мне казалось, что я смотрю на все через толстое стекло, глушащее звуки. Что такое двести километров? На машине три часа. Самолетом двадцать минут. Близко, близко… Но почему-то было трудно вообразить, что кроме кладбища города Ковальца и вот этого дома есть еще длинная-длинная лента дороги, змеящаяся с холма на холм, шумная сиреневая Москва, гарь проспектов, гул эстакад, дома, квартиры,
“Свой угол”… и что еще вчера я не стоял здесь у ограды жухлого палисадника, глядя в старушечьи спины, а нетерпеливо смотрел то на часы, то на Марину, то на Коноплянникова, излагавшего свои соображения, то на Кирилла Анатольевича, у которого от соображений Коноплянникова глаза буквально лезли на лоб.
Коноплянников выглядел лет на сорок пять. Это был круглолицый и белокожий господин с большими залысинами и редкими светлыми волосами, аккуратно зачесанными на пробор. На носу сидели круглые очки в анодированной оправе, сквозь которые он и помаргивал серо-зелеными глазами. Одет Коноплянников был просто: темненький и давно не чищенный костюмчик, зимние ботинки на микропоре, серая кепка с пуговкой. В целом у него был такой вид, как будто из нафталина-то его вынули, а встряхнуть руки не дошли. Говорил аккуратно, без спешки. Спросят что – отвечать не торопится, прежде подумает. Подумав, подробно ответит. Как правило, какой-нибудь глупостью. Разъяснит, что к чему. Почему он хорошее любит, а плохое – нет. Мне уж пора было ехать, меня дожидались долгие триста километров темной дороги, – но вместо того я сидел и выслушивал его безумные предложения… Должно быть, в нормальной жизни это был персонаж из тех исполненных здравомыслия граждан, что, пребывая в благодушном расположении духа, вечно сообщают всем известные с третьего класса вещи с таким видом, будто открывают заветные тайны; я так и ждал, что он, лукаво посмеиваясь и самим смешком этим норовя несколько разбавить серьезность известия, которое вот-вот имеет быть сообщено, признается, что Земля имеет форму шара. Однако сейчас ему было не до астрономии: он с самого начала казался немного взъерошенным, а теперь, когда пошла речь о процедуре передачи денег, и вовсе набычился – хоть на корриду, – что в совокупности с его невеликим ростом и довольно хлипким телосложением производило несколько комический эффект. Набычился – и изложил нам свой план.
– Так-то лучше будет, – сказал он затем. – А? Сами посудите.
Голос его звучал одиноко – присутствующие были ошарашены, и никто не раскрыл рта. А у Кирилла Анатольевича, судя по всему, и вовсе ум за разум заехал от коноплянниковских идей.
– Я считаю, так лучше всего, – повторил Коноплянников. – Банка прозрачная, все видно. Я сначала думал – в пакет в бумажный, заклеить как следует – и подписи… Только, знаете, ведь такие умельцы попадаются… подменят. – Поблескивая очками, он оглядел нас, пытаясь, видимо, предугадать, кто именно займется этим грязным делом. – И подписи подменят, и все. И худого слова не скажут. Концов потом не найдешь. Откроешь – а там бумага. Кукла называется. Вон все время показывают. Я знаю. Я советовался.
Поэтому лучше так. Я посчитаю все как следует… чтобы чин чином… без дураков. Потом мои тридцать восемь положим в банку.
И закрутим. Ну, закатаем то есть. И все будут спокойны.
Понимаете? Ведь удобно: в любой момент посмотрел – вот они, денежки. Хоть вы посмотреть можете, хоть я. А в пакете – это, знаете, дело такое. Я рисковать не могу. У меня не десять квартир. Мы с женой посоветовались. Это, знаете, не шуточки. Мы вот так решили…
Говоря, Коноплянников расстегнул портфель и поочередно извлек из него, расставляя на столе, литровую стеклянную банку с неотклеенной этикеткой “Огурцы маринованные”, новехонькую, солнышком сверкающую жестяную крышечку и никелированную машинку для консервирования в домашних условиях.
– Сейчас, – бормотал он, продолжая рыться в портфеле. – Где-то еще прокладочка… резинка такая… сейчас… минуточку…
– Ну просто бред, – сказал я, глядя на часы.
– Ничего не бред, – возразил Коноплянников, распрямляясь. – Да бог с ней, это ж не помидоры… Ничего не бред. Я консультировался… А на кой черт мне ваши банки? Я хочу квартиру продать. Понятно? Товар -деньги – товар, как говорится.
Я не в банк хочу деньги положить, а в карман. Знаю я ваши банки.
Сегодня положил, завтра пришел, а тебе – извините. Кладешь ты, а берут другие. Спасибо. Я уже клал. Я в “МММ” клал, в “Чару” клал… Мы с женой машину продали – и в “Чару”. Понятно? Четыре месяца проценты получал. Двадцать процентов в месяц получал. И опять в “Чаре” оставлял. А какой дурак проценты возьмет? А потом
– раз! Ни “Чары”, ни денег, ни процентов. И машины нет. Ну и на кой мне ваши банки? Правильно? А тут все видно – стекло-то прозрачное. Верно?
– И кто же, по-вашему, будет ее хранить? – поинтересовался
Кирилл Анатольевич, старший менеджер “Своего угла”.
– А кто деньги получает, тот пусть и хранит, – ответил
Коноплянников. – Чьи деньги? Мои деньги? Вот я и буду.
И победительно сверкнул очками на Марину.
– Ничего подобного, – сказала Марина. – Деньги ваши только после регистрации. А до регистрации – наши.
– Почему ваши?
– Потому, что мы платим за их квартиру, – она кивнула на меня, – а они нашими деньгами вам за вашу. Одновременно. Понятно?
Коноплянников недоверчиво пожевал губами.
– Почему мы вам свои деньги должны доверять? – запальчиво продолжала она. – А если вы до регистрации сбежите?
– Куда сбегу?
– Не знаю куда! Деньги в банку закрутите – и сбежите. Может, даже договор не подпишете – и до свидания. Тогда как?
– Вы мне не верите, что ли? – с детской обидой в голосе спросил
Коноплянников.
– Дело не в том, что мы вам не верим, – морщась, сказал Кирилл
Анатольевич.
– Нет, в этом! – настаивал он, краснея. – Почему вы мне не верите?
– А вы нам верите? – быстро спросила Марина.
– Верю! – отрезал Коноплянников. – Я-то верю! Я-то…
– Ну если верите, пусть деньги до регистрации у нас останутся.
Коноплянников помолчал, потом ответил:
– Не надо так… что за шутки? Мы же о серьезном говорим. Я консультировался. И права свои знаю…
– Вот именно для того, чтобы не было нужды никому верить, мы обращаемся к услугам банка, – наставительно сказал Кирилл
Анатольевич. – Никто не должен никому верить. Банк сам обеспечит все усло…
– Почему я должен верить банку? – спросил Коноплянников.
Мы помолчали.
Кирилл Анатольевич вздохнул:
– Владимир Сергеевич, вы договор подписывали. Помните?
– Ну и что?
– Вы меня извините, бога ради, но, если не ошибаюсь, там сказано что-то в таком духе: “Исполнитель несет ответственность за проведение сделки и безопасную передачу вырученных денег заказчику”. Исполнитель – это мы. Заказчик – это вы. Припоминаете?
Кирилл Анатольевич производил впечатление чрезвычайно вежливого человека. Я слушал его интеллигентную речь, понимая, что все висит на волоске и волосок этот, похоже, вот-вот лопнет: я на коноплянниковскую банку не согласен, Марина тоже не согласится, а сделать что-нибудь с Коноплянниковым Кирилл Анатольевич не в состоянии. Слишком мягок. На него бы надавить сейчас как следует… а он будет морали читать. А что Коноплянникову мораль? Он упертый. У него свои идеи. Не сладит с ним Кирилл
Анатольевич, не сладит… Тот еще деятель, этот Кирилл
Анатольевич. Тоже фрукт. Два сапога пара. Такие любят рассуждать на тот счет, что не нужно пороть горячку. И еще бухтеть, что-де эти головотяпы тянут резину. Вот и будет он с Коноплянниковым рассусоливать…
– Да если вы не можете безопасно, что ж, я должен у вас на поводу! Это если б у меня сто квартир было! Тогда пожалуйста!..
– Мы это сейчас обсуждать не будем. Мы уже обсуждали, – говорил
Кирилл Анатольевич бархатистым своим голосом. – Согласитесь,
Владимир Сергеевич, для вас это совершенно не новость. Перед подписанием договора я вам все подробнейшим образом рассказывал.
В частности про банк. Вы вспомните, Владимир Сергеевич, вспомните! Все я вам исчерпывающе доложил – как, что, почему.
Даже демонстрировал банковские договоры… Разве не так? И вы со всем были согласны. А теперь…
– Я тогда не знал! А потом проконсультировался!
– А теперь выясняется, что у вас, оказывается, свои представления о безопасности. Не такие, как у нас. И отлично.
Это ваше право. Я только хочу вам напомнить, что в соответствии с другим условием договора вы, в случае расторжения оного по вашей вине, должны выплатить неустойку. Припоминаете?
– Да почему же по моей?!
– А по чьей? Мы-то готовы выполнить свои обязательства.
– Да какие же обязательства, когда вы меня в банк?! Вы что?!
Смеетесь?! Неустойка еще какая-то. Да не дам я вам никакую неустойку. Еще чего! И не думайте. Вы как мои интересы-то защищаете? В банк меня суете. А я не хочу в банк. Это что – интересы защищать? Неустойка! Ни копейки на заплачу. Вы что же думаете, на вас управы нет?
– Да почему же не заплатите, если у нас в договоре? – удивлялся менеджер, недоверчиво улыбаясь: мол, сами посудите, как странно!
– Заплатите.
– Что, судиться, что ли, станем? – спросил Коноплянников помолчав. – Давайте.
Кирилл Анатольевич огорченно покачал головой:
– Да зачем же судиться!.. что вы! мы в таких случаях не судимся!
Что вы, Владимир Сергеевич! Бог с вами! – Затем нажал на клавишу селектора: – Лизонька? Попроси ко мне из юридического… да, обоих… спасибо.
Откинулся в кресле, негромко рокоча:
– Что вы, Владимир Сергеевич!.. нам судиться-то некогда.
Судиться – это когда есть какие-нибудь сомнения… Понимаете? А в данной ситуации какое сомнение? Видите ли, у нас-то с вами случай совершенно бесспорный, потому что в договоре все это однозначно отражено. Если бы возникла хоть маломальская неуверенность в части несправедливости нашего отказа в отношении ваших требований, то, разумеется, мы бы… ага, вот и они! Прошу!
Дверь резко и широко раскрылась. Вошедшие были чернявы и молоды.
Один – нормального человеческого роста, но необыкновенно широкий в покатых борцовских плечах. Другой – на две головы выше, сутуловатый, с длинными обезьяньими руками; плешивая смуглая голова в шрамах; физиономия тоже не без отметин; ломаный нос корявой картофелиной. Именно он-то, недобро глядя исподлобья, и спросил глухим тяжелым голосом:
– Звалы, Кырыл Анатолыч?
В ту короткую паузу, что случилась между обвальным гудением его голоса и тут же пушисто покатившимися словами Кирилла
Анатольевича, мне вдруг послышалось, будто где-то недалеко почти беззвучно лопнула туго натянутая струна: трень! Или что-то в этом роде: брень!.. Я даже вздрогнул и невольно оглянулся, но увидел только перекошенное лицо Коноплянникова.
– Да, да, заходите… Нугзар, тут некоторые разногласия у нас возникли, – мягко пояснил менеджер. – В отношении неустойки.
Нужно разъяснить клиенту те положения договора, кото…
– Не нужно, – сдавленно, но твердо сказал Коноплянников.
– Не нужно? – удивился Кирилл Анатольевич. – Ну, не нужно так не нужно. М-м-м… тогда все… Да, Ашот, уж если вы здесь… что там у нас с Регистрационной палатой? Насчет микляевской сделки?
– Завтра с инспектором встречаюсь, – пробасил широкоплечий.
– Ага… Ну хорошо. Пожалуйста, не тяните с этим делом. Спасибо, не задерживаю.
Дверь за ними закрылась.
Все помолчали.
– А тогда напишите мне расписку, – сказал Коноплянников, блестя стеклами то на меня, то на Кирилла Анатольевича. – Если вы меня силой в этот банк. Расписку, да. Мол, так и так… если вдруг что по вине банка… и я не получу указанную сумму… вы сами мне ее должны. Напишете? А иначе я не согласен. Не согласен я.
Кто будет виноват? Знаю я эти банки. Нет, не согласен… Заплачу я вам неустойку… черт с вами… и все – до свидания!








