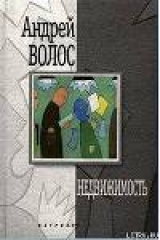
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
8
В прошлый раз он встречал меня на вокзале.
Я увидел худую фигуру в старом болоньевом плаще с поднятым воротником – птичий поворот седой головы и тревожный ищущий взгляд: высматривал меня в окнах медленно подползающей электрички. Вот махнул рукой и торопливо пошел вдоль перрона за вагоном, и на лице у него было такое взволнованно-испуганное выражение, словно поезд мог не остановиться, а, наоборот, наддать ходу и увезти меня невесть куда. Через несколько секунд состав дернулся, лязгнул и окончательно встал; я сошел на перрон, – и тут же Павел схватил меня, уперевшись подбородком в плечо, и мы стояли так минуту или полторы, обтекаемые толпой, валившей из вагонных дверей.
– Почему же ты не позвонил, не дал телеграмму? – спросил я.
Павел чиркал спичками, прикуривая.
Он, видите ли, не хотел никого обременять своим горем. Аня нам всем была, выходит дело, чужая. Поэтому Павел решил сам все сделать. А уж потом известить.
Он сильно похудел.
Я смотрел в окно.
Спорить с ним было бесполезно.
Трамвай неторопливо постукивал от одной остановки к другой, город был серо-черным, но деревья кое-где уже не казались мертвыми. Мы перекидывались случайными словами. Говорить всерьез было не о чем, потому что круг тем был беспощадно очерчен, и все, имеющее отношение к жизни, звучало сейчас как бесполезный шум – словно крики тонущего, который и в самом деле обречен утонуть, и знает это, и чисто инстинктивно напрягает голосовые связки. Я смотрел в окно, а иногда поворачивал голову, чтобы спросить, что это за дом или ограда. И видел худое и близкое лицо со сросшимися бровями, бобрик серебристых волос.
– Это больница, – говорил Павел, и как только кончалось звучание последнего слога, глаза его снова мертвели. – Это парк.
Он тянул меня за рукав, повторяя: “Да не надо!.. Да чего ты! Да не надо!..”, но у ворот кладбища я все же купил цветы. Мы неспешно шагали по асфальтированной дороге мимо длинных рядов оград, пирамидок, холмов, черных каменных плит, на которых были где лица, где самолеты, где просто надписи. Потом свернули направо – здесь больше всего было именно холмиков, заваленных венками. Павел остановился возле одного из них, опустил сумку на подтаявшую землю и виновато сказал:
– Вот видишь.
Мы молча стояли у могилы, и я вспоминал Аню – белокурую женщину в блестящих анодированных очках, неизменно выглядевшую веселой и деятельной. По крайней мере она часто и шумно смеялась. Я не всегда понимал причины ее смеха и привык списывать его на общую ее жизнерадостность. Я бывал у них считанные разы, приезжая на пару дней, – пятнадцать лет назад… девять лет назад… четыре года назад… два года назад, когда раскручивалась эта бредовая история с тюрьмой и судом… – и всякий раз с огорчением обнаруживал, что Аня снова до крайности назойлива в попытках выказать свое хлебосольство. Это была какая-то чрезвычайно простая и утомительная народная игра, по правилам которой я, видимо, должен был отказываться поднести ложку ко рту и упираться до последнего, даже если б умирал с голоду; а партия
Ани состояла в том, чтобы все-таки накормить меня во что бы то ни стало – хоть бы даже и до рвоты: на одном куске сижу, другой изо рта торчит. Потому что если не изнасиловать меня пирожками и сосисками, то я на весь мир ославлю за скаредность и бедность.
Так что лучше уж потом все в помойку, чем подумают, будто она чего-то пожалела.
Как-то раз я имел дело с одним простым и милым человеком из деревни под Кимрами; он и попросил: мол, как еще приедешь, привези бутылку водки, которой в ту пору в Кимрах было днем с огнем не найти; я привез, отдал и не хотел брать денег, но потом понял, что, если не возьму, мне придется с ним спорить об этих деньгах до скончания века, – и тогда взял, чтобы он только отвязался; а через неделю знакомые, жившие неподалеку, сказали, что Федор, обычно не баловавший их вниманием, на этой неделе заходил четырежды и всякий раз подолгу, с витиеватыми подробностями рассказывал, какой я жадный: привез бутылку водки и взял с него за это деньги; и, по их словам, в его устах этот поступок выглядел очень некрасиво…
Оставшись ночевать у Павла, я просыпался с заведомым чувством досады: как бы рано ни было, с кухни уже доносились запах жареного и осторожный лязг; это означало, что минут через десять
Аня, по обыкновению смеясь, поставит передо мной громадную тарелку, на которой будут лежать штуки четыре полукилограммовых котлет поверх маслянистого террикона свежего картофельного пюре.
Всем было понятно, все в глубине души соглашались, что такие количества еды не практикуются в нормальном, неэпическом обиходе. Кроме того, это был просто бессмысленный расход, а жили они всегда бедно. Аня работала по торговой части, однако на таких мизерных должностях, которые позволяли только достать, а не украсть. Павел платил алименты на Таньку и старался больше времени проводить в разъездах, потому что в этом случае к его окладу приплюсовывались командировочные или полевые. Кроме того, когда его отряд выполнял топографические изыскания по договорам с колхозами – как правило, проектировку ирригационных осушительных каналов, – он всегда мог столковаться с председателем насчет того, чтобы купить по себестоимости оковалок мяса или пару мешков картошки. В результате всех ухищрений их жизнь можно было назвать сытой – но никак не богатой… Но так или иначе, любые попытки уменьшить порцию вызывали с Аниной стороны нескончаемые уговоры, протесты, громкие настаивания и обиды – и все это как нельзя лучше портило аппетит.
А теперь Аня умерла, и мне было жалко Павла, потому что он выглядел совершенно растерянным и, похоже, не понимал, как ему жить дальше.
– Что Вика? – спросил я, когда мы сели неподалеку на скамью, которой уже была оборудована одна из свежих могил.
– А-а-а… Я же ее в экспедицию к себе устроил, – сказал он морщась. Достал из сумки бутылку водки, пару соленых огурцов, луковицу и хлеб. – Прими-ка… А она… вон видишь чего… опять… Я ей говорил: смотри, от тебя зависит! Ну, помянем.
Вика была Анина дочь от первого мужа – сначала немного странная девочка, потом девушка со странностями. Теперь – странноватая тетка лет под тридцать, чье гордое имя казалось насмешкой судьбы: жизнь Виктории представляла собой многозвенную цепочку горьких поражений. Кое-как окончив восемь классов, она поступала в техникум, да не поступила; пошла телеграфисткой – тоже не потянула и переквалифицировалась в почтальоны; кончила курсы и работала вязальщицей – да и там что-то не заладилось; а потом дальше, дальше – теми странными скачками профессиональной эволюции, которые обычно совершают люди, ничего не знающие и не умеющие. Она была тяжелого бабьего строения – большая грудь, широкие покатые плечи, оттопыренный зад, полные руки, полные и довольно стройные ноги; ее можно было бы назвать миловидной, если б не слишком простое, какое-то карикатурно русское лицо из мультфильма – с веснушками, белой кожей, рыжиной, великоватым носом и простодушным взглядом чуточку раскосых зеленых глаз.
Когда я заметил, что она может часами каменно сидеть на стуле, по-удавьи неподвижно глядя в одну точку, то сначала решил, что в эти минуты Вика о чем-то напряженно размышляет. А потом понял, что она просто на время выключается, как выключается прожектор или лампа, – гаснет, и, должно быть, в голове ее воцаряется полная тьма, – ну, может быть, только изредка разрежаемая случайными сполохами неуясненных желаний и чувств.
Лет в девятнадцать она собралась выходить замуж. Вокруг этого много чего было говорено, но потом все расстроилось, и когда по прошествии недолгого времени я спросил, как там насчет устройства Викиной судьбы, Павел только развел руками и с досадой сказал слова, на многие годы ставшие для меня образцом фразы, невнятной по форме, но кристально ясной по содержанию: “Я ж их не буду любить, если они сами друг друга не любят!..”
Как правило, она была покладистой и доброй, и когда начинала по указанию матери или Павла что-нибудь делать – чистить картошку или собираться в угловой за сосисками и хлебом, – то проявляла какую-то тараканью порывистость: двигалась быстро, но не ровно, а вроде как перебежками: схватит нож, схватит картошку, вдруг замрет и надолго задумается. В общем, она была странной, но когда не пила водки, эта странность могла сойти за своеобразие душевного устройства – пусть и не очень привлекательное; когда же выпивала, кровь, текущая в ее теле близко под кожей, приливала к лицу, и она становилась совсем неуправляемой: стремилась куда-то, плакала, хлопала дверями, срывалась на крик и ночевала у подружек – совершенных, по словам Павла, оторв.
– Ну и как всегда, – сказал Павел. – Неделю поработала спокойно, пока никого не знала… Что там за работа-то вахтером? – сиди себе восемь часов книжку читай!.. А потом присиделась, и пошло: шоферы с ней познакомились, каждый день веселье… вот и уволили к чертовой матери. Я ей говорил: от тебя зависит. – Он бросил окурок, вздохнул и добавил: – Ей тоже, знаешь, теперь не сладко.
Мать есть мать, никуда не денешься. Ну, помянем.
Мы выпили.
– Сидит на шее у меня теперь, зараза, – сказал Павел морщась. -
Нет бы работать пойти. Что я получаю? – Он пожал плечами. – У нас же вон чего: то денег нет, то есть, да не все… то вон хотели зарплату тарелками выдавать. Сделали для фарфорового завода какую-то работу, он и расплатился тарелками. Бартер. А на черта мне эти тарелки? – спросил он и замолчал, глядя на меня, и мне в качестве ответа пришлось пожать плечами. – Я вон на похороны-то у Вальки Семенихина деньги занимал. Валька
Семенихин-то ее, – (он кивнул на могилу), – двоюродный брат… бабы Шуры сын… да ты не знаешь. Он майор милицейский, хороший мужик.
– Денег я тебе привез.
– Не надо, зачем, – спокойно удивился он. – Я и те-то тебе никак не отдам… Видишь как. То одно, то другое.
Я достал конверт.
– Ну спасибо, – сказал Павел безрадостно. – Это сколько же здесь на наши? Ага. Значит, Вальке я верну сразу… и еще там кое-чего. Спасибо.
Часам к двенадцати выглянуло солнце, и все вокруг немного повеселело.
– А знаешь, – воодушевился вдруг Павел. Лицо его оживилось, и он смотрел на меня с неясной надеждой. – Рванем на дачу? Айда? Это близко.
Мы постояли еще несколько минут у могилы, а потом повернулись и пошли назад, к воротам и остановке.
Дача была на другом конце города, далеко от кладбища, да зато близко от Павлова жилья. Сойдя на конечной, двинулись по кривой дорожке вдоль заборов и покосившихся стен серых сараев; и скоро вышли на край пологого старого оврага.
Очень широкий, он мягко сползал вниз, к тинистой речушке. По бортам оврага лепились мелкие домишки в палисадниках, тянулись столбы с проводами. Сам овраг был разбит на участки сотки по три, по четыре, отгороженные друг от друга где веревками, где проволоками на палках и столбиках. Сверху казалось, что участки все кособокие; должно быть, так оно и было. Снега уже нигде не осталось – склоны под солнцем были зеленые, живые, а вскопанные квадраты резко выделялись влажной чернотой. Кое-где стояли и дома: на каких участках более или менее настоящие – маленькие щитовые домики с крылечками; но больше было корявых хибар, собранных из старых дверей, почернелых расщеперенных досок и ржавых листов утильного железа.
Мы спустились по натоптанной грязной тропинке и остановились у одной из таких.
– Во-о-от!.. – воркующе протянул Павел. – Вот и дома! Добрались.
Видишь, там у меня чесночок был в прошлом году… и в этом посажу.
Он с удовольствием озирался, оглядывая свою землю. Земли было немного: неправильной формы лоскут, глядя на который я невольно вспомнил дядюшку Порея. Павел открутил проволочку, которой была замкнута фанерная дверь на ременных петлях, распахнул ее, и мы, пригнувшись, вошли в темную сараюшку. Там на нескольких обколотых кирпичах, как на ножках, плашмя лежала ржавая панцирная сетка, несколько чурбаков и ящиков; большая часть помещения была завалена каким-то неразличимым хламом, предназначавшимся, должно быть, для дальнейшего строительства, но пока еще невостребованным. Голубоватые спицы света из дырявой крыши разбивались на бугристом земляном полу в неровные пятаки.
Павел поставил один из ящиков на попа и постелил газету, которую вытащил откуда-то из горы этого самого хлама: оказывается, там был тайник, куда приходилось прятать от окрестных воров все мало-мальски ценное – несколько рюмок, солонку, нож без ручки; а газета, как предмет совсем уж бросовый, лежала в тайнике просто для комплекта.
Мы долго сидели на чурбаках: допивали водку, доедали хлеб и лук; то и дело начинали рассказывать друг другу о том, что происходило в тот год или полтора, что не виделись, и вдруг оказывалось, что ничего интересного не происходило – так, чередование мелких забот и обязательств, о которых неловко вспоминать, потому что они не стоят внимания даже близкого человека, – и поэтому слов говорилось довольно мало; а солнце ползло по небу мимо: сначала оно светило в распахнутую дверь, а потом перестало, но пологий склон оврага оставался по-прежнему золотист и зелен. Было тихо, безветренно, казалось, что уже совсем тепло; яркий солнечный свет и алкоголь вызывали во мне стихийное, животное довольство – и еще какие-то смутные мысли о том, что жизнь все-таки разумна, хоть и непоправима. Павел не пьянел, а только становился рассудительнее.
На следующий день я уехал. Я стоял у окна электрички и смотрел на Павла: лицо его было темным и осунувшимся, и даже те несколько рюмок, что он выпил с утра, не сделали его розовее.
Поезд заскрипел и двинулся, Павел пошел было следом, но потом прощально махнул и тут же отвернулся – и я видел только его сгорбленную спину в болоньевом плаще. Я сел на дерматиновое сиденье и закрыл глаза. Легли поздно, да и спал я плохо, бесконечно ворочаясь и пряча нос то так, то этак; это были поиски пятого угла, потому что не только постель, но и вся квартира пропиталась навязчивой, отчетливой вонью – запахом застарелой сырости, прогорклого табачного дыма, вообще чего-то несвежего. Может быть, если б в погожий день раскрыть настежь все окна, да вывесить тряпье на балкон под солнце, да помыть окна и полы, все стало бы выглядеть иначе; но сейчас это была затхлая грязная квартирка из двух конурок-комнат. Здесь и прежде не было видно признаков богатства или следов чрезмерной аккуратности; а с тех пор, как я в последний раз приезжал в
Ковалец, жизнь тут окончательно похилилась: все, кроме нескольких насущных предметов, впрямую необходимых для поддержания жизни (плита, водопроводный кран, две кастрюльки, чайник и телевизор, хрипло комментирующий передвижение по экрану каких-то дрожащих привидений), пришло в совершенную негодность.
Если полочка, то висящая наискось, потому, вероятно, что кто-то ее случайно шибанул, да так и оставил; если унитаз, то расколотый; если бачок, то такой, в который, чтобы спустить воду, нужно по локоть сунуть руку и нащупать резинку на дне; если окно – то без пары стекол во внутренних створках; если шпингалет – то не способный ничего закрыть… Я проснулся от каких-то лязгающих звуков с кухни и чертыхнулся сквозь сон, подумав, что Аня снова взялась за свое. Но Аня умерла две недели назад: Павел вернулся вечером с работы и нашел ее на диване в мирной сонной позе, ничуть не выдававшей того, что сон этот наступил навсегда. Я потряс головой и сел на постели. Одевшись, вышел на кухню. Было около девяти. Павел покрикивал на Вику,
Вика беззлобно огрызалась, а общий смысл их торопливой утренней деятельности сводился к тому, чтобы пожарить нарезанную синими кусками утку и сварить картошку-чугунку.
– Вот сейчас, сейчас, – говорил Павел. – Сейчас будет готово, накормим тебя.
Потом мы ели утку, Павел немного выпил, Вика иногда что-то произносила по-своему – очень быстрым и скомканным говором, и мне, если я хотел узнать, что именно, приходилось переспрашивать. Скоро у Павла возникла идея снова поехать на кладбище, а уж оттуда на вокзал, и я согласился – потому что к тому времени готов был ехать куда угодно, только бы уехать. И вдруг Вика вскочила и стала торопливо, чуть ли не бегом, ходить из кухни в комнату и обратно, и если ей на пути попадались какие-нибудь вещи – одежда или подушка, – она злым швырком перекидывала их с места на место. При этом, заскочив в кухню, она сердито проговаривала что-то неразборчивое, обиженно глядя исподлобья, и тут же резко – так что толстая коса описывала полукруг – разворачивалась и вылетала в коридор.
– Ты тоже, что ли, хочешь ехать? – недоуменно спросил Павел. -
Ты бы так и сказала; поедем, конечно.
Вика тут же успокоилась и села, а Павел объяснил: “Пусть уж с нами едет; мать есть мать, чего же ты хочешь”, – словно я противился тому, чтобы Вика ехала с нами.
Минут через десять мы пустились в путь.
На улице Вика выглядела так, что никто бы не усомнился, что эта женщина совсем недавно испытала на себе все ужасы какой-то страшной стихии – войны или пожара: об этом свидетельствовал ее неподвижный, отсутствующий взгляд и то, как она была одета – куцее подростковое пальто, темно-коричневые шершавые чулки, растресканные кроссовки с красными клиньями, голова повязана грубым кричаще желтым платком… Центр города оказался перекрыт каким-то забегом, по проезжей части неспешно трусили худощавые люди в белых майках с красными номерами на спинах, а трамваи ходили через пень-колоду. В конце концов мы сошли у кладбищенских ворот. Пройдя длинной аллеей, мы свернули направо и скоро, как вчера, остановились у Аниной могилы. Небо поблескивало синевой, со стороны города тянулись светлые облака.
Темнела частая штриховка голого прозрачного леса. Вздохнув,
Павел присел на скамью и закурил. Вика недолго постояла, потерянно озираясь, и вдруг преобразилась. Она вытрясла из сумки какие-то тряпки, пустую пластиковую бутылку, детскую лопатку и вот уже, напевая, принялась приводить в порядок могилу: собрала пожухшие цветы, старательно подровняла мокрую весеннюю глину, похлопала лопаткой сверху, чтобы было гладко; с бутылкой сходила к водопроводному крану над ржавой бочкой, вернулась и, помогая себе высунутым языком и сохраняя на лице выражение радостной озабоченности, чисто-чисто вымыла прямоугольную жестянку с торопливой белой намалевкой: “Шлыкова А. С. Уч. 3-754”. Взгляд ее ожил, из-под платка выбилась русая прядь; и вообще она действовала с таким удовольствием и тщанием, с каким дети лепят из песка куличи и строят башни.
…Электричка покачивалась, и, наверное, у всех, кто подремывал на этих коричневых, порезанных острыми ножиками сиденьях, в головах тоже мелькали какие-то картинки, – может быть, чем-то похожие на мои, – да только никому здесь не было дела до того, что в голове у другого.
9
День был теплый и пасмурный. На лобовое стекло нападали листья.
Время шло к половине девятого.
Поток машин скользил по асфальту пестрой рекой.
Зря, все зря, механически думал я, завороженно глядя в красный зрачок светофора. Совершенно зря. Чистый бесплатняк… Откуда он взялся? Черт его вынес. Ну ладно, допустим, подойдет его клиенту квартира. Ну и что? Все равно всегда требуется время подумать. А когда клиенту думать, если уже к одиннадцати Николай Васильевич обещал окончательно созреть?..
Я переулками объехал пробку на Тверской, зато встал у Никитских.
Правда, ненадолго. Поток полз под мост. За бульваром оказалось неожиданно просторно…
У арки никого не было. Понятное дело – покупатель. Покупатель имеет право.
Я выбрался из машины.
Прошло десять минут. Прохаживаясь, я посматривал по сторонам.
Потом еще раз взглянул на часы и выругался.
Что за проклятье с этой квартирой!..
Гена появился в двадцать две минуты десятого. Это был долговязый парень лет двадцати пяти в желтой кожаной кепке, придававшей его внешности что-то залихватски-летчицкое.
– Это вы? – запаленно спросил он и сообщил, возмущенно оглядываясь: – Полчаса автобуса ждал!
– Безобразие с этими автобусами, – согласился я. – Такой бардак на транспорте – ну просто нельзя на них положиться… А где клиент? Он электричкой едет?
– Да ладно, какой электричкой, – хмуро возразил Гена. – Будет, будет. Не волнуйтесь…
И, протянув ладонь, сделал твердо-успокоительный жест.
– А что мне волноваться? – спросил я. – Мне волноваться нечего.
Я еще пять минут жду – и до свидания.
Гена оглянулся:
– Да ладно, ну чего вы сразу… Опаздывают иногда люди, – заметил он примирительно. – Человек немолодой, мало ли… Я сам вот, видите, полчаса автобуса ждал! С ними разве угадаешь?
Последнюю фразу ему пришлось крикнуть, потому что мимо нас проезжал трамвай, производя грохот, приличествующий разве что целому железоделательному заводу. Гена сморщился. По выражению светло-голубых глаз было понятно, что в его мозгу зарождается какая-то важная мысль.
– Скажите, – попросил он, деловито хмурясь. – А окна-то во двор?
– Ах, окна-то? Вы об окнах?
Гена кивнул:
– Ну да, об окнах… Я вчера-то забыл спросить… а ведь им обязательно, чтоб во двор. Понимаете? Так прямо сразу и сказали
– во двор чтоб окна, и никаких. Тут ведь трамвай.
– Трамвай? – удивился я. – Разве?
– Ну да, трамвай, – раздраженно втолковывал он. – Видели, проехал? Так что окна-то обязательно во двор. На трамвай-то они не согласны. Понимаете? Шумно!
– Понятно, понятно, – любезно кивал я, продолжая между тем леденить его улыбкой. – Во двор-то лучше, понятно… не на трамвай… правильно. А то ведь на трамвай-то шумно… а если во двор – тогда, понятное дело, тихо… Некоторые любят, когда шумно… трамвай им подавай обязательно… или еще чего такое же
– самолет там какой… турбину… вынь да положь, как говорится… да? А другие не любят. Правильно, что ж. Одни одно любят, другие – другое. Ваши вот хотят, где потише… да? То есть не на трамвай, а во двор. Я вас правильно понял?
– Да что такое? – обозлился Гена. – Не можете по-человечески сказать? Куда окна-то? Вы чего?
– А то, что самое время выяснять про окна, – сказал я. – Самое время! Вот именно когда я сюда приперся к девяти, а сейчас без двадцати десять! И от вашего клиента – ни слуху ни духу! Вот сейчас-то и пора выяснить все про окна. Все подробности. Да?
Самое времечко! Во двор или не во двор? А? Если не во двор – вам не годится? Да? И, значит, я примчался, чтобы удовлетворить ваш справедливый интерес. Да? А по телефону вы спросить забыли об этом. Да? Понятное дело – нешто все упомнишь? Вы еще и про этаж у меня не спрашивали. Может, осведомитесь?
Гена вскинул подбородок и некоторое время играл желваками.
– Так во двор окна-то? – тихо спросил он потом.
– Во двор, во двор. Успокойтесь.
Гена бормотнул что-то невнятное, отошел, потоптался у витрины.
Покрутил головой. Посмотрел на часы. Вернулся. Шаркнул зачем-то ногой. И спросил смущенно:
– А правда, какой этаж? Я что-то как-то…
– Шестой, – безнадежно ответил я.
– Шестой… ага… понятно. – Вытянув шею, как жираф, он посмотрел в сторону метро. Потом сказал: – Маленько запаздывает.
Большая стрелка ползла к десяти.
– Ничего себе маленько… Ладно, не будем зря время терять. Не придет ваш покупатель.
– Чего вы сердитесь? – обиженно спросил он.
Святая простота. Та самая, что хуже воровства. Черт с тобой, еще пять минут. Что ты с ними поделаешь!..
Зря, зря пройдут эти пять минут, думал я, медленно шагая вдоль дома. Нет, ну правда. Квартира почти продана… почти… То-то и оно, что “почти”! Если б не это “почти”, я бы не топтался здесь за бесплатно, дожидаясь не то морковина заговенья, не то когда рак на горе свистнет, а был бы занят основательным и солидным делом: сидел бы в мягком кресле, толковал с Константином о подробностях будущей сделки, прихлебывал свежий кофе из фарфоровой чашечки, вдумчиво читал соглашение о задатке, решительно корректируя и улучшая те пункты, что призваны гарантировать как безопасность моих клиентов, так и мою собственную безопасность… а затем с достоинством получил бы на глазах у вожделеющей Елены Наумовны и сам задаток – двадцать… нет, тридцать новехоньких стодолларовых бумажек!.. Посчитал бы их… помусолил бы каждую чуткими пальцами… потом сунул бы обратно в конверт, а конверт – в карман. А почему? А потому, что задаток в первую очередь идет на оплату услуг риэлтора. Вот так… Лучше всего было бы сделать это еще вчера. Как грели бы сейчас карман эти двадцать… нет, тридцать бумажек! Но еще теплее было бы в душе: все, господа, черта подведена! дело к сделке, господа!..
Я вздохнул и посмотрел в сторону арки – там Гена беспрестанно вертел головой и приподнимался на цыпочки. Навязался на мою голову… Еще, не приведи господь, и вправду – ведь чего только в жизни не бывает! – придется иметь с ним дело… не обрадуешься. А вот с Константином все прошло бы как по маслу…
Ах, если бы бессмысленный Николай Васильевич сказал вчера твердое “да”: все, мол, Константин, Костечка ты мой любезный, согласен я на эту поганую квартирку, девятую, не то десятую по счету! и родные мои согласны! и сын мой Женюрка согласен! и нет больше духу мотаться по матушке Москве из конца в конец! и совсем уж разошелся я умом, силясь понять, что лучше, что хуже!.. черт с тобой, заломал ты меня, как зеленый куст!.. так что отдавай уж задаток – кровные свои денежки – в чужие руки и не сомневайся: не пойду я, Костюша, на попятный!.. Ах, если бы он вчера!..
– Идет, идет! – закричал Гена. – Приехал!
По тротуару к нам торопливо шагал человек в шляпе, в сером кургузом пальто, с большим мятым портфелем в правой руке… с красным платком в левой…
– Батюшки! – сказал я. – Николай Васильевич!
– Опоздал, опоздал, – одышливо повторял он; поставил портфель между ног, снял шляпу и стал утирать пот. – Жарко, жарко… опоздал, опоздал… извините…
Вот тебе раз.
– А где же Константин? – не выказывая ехидства, спросил я.
– Что Константин… что Константин! – отвечал Николай
Васильевич, нервно комкая красный платок. – Что Константин?
Видите, какое дело: не может мне Константин хорошую квартиру найти! Ездим, ездим – а все не то!.. Все не то! Не может
Константин! Ему б только денег сорвать, вот ведь какое дело! А куда меня сунуть – до этого ему дела нет! Хоть в трущобу! Ему что!.. Гена вот… Гена мне хорошую квартиру нашел… Ну, думаю, напоследок-то взглянуть… А то ведь поздно, поздно будет! Жмет меня Константин, ой жмет! Давит – сил нет!
– Ага, – кивнул я, – понимаю.
Николай Васильевич нахмурился и недоуменно посмотрел на Гену.
Судя по всему, Гена пребывал в легком помертвении. На лице у него было отчетливо написано, что он, Гена, понимает: денежки уплывают из рук, потому что клиент, как только что обнаружилось, связан с продавцами напрямую; но он, Гена, за них, за денежки-то, еще побьется, чего бы ему это ни стоило.
Николай Васильевич перевел взгляд на меня и так же недоуменно спросил:
– Сережа! А вы-то здесь зачем?
Я хмыкнул.
– Приехал квартиру Гениному клиенту показывать. Вам то есть.
– Мне, – растерянно повторил Николай Васильевич. – Так что же, значит… Это какой же этаж?
– Шестой, как и раньше.
– Ты ж говорил – на десятом! – взревел профессор.
– Я перепутал, – сказал Гена. – Но это не важно…
– Да как не важно! – Николай Васильевич воздел руки к небесам. -
Как не важно! Ты что?! Я же эту квартиру видел! Знаю я ее как облупленную, эту квартиру! – Он отчаянно нахлобучил шляпу и потряс перед лицом Гены сжатыми кулаками: – Это же Константина,
Константина квартира! Это же вот его квартира, Сережина! Я в нее тыщу раз ездил! Ты чего?!
“Та-та-та-та-та, лик ужасен”, – мелькнуло в голове.
Гена, однако, умел держать удар. Только губы немного подрагивали да глаза часто перескакивали с меня на Николая Васильевича и обратно: щелк-щелк, щелк-щелк.
– Ничего! – бодро отвечал он. – Ничего! Ну и что, что видели?
Лишний раз не помешает. Бывает, раз не увидишь, два не увидишь, на третий такое увидишь! Чего там? За погляд денег не берут.
– Да не пойду я никуда, господи! – плачуще крикнул Николай
Васильевич. – Не пойду!
– Как это! – Гена схватил его за рукав. – Вы что?! Непременно надо, непременно! А перекрытия посмотреть?! А планировку?!
– Да видел я, видел я перекрытия! И планировку видел, – жалобно лепетал Николай Васильевич, упираясь. – Я-то думал: другая квартира! Ты же сказал: десятый… вот я и думал… Да подожди же, Гена, подожди!
– Планировка! – волновался Гена. – Перекрытия!
– Не тяни ты меня, Гена, не тяни!.. Видел я, видел сто раз… и жену возил, и сына…
– Ну ладно, – сказал я. – Разобрались? Пойдемте, Николай
Васильевич, я вас к метро подброшу.
– Да, да… К метро… конечно… Вот как вышло-то, а! Ну хорошо, Гена… до свидания. Видишь как. Это же не десятый… это шестой… а на шестом я был. Что ж… – Он обреченно поднял портфель. – Если бы десятый – другое дело… извини… конечно, планировка, перекрытия… я понимаю. А шестой – ну куда! Все, все… До свидания, Гена, до свидания! Извини, дорогой. Ошибка вышла. Ведь шестой?
Николай Васильевич беспомощно оглянулся.
– Шестой, – подтвердил я, легонько подталкивая его к машине.
– Я-то про десятый думал, – все еще толковал он, безжалостно комкая платок. – Понимаешь, Гена? Про десятый. Если бы десятый – так оно, конечно… а то ведь шестой!
Гена постоял еще минуту, как будто надеясь, что сейчас мы повернем назад, потом ссутулился и побрел к трамваю.
– Полтора месяца! Полтора! – повторял Николай Васильевич, обняв портфель. Мы сидели в машине. – Я к ноябрьским хотел переехать!
А теперь и к Новому году не получится… И ведь что за квартирка? Там комнатки-то какие?! Вот вы бы в мою квартиру заглянули, вы бы сами сказали! У меня ведь комнаты – ого! А тут?
Тут комнатенки, комнатешки какие-то, а не комнаты… конурки…
Я тупо смотрел перед собой и отчетливо чувствовал, что у меня ссыхаются мозги.
– И что Гена? Что Гена? Что вы про него так? Гена как Гена. Не хуже других… Почему я с одним Константином должен?! Если он не может мне хорошую квартиру?! Если мы ездим-ездим, а толку – кот нагадил!.. Что Гена? Парень-то он вроде неплохой… Разгильдяй, разгильдяй!.. Я ведь как думал? Думал, этаж-то десятый! Если б десятый, так там, глядишь, и комнаты побольше. А тут – опять комнатульки… комнатешки… конурки эти… что делать, что делать!..
Николай Васильевич приложил ладони к глазам и сидел так с минуту.
– Да что уж… Да, да… наверное… что уж… Комнатки куцые, куцые комнатки, вот беда-то! Ведь у меня-то комнаты – у-у-у, хоть на велосипеде… Я ведь говорил ему, говорил: только чтобы комнатки побольше… ведь у меня-то вон какие… А он все талдычит про вторую квартиру-то эту, для Верки-то… Если Верке отдельную, так нас в конуру запихать надо? Ладно, пусть… ладно… Я уж и сам согласился… и жена тоже… и Женюрку уломали… ой, уломали – со скандалом… мать плачет, он орет… господи, господи!.. Сколько крови он мне, мерзавец, попортил! – вдруг на тебе: согласился. Черт с вами, говорит, вместе так вместе. Не хотите мне отдельно – и ладно, я себе сам скоро квартиру куплю… А? Каков? Купит он! На что купит? Семь классов едва кончил, отсидел четыре года… ларек ограбили, дурачье. На что купишь-то, оглоед? – усмехается… Ладно квартиру, ты на хлеб бы себе заработал! – лыбится, и все тут…








