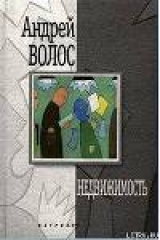
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
26
В подъезде голоса звучали гулко, как в бане. Старухи поднимались медленно, передыхая. Несколько мужиков шли последними, по-свойски подбадривая их негромкими шутками.
Павел давно уехал из дому и прожил в Ковальце почти тридцать лет. Разумеется, с годами его жизнь переплелась с жизнью этих людей – с кем-то он породнился через Аню, с кем-то был просто дружен и близок душевно. Их было много, и не возникало сомнений, что при случае они и без меня бы отлично справились; и что не они мне помогали сегодня, а я им. Единственное, что связывало нас, – это Павел; а Павла мы час назад оставили в могиле, мокнущей теперь под мелким холодным дождем; и эта связь распалась. Мое участие в надвигающемся словно грозовая туча торжестве было не обязательным. От них исходил ток смутной враждебности, я был для них чужим, и как они тяготили меня, так и я тяготил их; и конечно же в глубине души они были бы рады, если б я оставил их в своем кругу.
Я и сам чувствовал себя совершенно лишним. Мне было бы лучше сейчас оказаться одному или по крайней мере с кем-нибудь из близких – из тех людей, которые способны хотя бы смутно вообразить себе, что я тоже жив, тоже чувствую боль и мое дыхание тоже ненадолго оставляет влажное пятно на холодном стекле бесконечной ночи. Мне было бы лучше горевать в одиночку – горевать свое собственное горе; да, горевать свое и не делить его с ними – потому что в их взглядах читалось, будто я что-то у них отнимаю.
Однако было бы глупо пытаться обнародовать свои чувства: я бы только смутил этих людей и расстроил течение поминок.
А уехать я все равно не мог, потому что был здесь единственным, в ком текла общая с Павлом кровь.
В коридоре было не протолкнуться: все хотели мыть руки.
На лестничной площадке тоже народу хватало. Я пожалел, что не курю. Нашлось бы тогда хоть какое занятие. Переговаривались вполголоса. Все уже думали о застолье, нервно ловили ноздрями запахи, долетавшие из квартиры. Только высокий, статный и розовощекий милицейский майор – должно быть, тот самый Валька
Семенихин, с которым Павел был дружен и который, будучи двоюродным братом Ани, одалживал ему деньги на ее похороны, – оживленно болтал с каким-то толстяком. Вот толстяк рассмеялся и громко сказал: “Ему машина – как телеге пятая нога: неделями не просыхает!..” Сосед Михаил Герасимович, мастер по бобышкам (он был парадно одет, при галстуке), увидел меня, обрадовался и стал подробно рассказывать, как утром сколачивал лавки для поминок.
Выражение лица у него было тревожное – похоже, Михаил
Герасимович боялся, что, несмотря на эти лавки, за стол его все-таки не позовут. Несколько черных старух сгрудились на ступеньках, переговариваясь. Еще одна торопливо протискивалась к ним из квартиры – так, словно несла важную и не терпящую отлагательства весть; и точно – прижала, как всегда, ладони к щекам, вытаращила блеклые глаза и громко прошептала с выражением священного ужаса на морщинистом лице:
– А колбасы-то!.. А огурцов!..
Старухи вновь заколыхались.
– Что, баб Кать, больно богато, что ли? – спросил майор посмеиваясь.
– Ой, богато! Ой, богато! – качала старуха головой, не отнимая ладоней от щек. – Это ж куды: ломится!
А другая заметила, поджав губы ниточкой:
– Аньку-то нашу так не поминали.
Посмотрела на меня, негромко фыркнула и отвернулась.
Майор бросил окурок, растоптал каблуком и сказал с широкой улыбкой:
– Ну ничего, баб Кать, ничего… Шлыковские – они богатые, видишь.
И снова рассмеялся, не глядя в мою сторону. Потом наклонился к толстяку и принялся что-то негромко ему втолковывать.
Одна из старух держала за руку одетого в хороший свежий костюм и белую рубашку, повязанную черным галстуком, худого парня лет восемнадцати, с очень внимательным взглядом красивых серых глаз и непропорционально большим и острым кадыком на тонкой шее.
Иногда она что-то спрашивала, и тогда юноша неторопливо и, кажется, очень обстоятельно отвечал, помаргивая и клоня к ней голову. Он не делал попыток уйти от нее; наоборот, когда старухе запонадобилось в квартиру, парень потянулся за ней, держась за рукав.
– Вы чего тут? Бросайте, бросайте ваши вонючки! Валентин!
Степан! Вы чего как просватанные? Сергей! Давайте-ка! Давайте!..
Хозяйством ворочала Людмила, возглавлявшая команду из нескольких ражих родственниц. Комнату перегораживали невесть откуда взявшиеся столы, сдвинутые и накрытые где клеенкой, где полиэтиленом. Теснились стулья, собранные по соседям. Скамейки, сколоченные Михаилом Герасимовичем из каких-то старых досок, выглядели добротно. На столах плотно стояли разнокалиберные тарелки и рюмки.
Людмила командовала:
– Ну что же вы! Что же вы! Ну проходите! Евгений Александрович!
Ну что же вы! Валя! Ну что же ты! Проходите! Проходите к дивану!
Евгений Александрович!..
Сначала усаживали начальника и главного инженера – того самого толстяка, с которым курил Валька Семенихин, потом и самого
Вальку Семенихина, милицейского майора (он напустил на лицо траурной серьезности, но розовощекости не утратил). Потом прочих, поплоше – все больше суровых костистых мужиков в коробящихся пиджаках и немолодых женщин в шерстяных или мохеровых кофтах. Потом старух, одна из которых посадила рядом с собой своего парня, а потом уже Михаила Герасимовича, соседа.
– Ну что же ты! – неожиданно сухо сказала Людмила. – Что же ты!
Как чужой! Иди сюда! Михал Герасимыч! Ну-ка подвинься!
И усадила меня между ним и несамостоятельным юношей в хорошем костюме.
Слышалось многоголосое бормотание, позвякивание ложек о тарелки.
Одна из Людмилиных помощниц разносила кутью, другая – холодные блины. Сразу несколько мужских рук занимались бутылками. Старухи в большинстве своем не возражали, чтобы им наливали дополна.
Вика сидела почти напротив, и я поймал взгляд, которым она смотрела на булькающую водку. Сосед потянулся горлышком к рюмке
– лицо ее просветлело и вспыхнуло, – но тут зоркая Людмила прикрикнула:
– Ты чего это! Ну-ка, Володя, убери! Не надо ей! – А потом вдруг махнула рукой и сказала: – А! Ладно! Ради такого дня! Один отчим-то у тебя был, дура! Больше не будет!
Постепенно звуки мельчали, а бормотание стихало. Первыми выжидательно замолкли мужики: на тарелках у них ничего, кроме блина и ложки кутьи, не было, а рюмки они уже цепко держали крепкими волосатыми пальцами; и, посмотрев на одного из них, я вдруг отчетливо вообразил себе то захватывающее ощущение, которое он скоро переживет: длинный выдох сквозь оттопыренные влажные губы, косящие вправо-влево глаза и нерешительные круги, совершаемые вилкой над столом в поисках чего-нибудь солененького.
Замолчали и женщины: у большинства тарелки были полны, и они, горестно потупившись, смотрели в салат.
Кто-то откашлялся. А кто-то сказал:
– Да… Вот так…
– Ну что же… – вздохнул толстяк инженер. – Евгений
Александрович! Может быть, вы?
Начальник поднял рюмку и сам вместе с ней поднялся. Все, кроме двух самых древних старух, тоже взяли свои рюмки и поднялись.
Начальник смущенно обвел глазами лица. У самого у него физиономия была просто-таки кумачовая. Он неловко начал говорить
– запинаясь, с повторами, – и вдруг я понял, что и впрямь они с
Павлом давно были знакомы и дружны, и отчество он путал как раз потому, что Павел ему был именно что Павел или даже Паша, а вовсе не Павел Иванович, а сам он Павлу – никакой не Евгений
Александрович, а просто Женька. Он говорил, а меня охватывало странное чувство отрешенности: предметы расслоились, и там, где был блеск стекла или металла, теперь стояло радужное марево; и казалось, что в этом пространстве, измененном словами краснорожего начальника, возможно очень многое – и даже такое, что Павел сам сейчас слушает, что о нем здесь говорят. И если это так, то конечно же он должен был смотреть на нас как на детей, испуганных надвигающейся темнотой и пока еще не понимающих истинного ее смысла. Почему-то я вспомнил, как мы шли сквером и спорили. “Да ну, – говорил Павел. – Ты же скелет! Я в твоем возрасте знаешь как бегал?” Я протестовал. “Ты что! Почему я скелет? Я знаешь как бегаю? Ну давай я побегу! – горячился я.
– Хочешь? Давай! Вон дотуда – хочешь? До фонтана – хочешь? Вот увидишь! Засекай!” Павел поднес к лицу запястье с часами:
“Три… четыре!..” Я ринулся вперед, рассекая воздух локтями и часто-часто шлепая по асфальту задниками кожимитовых сандалет… я бежал изо всех сил – бежал, бежал, бежал… просто никогда так быстро не бегал! Примчался к фонтану и сел на скамейку, совершенно запыхавшись. Павел подошел и сказал: “Пятнадцать… ну и что ты сидишь? Кто же так бегает? Чуть пробежал – и уже сел! Тоже мне беготня. Пошли, не рассиживайся…”
– В общем, пусть земля ему пухом, – сказал начальник и махнул рюмкой. Глаза у него были мокрые и красные.
Стало тихо.
По неписаному регламенту поминок после окончания его речи и до того момента, когда кто-нибудь непременно начнет предостерегать испуганным шепотом: “Не чокаться, мужики! Не чокаться!..”, должно было пройти две или три секунды гробового молчания. Эта во всех отношениях тяжелая пауза призвана показать, что, во-первых, все еще раз тяжело осмысляют случившееся и, во-вторых, вообще никакой спешки в смысле выпивки нету: не для веселья пьем и не для радости, а для того лишь, чтобы исполнить долг; не нами заведено, не нам и отменять; как ни противно подносить ко рту эту гадость, а все ж таки долг есть долг; и поэтому мы, конечно, выпьем на помин души усопшего, – непременно выпьем, непременно, – дай только срок пересилить к ней, к проклятой, нескрываемое отвращение.
Эти две или три секунды не успели протечь. Боковым зрением я заметил какое-то движение и рефлекторно скосил взгляд. Стоящий справа от меня юноша зачем-то наклонил рюмку и аккуратно лил из нее водку мне в тарелку. Смотрел он при этом вовсе не туда, куда лил водку, а под стол. Я успел взглянуть и под стол – там ничего интересного не было. Я догадался было, что ему, наверное, неудобно отказаться, а пить не хочется; и что он избрал вот такой способ избавиться от водки; непонятно было только, почему юноша предпочел мою тарелку своей. Но в эту секунду он, и без того высокий и прямой, выпрямился еще пуще – даже прогнулся в пояснице, – с нечеловеческой, с лебединой гибкостью свернул шею, и я поймал безумный взгляд его разъехавшихся в разные стороны глаз; а рюмка в подрагивающей руке коснулась тарелки и с хрустом лопнула. Юноша клонился все круче, не выпуская из побелевших пальцев то, что осталось от рюмки, – и осколок медленно елозил по мокрому фаянсу, издавая леденящий скрежет.
– Держи ж ты, ирод! – закричала бабка, заметив, что бьющееся тело внука, несмотря на мои усилия, сползает на пол.
Все вскочили.
– Витенька! – диким нутряным голосом закричала Вика. – Витенька, не умирай!..
Это был заурядный (если не считать того, что он случился крайне не вовремя) эпилептический припадок со всеми свойственными ему особенностями и протекавший в обычной атмосфере испуга, растерянности и суматохи, когда самые брезгливые отворачиваются, самые разумные бегут звонить в “Скорую”, самые решительные суют карандаш между стиснутыми зубами, самые чувствительные заполошно визжат, а самые близкие норовят довершить начатое недугом дело своими командорскими объятиями. Как все припадки, он кончился через две или три необыкновенно долгих минуты. Больного перенесли в другую комнату и положили на кровать, где он тут же погрузился в беспробудный сон. С полу подтерли; женщины стояли кучками по углам, держа платки у ртов и однообразно бормоча друг другу что-то вроде “ушс-ушс-ушс-ушс”; курящие успели перекурить на лестнице; вызванная “скорая” не ехала, да, похоже, и необходимость в ней отпала; делать было больше нечего.
– Ой, а картошка-то! картошка! – воскликнула Людмила и побежала на кухню проверять картошку.
Помявшись, стали вновь безрадостно рассаживаться.
Первую выпили вразнобой. Оно было и объяснимо: кто-то успел махнуть раньше, еще до событий (эти сейчас смущенно доливали себе и молчком повторяли, чтобы не сидеть дурак дураком), кто-то до событий не успел, поэтому быстро выпил сейчас и под шумок, пользуясь тем, что прежде выпившие тянулись к бутылкам, тоже налил себе полную.
Наступила тишина.
– Вот так, – пробормотала одна из старух. – Живешь-живешь, а потом нба тебе.
Все посмотрели на нее с ожиданием – быть может, продолжит и скажет о покойном еще хоть что-нибудь такое, подо что можно честно поднять рюмку.
Старуха жевала беззубыми деснами и молчала.
– Да уж, – пояснила вторая.
– Не каждый день такое, – сказала еще одна. – Жизнь есть жизнь.
И, поджав губы, посмотрела на меня.
Старухи говорили шепотом, словно не желая мешать; поскольку остальные заинтересованно слушали, все было отлично слышно.
– Эх, Витя, Витя… Смолоду здоровья нет. При такой-то зверьей жизни нужнбо оно, здоровье, ох нужнбо…
Над столом пронесся легкий вздох разочарования – теперь уже все поняли, что старухи толкуют не о Павле.
– Перенервничаешь тут, когда у родной двоюродной дачу отымают… – заметила следующая; впрочем, может быть, это была одна из предыдущих – черт их разберет.
– Ой, а Викушечка-то, ой бедняжка, ой кровиночка!.. – запела самая древняя. – Это ж сколько сил она на них положила, и вот: ломалась, ломалась, а дача-то и не ее!.. А эти-то, эти-то! Как совести хватает!
Людмила вышла из кухни, я поманил ее к себе, и она машинально наклонилась, еще не зная, в чем дело.
– Да уж… – пробормотал один из мужиков, недобро косясь на меня пока еще относительно трезвым взглядом: похоже, я раздражал его уже тем, что отвлекал на себя внимание и не позволял никому сказать ничего такого, подо что можно было бы выпить. – Мы законы знаем… Закон-то дышло, а ни шиша не вышло… Кто смел, тот и съел… а ты потом расхлебывай… Тут уж, как говорится… да уж… кто где, а не куй сгоряча…
– Слушай, – торопливо сказал я ей на ухо. – Ну ты бы объяснила своим!.. Никто ни у кого ничего не отнимает. Дача – твоя, как хочешь, так и распоряжайся. Через полгода оформим документы. Ну нельзя раньше, что я могу сделать!
– А зачем ты смертную просил?!. – вскрикнула она, распрямляясь, сверкнула взглядом и вдруг закрыла лицо ладонями и провыла сквозь них: – Заче-е-е-е-ем?
Смертной называли они загсовское свидетельство о смерти.
– Господи, да при чем же тут? – оторопело спросил я, озираясь. -
При чем тут смертная?..
…Не прошло и часу, как я уже неспешно ехал на север по узкому и разбитому Федоровскому шоссе. Свет фар прыгал по горбатому асфальту, продавленному колесами больших грузовиков. У меня было легко на душе, и я думал о том, что теперь поеду в Ковалец на сорок дней… наверное, будет зима… Может быть, занесет снегом. Но я помню номер: 3-754. Как-нибудь найду… А следующей осенью нужно будет поставить на могиле памятничек… пусть небольшой… Фары рвали темноту, и казалось, что она висит клочьями по сторонам – а это были лапы сосен, подступивших к дороге. Шоссе петляло, но до поворота на Москву оставалось совсем немного. А уж от поворота дорога становится просторней и глаже… Все кончилось, все было позади – вскрики, гам, слезы
Вальки Семенихина, милицейского майора, нежданно-негаданно бросившегося лицом в тарелку со словами: “Мы им сколько!.. мы им сколько!.. и если они!.. если они теперь!..”; изумленная кирпично-красная физиономия начальника (дар речи он потерял сразу после начала припадка, случившегося с юношей в хорошем костюме, а в дальнейшем только крякал и тряс головой); нелепые мои попытки что-нибудь объяснить, шум, гам, тарарам – и гробовая тишина после слов: “Ну хорошо, я тогда, пожалуй, поеду”.
Недоуменный ропот; старухи, отводящие глаза и подносящие краешки черных платков к непреклонно поджатым губам; бесконечное повторение одного и того же: “А выпить-то?! Ну как же не выпить?! Да ты что?!”; ледяная бутылка водки, которую Людмила силой совала мне в карман; ее заполошные выкрики: “Да вы чего?..
Да разве я бы без него?! без Сережки?! Вы чего?! Да ведь он!..
Да ведь я!..”; чье-то сожалеющее бормотание: “Вот как оно нехорошо вышло-то… вот как…”; неожиданное объятие Вики, которая со слезами, как всегда торопливо и скомканно, проговорила мне: “Уж ты не сердись, пожалуйста… Приезжай, приезжай на сороковины!..” – все это было позади. Ну при чем тут смертная, думал я, объезжая очередную колдобину, ну при чем тут?.. Что ж, выходит, Людмила мне так и не поверила? И никто из них не поверил? И теперь они долгих полгода будут мучительно ждать разрешения своих сомнений – волноваться, обсуждать, беспокоиться, строить робкие планы, гнать от себя надежду, которая может обернуться разочарованием?.. Но я же сразу, сразу сказал! И повторял потом как попугай одно и то же… Так и не поверили?.. Боже мой, боже мой!.. Все кончилось, я рулил, объезжая ямы, усталые колеса прыгали на неровной дороге; я заправился при выезде на трассу. Они толклись у меня перед глазами все вместе и по очереди: старухи в черных платках, костистые угрюмые мужики, женщины с печальными глазами; меня не покидало ощущение, что они все еще стоят у подъезда, недоуменно глядя вслед давно померкшим габаритным огням, стоят безмолвной гурьбой, обратив мне вслед тяжелые лица едоков картофеля, стоят молчаливые и отчужденные – так, словно между ними нет ничего общего, – а на самом деле крепче любых объятий связанные током общей крови.
27
Мне и хотелось увидеть Ксению (почему-то чудилось, что именно она сможет разогнать морок последних дней), и не хотелось этого
– я с тяжелым чувством подозревал, что ничего хорошего из нашего свидания не выйдет. Однако хотел я этого или не хотел, я должен был повидаться с ней как минимум еще раз – на сделке. Да вот только именно до сделки мы никак не могли добраться.
У всех все было наготове: время, желание, документы. Оставался сущий пустяк – деньги Ксении.
Без малого неделю участники комбинации стояли на низком старте, ожидая сигнала, – а пистолет все не стрелял. Будяев бессовестно ныл, повторяя как заведенный, что у него сердце не выдержит напряжения, пока я не сказал, разозлившись, что, если услышу об этом еще хоть слово, погоню его не только к нотариусу, но и в банк, и в департамент… Позванивал и Кирилл Анатольевич, менеджер из “Своего угла”, – мол, когда же? Мне и самому было чрезвычайно интересно – когда? Я отвечал привычно: как только, так сразу.
Все это меня раздражало, нервировало, бесило и доводило до белого каления – но ни в коей мере не удивляло. Что удивительного? Так и должно быть. Всякий сведущий человек скажет, что сделка с недвижимостью вообще совершиться не может.
На это есть целый ряд фундаментальных причин. А случаи, когда она все же доходит до благополучного окончания, можно объяснить исключительно вмешательством высших сил. Ну и что удивляться, что высшие силы не торопятся? На то они и высшие – им виднее.
В первом часу ночи я все еще сидел у телефона, злясь и нервничая. На утро была предварительно назначена встреча в банке
“Святогор”. Сейфы зарезервировали. Как всегда, дело оставалось за малым. Однако Марина до позднего вечера никак не могла поймать Ксению, чтобы получить подтверждение ее готовности.
В двадцать две минуты первого я вздрогнул от телефонного звонка.
– Дозвонилась, – сказала Марина. – Черт ее где-то носит. И мобильный был выключен. Только-только домой вернулась.
– Да бог с ней-то, с деньгами что? Готовы деньги?
Марина помялась:
– Не знаю…
– Да ты же звонила!
– Звонила… а что толку? Она говорит, у нее ничего нет.
– Чего ничего?
– Вообще ничего.
– Бог ты мой! А что есть?
– Не знаю…
– И денег нет?
– Не знаю. Она сказала: ничего.
– В каком смысле – ничего? Да что ж такое-то, елки-палки! Ну ты спроси, спроси конкретно: деньги-то у нее есть?
– Я спрашивала.
– Ну?
– Она расплакалась и говорит: у меня вообще ничего нет.
Я невольно выругался.
– Ну и что теперь?
– Не знаю.
Мы помолчали.
– Нет, ну все-таки, что это значит? Что это значит на человеческом языке: ничего? Нет у нее денег, что ли? Не будет завтра сделки?
– А черт ее знает, – сказала Марина. – Я больше не могу с ней.
Это ужас. Она нервная такая… у нее неприятности. Знаешь, как достала? Я с ней как с больной, честное слово. Я ей говорю – задаток пропадет, а она: что задаток, когда у меня жизнь пропадает… И так равнодушно все. Я не знаю про деньги.
Деньги-то, я думаю, у нее есть… только она не может сосредоточиться. Неприятности у нее там. Любовь, – вздохнула
Марина и, судя по звукам, стала прикуривать. – Понимаешь? Любовь.
Я хмыкнул.
– Понимаю. Еще бы не неприятности. Это большие неприятности.
Может быть, даже – максимальные… А у нас у всех будут большие приятности. Необыкновенно большие. Просто огромные. Полопаемся все от счастья… И, между прочим, у “Своего угла” еще покупатели на коноплянниковскую квартирку есть… я вот сейчас упущу ее по вашей милости… по Ксениной… черт бы ее побрал!.. а потом ведь не найду! Так всегда: если прошляпил из-за какой-нибудь глупости – все, хоть обыщись – нету.
Марина почмокала, помолчала. Помолчав, тупо спросила:
– Ты про задаток, что ли?
Ей, конечно, тоже во всем этом радости было мало.
– Я про все. И про задаток тоже. Нет, ну интересно! А про что еще? Про любовь?.. Конечно, про задаток. Какая, к черту, любовь, когда задаток пропадает?
– Не говори, – вздохнула она. – Там ведь вот что. Там этот ее мужик… бизнесмен этот… в общем, я толком не пойму, но похоже, что он ее совсем бросил. Они уже давно ругались. Она мне все жаловалась – мол, то да сё… он такой сложный… с ним трудно… А теперь – вот. Теперь не трудно, потому что он отвалил. И с концами. А она его любит. Я так понимаю, раньше им квартира нужна была, чтобы, ну… ну, жить вместе, короче говоря. А теперь он ей эти деньги вроде как вместо отступного дает. Мол, на, только ко мне не вяжись… Они долго вместе были… она говорила. Года два, что ли. Понимаешь? Она переживает. Она рассчитывала, что это временно. А оно вон как обернулось. Нет, я точно-то не знаю… Она думала, вот он из
Франции приедет, и тогда они…
– Подожди, так он приехал?
– Приехал.
– Значит, деньги есть?
– По идее, есть, – вздохнула Марина. – Но от нее не добьешься.
Нет у меня ничего – и все тут. Вообще ничего. И рыдает. Вообще, говорит, ничего нету… Потом трубку бросила.
– Это цирк, – сказал я. – Цирк с конями и клоунами. Глотание огня. Шапито. Прыжки на батуте. Что угодно, только не торговля недвижимостью. Значит, так. Я сейчас звоню этому Кириллу
Анатольевичу – и все отменяю к чертовой бабушке. А то припремся все в “Святогор” спозаранку, а денег нет… Вот удовольствие.
Лучше уж тогда на послезавтра.
– Подожди, – сказала Марина со вздохом. – Давай-ка я еще раз попробую. Через минуту перезвоню.
Перезвонила через пятнадцать.
– Есть у нее деньги… Господи, ну все жилы она мне вымотала!
– Точно есть?
– Точно. Пожалуйста. Главное, представляешь, говорит: ой,
Марина, да что вы все с этими деньгами!.. Ну ты прикинь! Что вы все с этими деньгами!.. Мы на ушах из-за нее стоим, а она вон чего – что вы все, Марина, со своими деньгами!..
Ксения опоздала минут на сорок.
Мы стояли под несильным дождем у входа в депозитарий. Марина курила, глядя в сторону арки, откуда должна была показаться машина. Я торчал истуканом под зонтом, совершенно ни о чем не думая, – надоело нервничать. Саша Панкратов из “Своего угла”, подняв воротник, невозмутимо прохаживался возле нас, задумчиво помахивая кейсом. Коноплянников задавал вопросы.
– А может, она не приедет? – спрашивал он каждые три минуты. -
Нет, ну разве так дела делаются? Так не делаются дела. Почему она опаздывает?
Марина сначала отвечала ему сквозь зубы – де, в пробку каждый может попасть, – потом совсем отвернулась и даже отошла на несколько шагов, чтоб не раздражал.
– Нет, это несерьезно, – толковал неугомонный клиент “Своего угла”. – Так дела не делаются. Разве дела так делаются? Это что же? Разве можно опаздывать? В таком деле опаздывать нельзя. Я понимаю, пустяк какой-нибудь. Тогда можно опоздать. На минуту, на две… я понимаю. Я сам иногда опаздываю. На минуту, на две.
Не больше. На минуту, на две – это дело другое. Бывает. На поезд два раза опаздывал. Но не надолго же! – на две минуты буквально.
На две минуты – и то не догонишь. А тут что? Куда это годится – на полчаса! – Он фыркнул и повторил: – Нет, так дела не делаются.
Я спросил зачем-то:
– А как делаются?
– Как делаются? – удивленно переспросил Коноплянников. – Нет, ну, четкость же должна быть! Это что же? Не в игрушки играем…
Я пожал плечами. Уж какие тут игрушки. Но мне, в общем-то, было все равно. Получасом раньше или позже – лишь бы приехала. И с деньгами. Будяевых я застращал накануне до полуобморока – чтобы не опаздывали к нотариусу. Все документы, включая паспорта, у меня – поэтому они ничего не забудут. А то, что посидят немного в конторе, нас дожидаючись, – так не беда. Там прохладно, креслица… Клавдия Андреевна чайку предложит – если они, конечно, признаются, по какому делу заявились и кого ждут… В департамент до обеда не поспеем – да и черт бы с ним. После обеда приедем. Сегодня регистрацию не пройдем – тоже ничего.
Завтра кончим. Время не имеет значения. Имеет значение только сам факт – пусть привезет деньги. Это раз. И пусть подпишет договор – это два. Все.
– Да, – твердо сказал я, чтобы только он не смотрел на меня как баран на новые ворота, ожидая одобрения своих оригинальных идей.
– Конечно. Что вы! Так дела не делаются.
И как бы невзначай отошел на всякий случай подальше…
Когда черная “хонда” показалась в арке, у меня заколотилось сердце. Но не только от радости, что сделка, похоже, все-таки состоится.
Всплеснув руками, Марина двинулась навстречу.
– Я же говорю: пробка! – сообщила она, когда они вместе подошли к нам. – Все, все, пойдемте! Сергей, звони!
Все, время затикало иначе. Нервно так: тик-тик-тик-тик!
Ксения скованно улыбается; бледна, под глазами синяки. Бедная.
Но мне сейчас не до тебя. Извините. Сделка. Поехали. Я с сожалением отвожу от нее взгляд, поворачиваюсь к дверям и нажимаю кнопку.
– Слушаю, – помедлив, говорит резонирующий голос.
– На сделку, пятеро…
Щелкает замок.
Входим в предбанник. Захлопываю внешнюю дверь. Черный глазок телекамеры изучает нас не моргая. Я смотрю не на Ксению. Секунд через десять молчаливого ожидания слышится щелчок замка второй двери – он жестче. Поворачиваю крестообразный штурвал запора, с усилием тяну полутонную дверь на себя.
Коноплянников первый шагает вперед, первый же обнаруживает глядящую на него дыру автоматного ствола. Невольно шарахается.
Бывает. Депозитарий “Святогора” вообще производит сильное впечатление. Особенно когда приходишь впервые.
– Все металлическое из карманов на тумбочку… сумки тоже на тумбочку, – говорит охранник.
Спускаемся на два десятка крутых ступеней. Коноплянников озирается. Выложив ключи, прохожу сквозь арку металлоискателя.
Охранник копается в сумке.
– Пожалуйста, – говорит он, когда я возвращаюсь. – Проходите.
Снова прохожу металлоискатель – уже с ключами и сумкой. Зуммер ноет.
За мной Ксения. Потом Марина. Панкратов. Все в порядке.
Коноплянников оказывается последним. Шагает в арку. Загудело.
– Посмотрите в карманах-то, – недовольно говорит охранник. -
Ключи, монеты. Телефон. Калькулятора нет?
Калькулятора нет. А зуммер выходит из себя.
Коноплянников снимает плащ и комом бросает на тумбочку. Шарит в пиджаке. Ничего не найдя, с обрадованной улыбкой движется вперед.
Неудача.
– Владимир Сергеевич, вы пиджак снимите, – сдержанно советует представитель “Своего угла”.
– Может, разуться? – огрызается Коноплянников.
Но пиджак снимает.
Зуммер не успокаивается.
– Пули в голове нет? – весело шутит охранник. – На войне не были?
– Что ж такое-то, господи? – спрашивает Коноплянников.
Я говорю негромко:
– Гвозди бы делать из этих людей.
Чувствую взгляд Ксении. Поворачиваюсь – точно: смотрит на меня с едва заметной улыбкой.
– Штаны я снимать не буду! – взвинченно говорит Коноплянников.
– И правильно, – бурчит Марина. – Этого нам только не хватало.
Охранник ставит его перед собой и обмахивает ручным детектором.
– Идите, – вздыхает охранник. – Еще бывает, протезы звенят…
Снимаю трубку наборного устройства и, закрывшись плечом, быстро набираю код – двадцать две цифры. Похоже, не ошибся – через несколько секунд в трубке начинает приветливо пиликать.
Щелчок следующего замка.
Опять крестообразный штурвал… полутонная дверь… глухое помещение, залитое безжизненным светом люминесцентных ламп… закрыть первую, тогда сработает запор второй двери… снова штурвал… все, пробрались.
Еще один автоматчик. Довольно просторное помещение. Несколько конторских стоек. За главной – мерцание мониторов, стеллажи.
– Пожалуйста, проходите.
Приветливый клерк в бело-синей форменной рубашке.
Выкладываем паспорта. Протягиваю заполненные бланки.
Просматривает. Сличает с паспортами. Все в порядке.
Подписи.
– Вот здесь, пожалуйста… и здесь… Госпожа Чернотцова… здесь, пожалуйста… и здесь… Господин Коноплянников…
Панкратов… Капырин…
Все подписано, все проверено.
– В соответствии с дополнением к договору аренды сейфа номер
F-1245, – бегло бормочет клерк, поглядывая то в бланк, то на заинтересованных участников сделки, – допуск к сейфу будет произведен при наличии зарегистрированного договора купли-продажи квартиры… бу-бу-бу-бу-бу… на имя… бу-бу-бу-бу-бу… и зарегистрированного… бу-бу-бу-бу-бу… договора купли-продажи квартиры… бу-бу-бу-бу-бу… на имя… бу-бу-бу-бу-бу… совместно… Коноплянников В. С., Панкратов С. А.
Коноплянников морщит лоб. Панкратов что-то ему негромко растолковывает.
– А почему две квартиры? – спрашивает все-таки Коноплянников.
Я смотрю на часы. Ведь объясняли ему, почему две.
– Так в ваших дополнениях, – любезно отвечает клерк.
– Все верно, – говорит Панкратов. – Обе квартиры должны быть переоформлены. Будяевы не могут вашу купить, если их квартиру не купит Чернотцова. Понимаете? Вы сможете получить деньги, только если обе квартиры продадутся.
– А если нет?
– Тогда все назад. Денег не получите, но и квартиру не продадите.
– Но я-то одну продаю!
– Владимир Сергеевич, все правильно, – скрипучим металлическим голосом говорит Панкратов.
Коноплянников смиряется, но все же бормочет что-то вполголоса.
Так, теперь со вторым сейфом… второй сейф мой. Никакой совместности. Никаких ограничений.
– А после двадцать второго в течение десяти дней… – трандычит клерк, – Чернотцова Ксения Николаевна…
Все верно. Если сделка по каким-либо причинам не состоится – например, Будяев откажется продавать свою квартиру или все мы сейчас по дороге к нотариусу упадем с моста, – госпожа
Чернотцова сможет получить свои деньги обратно.








