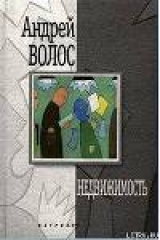
Текст книги "Недвижимость"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
18
Нежданный снег шуршал всю ночь, под утро стих, и тут же его влажную шкуру схватило морозцем. В десятом часу я подъехал к бензоколонке километрах в тридцати за окружной, и, пока стоял с заправочным пистолетом в руке, было слышно, как ветер выметает из леса листву и она со стеклянным шорохом скользит по зеркальному насту.
Тупорылые грузовики тащились один за другим, с натужным гулом взбираясь на пологий холм и так же один за другим пропадая за перегибом.
Я закрутил крышку бака и сел за руль.
Встречная полоса была свободна. Скоро я нагнал армейскую колонну, если можно назвать колонной две следующие друг за другом машины: первым шел командирский “уазик”, следом тянулся крытый брезентом бортовой “КамАЗ”. Они не спешили. Обгоняя головную, я бросил взгляд направо и увидел солдата, который, свесив локоть за окно, безучастно следил за моим маневром. В зеркальце заднего вида долго маячили золотистым сиянием их зажженные фары.
Дорога скатывалась к Оке, в серебристую мглу низких облаков и сероватого снега.
Я снова ехал в Ковалец – уже не счесть, в который раз: пятый? шестой? Все они были похожи, как близнецы: та же дорога, тот же асфальт, обочины, лес, косогоры, Ока, заправки, чашка чаю в придорожной “заезжаловке”, а потом желтое худое лицо Павла на серой подушке, погасшие глаза, в которых не было ничего, что могло бы назваться жизнью, и голос, который нужно было бы называть шелестом: “Ладно, ладно… все нормально, чего там…
Видишь вот, какая гадкая вещь – полипы… Такая дрянь, а… Черт их знает, откуда они взялись. Ну ничего не поделаешь. Главное – захватили вовремя. А то ведь и вообще бы… Ничего, ничего. Я спрашивал врача: пускай, говорит, немного подживет, а тогда уж вторую операцию – ну чтобы все вернуть на место…” И он вопросительно смотрел на меня: понимаю ли я, о чем идет речь? Я понимал, о чем шла речь; я согласно кивал и отвечал Павлу его же словами: “Конечно, что ты! В этом деле главное – вовремя захватить. Это они молодцы. Коновалы, конечно, но видишь: все-таки справились. Ничего, ничего. Тебе главное – окрепнуть. А тогда уж можно и вторую операцию. Конечно! Ничего, ты еще будешь у нас как огурчик!” – изо всех сил стараясь говорить тем отвратительным бодрым тоном, который был должен, по идее, вселять в больного надежду, но по причине своей фальшивости не мог конечно же ни в кого ничего вселить. Впрочем, скорее всего я мог бы говорить каким угодно тоном и что угодно – даже правду, – поскольку и самая суровая правда не оказала бы на Павла никакого действия: Павел был защищен надеждой, покрыт ею словно крепчайшей броней, способной противостоять любому удару, – надеждой из тех, что умирают последними, то есть покидая уже стынущее тело… Он был еще жив, и, пока он был жив, настоящей, истинной и последней правдой являлось только то, что защищало его от смерти.
Хирург Косталенко действительно говорил об операции, однако из его слов можно было заключить, что сам он не видит в ней никакого смысла. Кроме того, и после первой-то Павел стоял так близко к краю, что о второй в ближайшее время нечего было и думать.
Я чувствовал постоянное стеснение где-то не то в горле, не то за грудиной, но это была не болезнь, не сердечный приступ, а просто ощущение беды, вкус несчастья, красивший все кругом в более темные тона, чем на самом деле; даже состояние быстрого движения казалось фальшивым, и было легко вообразить, что машина вовсе не мчится к городу Ковальцу мимо полупрозрачных темных лесов, на опушках которых ветер гонит по насту желтые и бурые листья, а, напротив, мертво покоится в одной и той же точке мирового пространства, правда без устали крутя колесами, чтобы подкатить под себя землю.
Мокрый серый асфальт летел навстречу, я смотрел в лобовое стекло, на котором начали появляться, разбиваясь в прозрачные копейки, дождевые капли, и видел смеющееся лицо Павла, повторявшего: “Мало каши ел, Серега! Маловато каши!..” Павел сидел за круглым столом, покрытым цветастой плюшевой скатертью.
Опершись локтем, он выставлял левую руку, а я, сам изнемогая от обессиливающего смеха, налегал на нее всем весом своего невзрослого тела, норовя все же повалить. “Подожди! Подожди,
Павлуша! Сейчас! Ну ты что! Нечестно! Ах так?! Подожди же!” – пыхтел я. Вокруг стояло туманное сияние, в котором все окружающее расплавлялось и становилось невидимым, и только оба мы были высвечены солнцем и превращены в отчетливую, навек теперь неизменную картину.
Вторая операция должна была, как и первая, продлить Павлу жизнь, но продление жизни обещало быть столь недолгим, что ради этого куцего срока не стоило, пожалуй, принимать новые муки. Какая разница – неделей или месяцем позже; пусть годом, не важно. Что такое год? – триста шестьдесят пять дней, каждый из которых начинается с замены калоприемника. Нет, нет. Не нужно.
Павел исходил из неправильных посылок: полипы… надо окрепнуть… вторая операция… все вернется на место. А на самом деле: канцер в последней стадии… жизнь на волоске… и в любом случае вонючая дырка в животе до самого конца.
Я гнал Асечку дальше и дальше по дороге, которая то кривилась и тогда становилась видна только на несколько сот метров вперед, то совершенно выправлялась и в этом случае простригала лес на вершинах покатых седых холмов, горбящихся до горизонта.
Снег начался, как всегда, неожиданно: пространство подернулось мелкой рябью, заволновалось, а уже через несколько минут казалось, что кто-то машет огромными мятыми простынями и они трепещут и хлопают высоко над землей.
Скоро дорога совсем захужала, спешить уже не имело смысла, и километров через шесть я остановился у придорожной закусочной.
Окно смотрело все на то же шоссе, и поле, и черный лес за полем,
– все одинаково заштрихованное белыми карандашами снега. Чайный пакетик медленно тонул в кипятке, и желто-красные протуберанцы, кривясь и расслаиваясь, пронизывали воду. Буфетчица погромыхивала посудой, еле слышно тренькала какая-то музыка.
Бойко подкатила светлая “Волга”. Подняв воротник, сунув руки в карманы и оскальзываясь, водитель просеменил к дверям, а войдя, ругнул погоду, гололед и американские сигареты. Через минуту он уехал, нещадно газуя и оставляя за собой блестящий след ледяного наката, и шоссе снова опустело. Тревога почему-то отступила, и я подумал, что бессмысленно жаловаться на то, будто живешь не своей жизнью: значит, своей, если именно ты ею живешь. А Павел бы сказал, наверное, что жизнь хороша любая, и был бы прав: она и впрямь хороша, и впрямь можно жить любой. Ах, Павел, Павел… ладно, ладно, может быть, все будет нормально. Бог даст…
Иногда проезжала машина, снег за ней вихрился и летел комками из-под колес. Можно было бы и вот так: колесить туда-сюда, ненадолго останавливаясь у редких закусочных, покупать русские сигареты, балагурить с буфетчицей, а потом снова ехать, и ночью ехать, и приезжать под утро. И, должно быть, видеть во сне все то же самое: набегающий асфальт, закусочные, героических и неправедных ментов и огни стоп-сигналов… Работа есть работа,
Огурцов прав. И никакой трагедии… Я кусал хлеб, жевал сосиску, прихлебывал чай, заснеженная дорога была пуста, а небо уже начинало сгущаться, набирая вес, и, стало быть, приходилось иметь в виду, что часам к пяти окончательно стемнеет. Потом проехала та маленькая колонна, которую я совсем недавно обгонял.
Стекло стало позванивать: “КамАЗ”, как носорог, неспешно пер по шоссе, желто горели фары, и было похоже, что для его грубых колес асфальт никогда не бывает скользким.
Я расплатился, сел в машину и снова нагнал вояк неожиданно быстро: выехал на перегиб холма и увидел их внизу, в ложбине, где дорога по короткому мосту перемахивала узкий овраг и тут же брала немного влево.
Мост был, к счастью, свободен; грузовик занесло уже при съезде, и он завалился на косогор, пропахав боковиной снег и жухлую траву до черной земли, а задним бортом покорежив метра полтора металлических перил. Левые колеса нелепо висели, и один из солдат пинал переднее, высоко задирая ногу, – должно быть, именно затем, чтобы оно медленно вращалось, – а второй стоял перед офицером, который кричал что-то матерное и размахивал руками.
Когда я приопустил стекло, стало кое-что слышно.
– На козе тебе ездить, Каримов, твою мать! На козе! Знаешь, твою мать, почему? Отвечать, когда спрашивают!
– Не могу знать, товарищ капитан, – дрожащим звонким голосом отвечал Каримов.
– Не могу зна-а-а-ать! Чурка, твою мать! Потому что ты козел и есть! Козел ты рогатый! Ты сколько машину водишь, баран! Два года! Ты видишь – гололед! Какой дурак тормозит на повороте?! Ты хоть понимаешь, что везешь? Или тебе все равно? Ну можно ли тебе руля давать, барану такому! Тебе самокат нужен, самокат, твою мать! А если ступица сломалась?
– Не сломалась, товарищ капитан…
– Молчать! А если б сломалась, ты б дальше на себе их попер?!
Отвечай, когда спрашивают!
– Не могу знать, товарищ капитан!
– Не могу зна-а-а-ать! Остолоп! Что стоишь?! Бери лопату!
Окунев! Ты что там колесо дрочишь? Бери вторую! Бараны, вашу мать!..
Потом он наклонился к окну, взявшись за кромку стекла испачканной в масле рукой, и возбужденно спросил:
– Товарищ водитель, до деревни не подбросите? Видите, какая петрушка. Трактор нужен.
– Да пожалуйста, – кивнул я. – Прямо по дороге?
Метров триста мы проехали молча. Капитан ерзал на сиденье, напряженно присунувшись прямо к лобовому стеклу, словно от его нетерпения зависело, как скоро мы доберемся до искомой деревни.
Вдруг шумно вздохнул, словно что-то для себя решив, и сказал:
– Вот баран этот Каримов! Так-то он ничего водит… Черт его потянул. Я сам двадцать лет за рулем. В такую погоду едешь – каждые пять минут дорогу нужно пробовать. Чуть тормознул, смотришь: ага! Ведет! Сбавь скорость! Моргни фарами: мол, так и так, товарищ капитан, нет возможности при настоящих погодных условиях соблюдать выбранный скоростной режим!.. Нет, будет переть, как на комод: дождь не дождь, снег не снег – пока рожей в кювет не въедет… вот баран этот Каримов!
– Бывает, – сказал я. – Да ладно. Дернете трактором, и все дела.
– Дернете! – неожиданно возмущенно возразил капитан; засопел, нахмурился, переживая. – Легко сказать. Не так-то просто это: дернете. Наковыряешься еще, пока эту дуру на колеса поставишь… да и борт поуродуешь. Вот баран! Нет бы придержать… Ведь понятно: снег же! Асфальт-то холоднее: его тут же и прихватывает. Да еще в низине. Я знаю. Я двадцать лет за рулем.
Я как что – сразу. Р-р-р-аз, р-р-раз! По тормозам. И все понятно
– скользко, не скользко… Это же как дважды два: низина, снег пошел, можно к бабке не ходить. Два года ему толкую… Так-то он парень ничего, этот Каримов. Разогнался, мать его так! Ну и конечно же: тут же – р-р-раз – и в кювет!
– Бывает, – повторял я. – Да ничего. Сейчас трактором…
– Курить можно?
Он чиркнул спичкой, жадно затянулся, долго не выдыхал, потом сказал сдавленно, сдерживая кашель:
– Ладно, чего там… ничего страшного, конечно. Тут такие дела, что… Живы все, и слава богу… Досадно просто: на ровном месте, можно сказать. Ладно. Я еще пацаном был, у отца в колонне дядя Миша когда-то… еще на пятьдесят первых ездили. Вот уж мастак был, этот дядя Миша. У него на все две истории. Первая: выпили по триста, по бутылке красного – и поехали. А вторая: выпили по триста, по бутылке красного, а один не пил, он-то и перевернулся!
Капитан захохотал, а отсмеявшись, горестно выругался.
– Весной из самого Омска колонну гнал – за три дня доехали, как из пушки, – сказал он. – А тут триста километров второй день одолеть не можем… Все не слава богу. То одно, то другое.
Только погрузились, с аэродрома выехали – радиатор пробило. Как? чем? на ровном месте! Соплями-то не залепишь… Хвать-похвать, на второй сгоняли, другую машину пригнали, перегрузили, двинулись – тут у него всю электрику замкнуло к черту, едва не сгорели… Пока разобрались, пока туда-сюда, только двинулись – трах: тормозной шланг порвался, будь он неладен… Без тормозов-то куда? Едва починились кое-как, отъехали – на тебе, в кювет угодил! Тьфу! Уж я не знаю… Вот не хотят машины с таким грузом ехать, честное слово. Что хочешь, то и думай… Тормозни у самосвала, будь добр.
– А что везете? – спросил я, притормаживая.
Капитан отвернулся, словно не слышал вопроса, и взялся за ручку.
– Вот спасибо, выручил, – сказал он, когда машина остановилась.
Выбрался наружу, придержал дверцу перед тем как хлопнуть и все-таки ответил: – Что везем, что везем… Лучше, браток, и не спрашивай. Горе одно. Ладно, спасибо…
Придерживая рукой фуражку, он торопливо пошагал к самосвалу, и только сейчас я увидел на правом его рукаве черную с красной полосой повязку.
Через полчаса я уже въезжал в Ковалец. Зажглись фонари, и снег вокруг них кипел и кружился.
Людмила открыла мне, радостно ахнув, и сказала, что уж не чаяла дождаться по такой погоде; что погода никуда не годная – это что ж за октябрь? если такой октябрь, что в декабре будет? – вообще не разберешь; что вчера и позавчера ходила по два раза – утром и вечером, и сегодня была утром и нашла Павла очень оживленным, из чего заключила, что он, слава богу, пошел на поправку; и что сейчас собиралась уж идти снова одна, видишь: и в доказательство предъявила матерчатую сумку, в которую продолжала натыркивать всякую всячину: большую бутылку воды, котлеты, яблоки… Мы несколько минут топтались в тесном коридорчике, Людмила путалась в рукавах пальто, я совал ей конверт, а она, как всегда, спрашивала: “Зачем же это? Зачем?” Я сказал: “Слушай, ну что ты мне морочишь голову?” – и тогда она взяла со вздохом, пересчитала и радостно сообщила, что завтра купит парного мяса и накрутит Павлу еще котлет – он любит.
Павел и в самом деле был оживлен. Людмила заняла стул возле окна, а я присел на кровать у него в ногах. Как на грех, в тот вечер у всех четверых обитателей палаты сидели посетители, стоял гомон, и я невольно выхватывал из этого гомона отдельные фразы – их можно было бы при желании объединить в любом порядке, и в результате получился бы нормальный больничный разговор, ничем не хуже других больничных разговоров. Я и сам произносил похожие, когда представлялась возможность.
Впрочем, возможностей было немного, потому что Павел оказался нынче удивительно разговорчив. Глаза блестели, и он часто и резко крутил головой по сторонам.
Он все толковал о своей работе, будто уже завтра собирался выходить и браться за дела, и время от времени делал замечания, смысл которых я вовсе не улавливал; Павел перескакивал с одного на другое, а то еще мельком упоминал неизвестных людей так, словно я жил с ними бок о бок, знал всю подноготную, и поэтому то, что Павел о них рассказывал, было мне понятно и смешно.
– Чуйкин в нашем деле ничего не понимает… Как нерусский, честно! Я ему говорю: ты же нерусский, Чуйкин! Смеется… У него забот полон рот… ни плана, ни договоров. Я говорю: Чуйкин, да у тебя на прошлой неделе Семаков с Трушиным перепились, чуть пожар не сделали!.. Трушин – тот еще деятель, я его насквозь вижу. Как ему премию выписывать – так давай, а работать – пускай другие. Это дело? Нет, я так не оставлю… пусть Горячев или дело ставит, чтоб все по-людски, или сам уходит! Понимаешь,
Серега? Найдутся люди на его место! Что ж, заколдованное, что ли? Ничего не заколдованное!.. А то, что я на пенсию могу раньше, – я же говорил, у меня полевого стажа десять лет, – так я еще подожду, подожду… Нет, пенсию-то я оформлю, а работу не брошу… Что ты! Это у нас раньше все бартером платили… бывало, то блюдцами дадут, то чашками, и делай с ними потом что хочешь. А теперь не так, теперь уж нормализовалось… не лимитирует… И работы полно – только делай!..
Я слушал его, стараясь улыбаться и кивать, подтверждая, что да, мне интересно и смешно; на самом же деле снова чувствовал тревогу и стеснение сердца. Оживленность Павла была нездоровой, и то, что он с птичьей порывистостью часто и резко крутил головой, тоже было неспроста.
– Да, да, конечно, – кивал я, пытаясь поймать ускользающую мысль.
Скованно улыбаясь, он бормотал и шевелил пальцами, будто выбирая из воздуха нужные ему слова… Я смотрел на него – и уже, кажется, нчал что-то припоминать, некий неясный проблеск забрезжил передо мной, в груди похолодело, я вот-вот должен был уразуметь нечто важное, – но тут Людмила, как назло, громыхнула стулом, подъезжая ближе к постели, – и догадка, мелькнув в подсознании, так до поры до времени и не выбралась на поверхность. Я только невольно поморщился и коснулся ладонью лба.
– Есть, есть тебе лучше нужно, – со вздохом сказала Людмила. -
Ты погоди трандычить! Слышишь, Павел? Котлеты-то, котлеты! Тебе крепнуть нужно. Я завтра мяса еще куплю. Свежие котлеты, хорошие.
Павел взглянул на нее, повернув голову и сощурившись, но как будто не разглядел – секунду помолчал и продолжал говорить:
– Полно работы, понимаешь? Вике говорю: полно работы, только работай. Не хочет, заспанка такая. Я говорю: иди в экспедицию работать этой… как ее… – Он запнулся и молча пошевелил губами. Людмила рассмеялась и вставила: “Да пошла же она работать, я тебе говорила!”, но Павел не обратил внимания на ее слова. – Этой работать… ну… в экспедиции… Это же экспедиция, а не на рынке картошкой торговать. – Снова оживился:
– Поискать такую работу. Зарплата. Премия. Потом, видишь, вон – дачи дали. Это не фунт изюма – дача! Это земля, понимаешь?
Она-то мне говорит: давай продадим… говорит, половина моя…
Она, что ли, получала эту дачу? Она?
– Да ладно тебе, Павел, – протянула Людмила. – Что ты в самом деле…
– Она получала? Нет, не получала. А говорит – давай продадим.
Это дело? Я говорю, это же не пустяк какой, это земля, понимаешь ты или нет, в самом-то деле!.. это же самая настоящая…
– Ты ляг, Павел, ляг, – сказал я. – Ты чего? Не нервничай. Ляг.
Павел замолчал, странно глядя на меня. Его серые глаза с напряженными сгустками зрачков были совсем близко, но казалось, что он смотрит откуда-то издалека, и я представил вдруг, что сейчас он поднесет ко лбу ладонь, чтобы вглядеться лучше. Но он, разумеется, не сделал этого, а только снова – раз! раз! – подергал головой вправо-влево. Медленно опустился на подушку.
Взгляд уперся в потолок. Глаза вели себя так, как если бы Павел разглядывал мозаику. Я невольно посмотрел вверх. По белому потолку наискось змеилась длинная трещина.
– …самая настоящая… земля… – повторил он.
– Ты поспи, поспи. – Людмила взяла ладонь Павла в свою и легонько покачала. – Поспи-ка, вот чего. Ишь раздухарился. Ладно тебе. Ты ешь. Тебе хорошо есть надо. Я котлеты в тумбочку положу. Поешь потом. Да?
– …недвижимость, – пробормотал Павел и закрыл глаза.
Мне тоже хотелось подержать на прощанье его руку, но я боялся его потревожить – и так и не решился.
19
Снег сыпал вовсю, и с заднего стекла уже пришлось смахивать щеткой. – Куда тебе по такой погоде? – напористо спрашивала
Людмила. Снежинки таяли на лету возле ее раскрасневшегося лица.
– Ты смотри, метет-то! Давай ночуй, утром поедешь, нечего!
– Утром пока доберешься, – бормотал я, поеживаясь. – День насмарку…
– День! – фыркнула она. – Тут вся жизнь под откос, а ты из-за дня печалишься. Давай, не морочь голову, оставайся. Гляди, как запогодило. А не дай бог, в дороге что? И будешь куковать. А?
Машины помаргивали фарами, медленно скользили заснеженные троллейбусы. Трамваи стояли в снегу на площади возле театра молчаливой вереницей замерзающих мамонтов. Кисейные лапы метели празднично рукоплескали ветру, в ртутном свете фонарей все двигалось и дышало. Кренясь, город погружался в долгий снегопад…
Оказалось, Людмила живет точно в такой же, как у Павла, квартире, – только не в панельной пятиэтажке, а в кирпичной, не на четвертом этаже, а на первом, и не в запущенной, а вылизанной до состояния леденца на языке у ребенка. Я еще топтался в прихожей, пытаясь понять, куда пристроить куртку (вешалка была до отказа забита какой-то одеждой), а Людмила уже, повторяя:
“Сейчас, сейчас! Сейчас, сейчас!..” – как на пожар бросилась на кухню. Через полторы секунды там отчаянно гремели кастрюли, лилась вода, что-то трещало, стучало и брякало, и Людмила с удовольствием перекрикивала все это, продолжая разговор: “…не может, нет. Совсем одна не может. Куда ей? Пускай уж с нами лучше тут живет, чем по чужим-то людям. Разве дело? А что? И нормально: я вчера ее дворничихой приткнула в нашем околотке… ничего! Пускай-ка вот метлой помашет! Да лопатой! А то что же?
Все по технике ее пускать хотели – а куда ей по технике? Она читать-то по складам едва научилась… Ничего. Там тоже люди работают. Скребком пошурует годик – потом в диспетчеры возьмут… А как себя покажет! Конечно, волоха-то кому нужна? А если видят: девка шустрая, грамотная, – что ж? Так что пусть уж пока с нами. Я уж и пригляжу, а если что, так и скажу, не постесняюсь. С нами-то она хорошая – просто не нарадуюсь: и сделает все, и в магазин, и слова плохого не услышишь. Пускай. А вот Павел выпишется, тогда уже посмотрим. Ее с теми лахудрами нельзя оставлять. Им что? Им глаза залить – и трава не расти. А девке жить. Может, глядишь, еще замуж выйдет. И ничего такого.
Всякие выходят. Разве угадаешь? Одна, глядишь, всем хороша – а всю жизнь мается. Другая оторви да брось – а все по уму. Да вон хоть бы Катьку-то Параскину взять – над нами живет. Тоже та еще разумница… едва шесть классов кончила, и пьянка была, и все… с парнями сколько моталась – это ж ужас, это ж ужас!.. никакого сладу с нею не было. А потом, глядишь, ничего: замуж вышла, сыночка родила… И парень-то такой приличный попался, живут.
Ладно, чего ты тут, ты в залу иди, в залу”.
В комнатах была теснота – большую почти впритык занимали стол с несколькими стульями, заставленная хрусталем хельга, платяной шкаф, комодик с телевизором, закрытым расшитой крахмальной салфеткой, диван и два мягких кресла, в каждом из которых лежала думочка – в одном черного шелка, а в другом – зеленого. В маленькой, запроходной, стояли вдоль две узкие кровати, застеленные алыми, с кистями, покрывалами, а между ними у стены как раз помещался лакированный комодик. На полу и тут и там лежали ковры: в “зале” – большой, бахромчатый, а в маленькой комнате – узкий между кроватями. На окнах кустилась герань в разрисованных маслом горшках, и жирный рыжий кот сидел под геранью на подоконнике, с нескрываемым неодобрением наблюдая вприщур, как я расхаживаю по квартире.
Скоро появилась Вика. Едва только размотав заснеженный и мокрый платок, стащив резиновые сапоги, бросив ватник под вешалку (он так и встал там, растопырив рукава и не желая прощаться с формой ее тела), заполошно со мной поздоровавшись, она так же заполошно, с какими-то причитаниями, кинулась на кухню помогать.
Теперь они шуровали там вдвоем, Людмила покрикивала, и дым стоял коромыслом. Я прислушивался к их деятельности с беспокойством: судя по всему, грозило какое-то необыкновенное обжорство. Однако когда в скором времени пришел с работы Людмилин муж Валерий – высокий неразговорчивый человек лет сорока, хмуроватый и, похоже, в полной завязке, – а следом сын Артем – долговязый и тоже хмурый, в отца, – и мы расселись за столом, все оказалось не так страшно: Людмила внесла лохань с вареными сосисками, Вика
– большую кастрюлю с вареной же картошкой, а хлеб резал я, потому что руки у всех уже были заняты.
После чаю и телевизора вечер быстро скатился в поздноту…
Артем посапывал на соседней кровати. Снег шуршал по оконному карнизу, а иногда ветер горстями швырял его в стекла. Фонарь у подъезда скрипел и раскачивался, и вместе с ним раскачивались светлые полосы на потолке и стенах. Еще раскладушка скрипела подчас за неплотно прикрытой дверью – это Вика ворочалась на ней в соседней комнате.
Сладко поеживаясь, я слушал снег, представляя, как он медленно летит в кромешной тьме над ледяной землей; я думал о всякой всячине и даже ступню выпростал из-под одеяла, как учила мама
(если хочешь быстро уснуть, нужно, чтобы что-нибудь немножко зябло), – а сон все не шел. Уже мысли начинали путаться, и какой-то дальний нездешний звон примешивался к шуршанию снега и скрипу фонаря; как вдруг то Асечку начинало заносить на повороте, и я холодел, пытаясь объехать встречный грузовик, то выплывала из мерцающих сумерек физиономия Аллы Владимировны
Кеттлер, заставляя вздрогнуть от мгновенного укола злости.
Вот же проклятая баба!
А еще говорят, что жизнь полосатая… и где она, спрашивается, полосатая? Как началось два года назад с этой копенгагенской истории, так и тянется по сю пору – все одно к одному… Не двадцать четыре тысячи в Копенгаген – так у Островского инфаркт.
Не Островский в больницу перед самой сделкой – тогда Елена
Наумовна кинет. Не Елена Наумовна – так вот, пожалуйста, целый обвал: мало того, что в Кеттлершу все уперлось, чтоб ей пусто было, так еще и Огурцов вон куда подался: из варяг в греки. А какой клиент был!..
Деньги, деньги.
Я почему-то вспомнил, как однажды в детстве остановился у тележки с газированной водой… В то утро у матери не оказалось мелочи, и она дала мне целую трешку с условием, что я потрачу из нее тридцать своих законных копеек. Купюра лежала в кармане, я шагал по солнечной улице и отчетливо чувствовал себя богачом.
Потом мне захотелось пить. Особой жажды не было – просто я уже не мог терпеть жара, исходящего от зеленой бумажки: проклятая трешница жгла карман. Равнодушная продавщица, облаченная в несвежий халат, схваченный на роскошной груди золотой брошью, сидела за двухколесной синей тележкой. “С двойным сиропом”, – сказал я. Сироп ленивой струйкой просочился из длинного цилиндра. Зафырчала газировка. Я взял стакан и принялся глотать колючую воду. Между тем продавщица придвинула здоровущую миску мелочи и стала отсчитывать сдачу. “Рупь”, – негромко сказала она, когда сформировалась первая мокрая горсть медно-серебряных монеток. “Два”, – отметила, вкладывая мне в ладонь вторую.
Теперь ей оставалось отсчитать девяносто три копейки, и на этом наша сделка могла считаться оконченной. “Три”, – сказала продавщица воды, и ладонь моя еще раз отяжелела. “И девяносто три копейки”, – добавила она, высыпая остатки. Рискуя подавиться, я не колеблясь заглотнул воду и деревянно пошел прочь. Я полагал, что она вот-вот спохватится и окликнет меня, и лихорадочно думал, как мне тогда быть: броситься бежать или вернуться и сделать вид, будто я просто не понял, что она обсчиталась. Мысли метались. Ведь целый рубль передала!.. Я зашел за угол, и ноги понесли меня, как лошади. Пробежав два квартала, я сел на приступочку возле магазина и стал пересчитывать деньги. Их оказалось ровно два рубля одиннадцать копеек! Я не мог в это поверить. Я рассортировал монеты по достоинству: копеечки к копеечкам, пятачки к пятачкам, – однако правды все же не добился. Хладнокровность и расчетливость этого бессердечного обмана меня потрясла. Испуганный, я сидел на приступочке, судорожно зажав в кулаках два рубля одиннадцать копеек мелкой монетой вместо полагавшихся мне как минимум двух рублей девяноста трех, – даже если предположить, что она налила мне действительно с двойным сиропом, в чем теперь я горько сомневался… Мне было стыдно рассказывать об этом матери, и я пошел к Павлу. Он посмеялся: “Вот так: пошел по шерсть, вернулся стриженым. Ладно, что уж…” И дал мне недостающие деньги. И, разумеется, ни слова никому не сказал.
Вообще, если хранить какую тайну – то это конечно же к Павлу. Он всегда был очень скрытен. Дед говорил: “Пашка наш тихушник.
Поздновато он у меня родился. Ему бы в партизаны. Уж из него бы фашисты слова не вытянули!..” Лет в семнадцать Павел прикатил откуда-то горелые останки мотоцикла. Где взял? “Ну, дали…” Кто дал? “Да ладно…” Несмотря на все усилия, мотоцикл не ожил.
Зато Павла стали время от времени привозить откуда-то разбитым почти вдребезги. Доставляли его молчаливые суровые парни, не склонные попусту чесать языками. Придя в себя, весь в бинтах и мазях (мне тогда казалось, что именно так должен был выглядеть заблудившийся матрос Железняк), Павел мрачно отвечал, что ничего не помнит. “Да как же так? Ты что? Может, под машину попал?”
Может. “Что значит – может! А может, в драку?!” А может, и в драку, соглашался Павел. Кто знает? Он с первой секунды потерял сознание и теперь ничего не помнит… Вот и разберись. А много лет спустя, когда уже уехал, в старых его потаенных бумажках обнаружился диплом, на котором черным по белому было написано: так и так… республиканские соревнования по мотокроссу… награждается… Павел Иванович Шлыков… второе место. Вот тебе и раз!.. Он проводил время на сильно пересеченной местности, а все думали, что в бандитских притонах. Почему не говорил? Поди пойми. Таким и остался: Аня умерла, а он позвонил только через полторы недели. Как так?! Почему же ты?! “Да ладно…” И весь сказ.
Сон не шел.
Я повернулся на другой бок и подумал, что Павел сейчас тоже, может быть, не спит, только совсем по-другому: в больничной палате, чувствуя неуют, одиночество и, наверное, боль. Горит ночник, и в его синем свете ночь кажется длиннее, а утро – невозможней. Я так ясно представлял себе его тоску, что не удивился бы, проснувшись утром вместо него на больничной койке.
Почему нет? Ведь было же начало июня – ведь было же?! – мы валялись на берегу Комсомольского озера, Павел потягивал пиво из зеленой бутылки, и я канючил: “Паш, ну да-а-а-ай попробовать!..
Ну ка-а-а-апельку!..” Павел отвечал немногосложно: “Сопливым не положено”. Вода была теплой, и я забирался к нему на плечи, чтобы прыгнуть, и, испытав ужас падения, восторженно отфыркиваться и кричать, повторяя: “Видел, как я?! Ты видел?!”
Что осталось от этого? Только электрические сполохи памяти, в которой сейчас, засыпая, я не мог толком разобраться: то ли
Павел смотрел на меня моими глазами, то ли я смотрел на себя – его; и это не к нему, а ко мне на плечи забирался кто-то из нас, чтобы с брызгами и визгом повалиться в теплую мутную воду, блестящую, как ртуть… Наверное, в этом виновата общая кровь: эта кровь – река: мы черпаем из нее по очереди и несем с собой, и до самого конца она протяжно гудит, отзываясь.
Я не заметил, когда уснул, а проснулся в шестом часу как от толчка и сел на постели, понимая, что нужно бежать, но не зная куда.
Снег все так же скребся в окно, и темнота зияла пробоинами тусклых фонарей.
Во сне я догадался, почему Павел по-птичьи крутил головой. Да, да – именно по-птичьи: то туда посмотрит, то сюда… и так резко, рывками: да, да, точь-в-точь курица над зерном – тырк вправо, тырк влево… Я спал, а сознание все мусолило его образ, разжевывало, пытаясь понять, что к чему, – и вот наконец выдало решение. Как я сразу не сообразил? Ведь когда-то я не то читал, не то от кого-то слышал об этом специфическом синдроме. Угол зрения сужается, и умирающий видит только то, на что смотрит прямо; ему приходится поворачивать голову, чтобы увидеть хоть что-нибудь справа или слева, – а иначе взгляд упирается в подступающую со всех сторон темноту.








