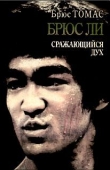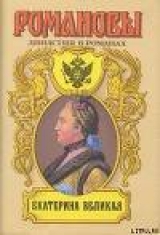
Текст книги "Екатерина Великая (Том 2)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Кроме этого, он достал из архива Тайной канцелярии документы одного провокатора и решил их пустить в ход.
В тот же 1784-й, год смерти Шварца, в Петербурге появился некий барон Шрёдер, приехавший из Пруссии. Он почему-то очень быстро был принят на русскую службу поручиком, хотя и не переменил своего подданства, переехал в Москву и начал знакомиться с московскими масонами, причём предъявил им грамоты, удостоверяющие его высокое положение в ложах.
Шрёдер вошёл в число учредителей «Типографической компании». Новикову он сразу же не понравился. Это был ловкий вертлявый человек с видом ханжи и бегающими глазами. Неясны были его намерения и непонятно его появление в России.
В 1785 году барон Шрёдер купил огромный дом графа Гендрикова, в котором впоследствии помещались Спасские казармы, но, не заплатив всех денег, уехал снова в Мекленбург, поручив другим учредителям «Типографической компании» – князьям Енгалычеву и Трубецкому – распорядиться домом по своему усмотрению и выплатить за него остальную сумму. Дом начали перестраивать для нужд «Типографической компании». В нём решили устроить типографию, книжный склад, магазин, аптеку, больницу, общежития для студентов и рабочих.
Но Шрёдер вдруг вернулся, потребовал возвращения денег за дом и той суммы, которую он внёс в своё время в «Типографическую компанию». Новиков возражал против этого, доказывая, что изъятие такой большой суммы тяжело отразится на деле, и предложил выплатить её в несколько сроков, прибавив при этом, что принятие в «Типографическую компанию» иностранца, хотя и состоящего на русской службе, вообще было ошибкой. С бароном Шрёдером расплатились, и он снова уехал в Германию. Оттуда, неизвестно по чьим указаниям, он стал писать Новикову провокационные письма на политические темы. Письма эти перехватывались и задерживались тайной экспедицией. Новиков их не получил и, естественно, не мог на них отвечать. Теперь Шешковский их торжественно преподнёс шлиссельбургскому узнику.
Но Николай Иванович, просмотрев их, спокойно заметил: он может отвечать только за то, что он пишет, а не за то, что ему пишут.
– Впрочем, – прибавил он, усмехнувшись, – письма сии или результат полицейской провокации, или попытки Шрёдера скомпрометировать меня, разлучить с московскими братьями, которых я убеждал никогда не подчиняться указаниям заграничных лож.
Шешковский, выслушав ответ Новикова, молча собрал письма Шрёдера и вышел. На этом допросы и закончились.
Императрицу Новиков больше не интересовал. Он сидел в крепости, и для неё было ясно, что судить его открыто нельзя и не за что. И первого августа Екатерина отправила новый рескрипт князю Прозоровскому. В нём она обвиняла Новикова в организации тайных обществ, в сношениях с герцогом Брауншвейгским и с прусским министром Вельнером «в такое время, когда берлинский двор оказывал нам полной мере своё недоброхотство». А главное, она обвиняла Новикова в «уловлении в свою секту известной по их бумагам особы», подразумевая цесаревича Павла. В заключение она писала: «Хотя Новиков и не открыл ещё сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаружения и собственно им признанные (?) преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако ж, и в сём случае, следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость».
Не забыла Екатерина и друзей Новикова: Трубецкого, Лопухина, Тургенева. Она предписала Прозоровскому допросить их, а затем «объявите им, что мы, из единого человеколюбия освобождая их от заслуживаемого ими жестокого наказания, повелеваем им отправиться в отдалённые от столицы деревни их и там иметь пребывание… Когда же они отправятся, донесите нам, дабы потом могли мы дать тамошнему начальству повеление о наблюдении за их поступками».
Прозоровский очень обрадовался возможности расправиться с Лопухиным. Он вызвал своего адъютанта и приказал немедленно доставить Лопухина к себе. Адъютант князь Черкасский, двоюродный брат одного из основателей «Типографической компании», был боевой подполковник, прибывший с турецкого фронта в Москву и назначенный в распоряжение главнокомандующего; поручение было ему неприятно. Выслушав приказание, он заметил, что уже поздно, и может быть, его сиятельство найдёт возможным вызвать статского советника Лопухина на следующий день.
– Делайте, что вам приказывают, – закричал Прозоровский, потом побарабанил пальцами по столу и прибавил: – Видать-то, она, крамола, далеко зашла…
Черкасский хотел спросить, не к нему ли это относится, но только пожал плечами, повернулся и вышел.
К огромному дому Лопухиных на Арбате он подъезжал почти в полночь. Камердинер Лопухина сказал ему, что Иван Владимирович у отца. Через несколько минут Черкасского попросили наверх. Поднявшись по широкой лестнице и пройдя через площадку, он вошёл в большую библиотеку.
В глубоком вольтеровском кресле сидел девяностолетний генерал-поручик Владимир Иванович Лопухин, в домотканом сером кафтане, и, приложив руку к уху, слушал своего сына. Иван Владимирович в халате и в домашних туфлях сидел рядом с ним за столиком, на котором стояли свечи под зелёными колпачками, и читал вслух «Деяния Петра Великого» Голикова. Старик улыбался и кивал головой. Видимо, то, что он пережил в молодости, запомнилось ярче всего и теперь проходило у него перед глазами.
Черкасский кашлянул, поклонился и после взаимных приветствий попросил Ивана Владимировича выйти. Лопухин без особого волнения спросил:
– В чём дело?
– Видимо, – ответил Черкасский, – пришло какое-то новое повеление из Петербурга. Главнокомандующий требует вас немедленно к себе.
Лопухин так же спокойно прошёл к себе, переоделся и через полчаса подъезжал к дому главнокомандующего. Войдя в кабинет, он увидел улыбающегося Прозоровского.
– Ну что же? – сказал главнокомандующий, поглаживая рукой бумаги, лежавшие перед ним. – Новиков-то во всём сознался.
– В чём именно? – спросил Лопухин.
– В сношениях с якобинцами – раз, в получении директив от прусского двора – два, в печатании изданий, призывающих к свержению существующего строя, – три…
– Не слишком ли много за один раз? – спросил Лопухин, спокойно садясь в кресло.
Прозоровский при этом замечании забегал по кабинету.
– Так ведь он здесь, его можно и позвать…
– Ну так и позовите, – предложил Лопухин, хорошо зная, что Новикова уже нет в Москве.
– И позову, и свяжу вас с ним. Вот мы и посмотрим, – пробормотал Прозоровский, потом, подойдя к Лопухину, прибавил шёпотом: – Искренне из человеколюбия и уважения к вашему батюшке советую: сознайтесь хотя бы в сношениях с якобинцами, и сие облегчит вашу участь!
Лопухин посмотрел на него насмешливо:
– Вы, оказывается, ваше сиятельство, немногого хотите. Нельзя ли вам сделать небольшую пропозицию?[96]96
Пропозиция – предложение.
[Закрыть]
– Предлагайте…
– Не согласились бы вы, ваше сиятельство, подписать бумагу о вашем соучастии в низвержении короля Людовика Шестнадцатого?
– Ах, вы ещё смеётесь надо мной! – закричал главнокомандующий. – Так вот-с. Имеется высочайшее повеление о высылке вас, князя Николая Трубецкого, Ивана Тургенева и других сообщников Новикова по преступным деяниям в дальние имения. Но сие лишь временная мера… Предлагаю вам заполнить опросные пункты и предупреждаю, что, если имеющимся документам будет обнаружена какая-либо утайка или сокрытие действий ваших, сие может кончиться лишением чинов, орденов и даже самого живота…
Уже с первого взгляда на опросные пункты Лопухин понял, что их составляла сама императрица. И поэтому в своих ответах он постарался написать всё то, что мог бы сказать ей при свидании.
Он не только отрицал все возводимые на членов «Типографической компании» и «Дружеского общества» обвинения, он утверждал, что их деятельность была только полезна России. Он указывал, что в начале своего царствования императрица провозгласила эти же идеи и теперь преследование за них со стороны правительства может вызвать глубокое разочарование в лучшей части дворянства.
В последнем замечании был прямой намёк на то, что в Москве такие действия вызовут недовольство.
Оно так и было. Верхушка дворянской Москвы уже давно представляла собой одну семью. Взаимные родственные и материальные связи создали такое положение, что нельзя было задеть одного, не ударяя по другому. Лопухины, Трубецкие, Черкасские, Херасковы, Репнины, Евгалычевы, Татищевы, Вяземские, Гагарины, Долгорукие были основателями «Дружеского учёного общества» и в какой-то мере участвовали и в «Типографической компании». Родственные связи их были необъятны. Теперь задевалось не только их право думать по-своему, но ставилась под сомнение и их дворянская репутация.
Как раз попал в эти дни в Москву проездом канцлер граф Безбородко. Он очень быстро понял, как далеко зашло дело, и между прочим написал Платону Зубову, зная, что тот сейчас об этом сообщит императрице:
«Шум поднят большой, и дело приняло неблаговидный характер».
Но императрица всё ещё надеялась найти нити воображаемого заговора и снова написала Прозоровскому:
«Князь Александр Александрович! По нашей к Вам доверенности не сомневались мы, что Вы должную перед нами с Вашей стороны искренность и чистосердечие предпочитаете всякому личному уважению, и вследствие того, видя неоставление долгу сего в письме от 23 настоящего месяца, где Вы представляете переписку князя Репнина с Шрёдером, похваляем Ваш поступок, а как подлинных князя Репнина писем Вы не прислали, то повелеваем оные к нам доставить, пребывая впрочем к Вам благосклонны».
Однако она не решалась продолжать борьбу с дворянской Москвой. Репнину Екатерина при праздновании мира с Турцией не пожаловала чина фельдмаршала и послала его в почётную ссылку – управлять Эстляндией и Лифляндией. Иван Владимирович Лопухин «из уважения к его престарелому отцу» был оставлен в Москве. Князь Николай Никитич Трубецкой и Иван Петрович Тургенев были высланы в дальние имения. Зато несчастные студенты Колокольников и Невзоров при возвращении их в Россию были арестованы в Риге и заключены в Петропавловскую крепость, где Колокольников вскоре и умер от чахотки.
26ИМПЕРАТРИЦА СЖИГАЕТ КНИГИ
Хотя указом Екатерины от 11 февраля 1793 года предписывалось сжечь те 18 656 экземпляров книг, которые были найдены в домах и лавках Новикова и в двух его иностранных библиотеках, Прозоровский воспользовался случаем, чтобы предать огню все без исключения издания «Типографической компании».
В ясное морозное утро к Болоту, где, как и на Красной площади, совершались публичные казни, потянулись бесконечные возы, нагруженные десятками тысяч книг. Возницы – мужики из пригородных сёл, в тулупах и шапках-ушанках, погоняя тощих лошадей, с недоумением оглядывались на солдат, шагавших рядом, и полицейских надзирателей, строго следивших за тем, чтобы пагубные книги не упали на мостовую.
Народ со всех сторон бежал к площади. Огромные мужики-палачи в длинных рубахах, уже давно скучавшие без дела, суетились, складывая штабеля дров, переложенных просмолённой паклей и соломой. Наконец гигантские костры вспыхнули – языки пламени и столбы дыма потянулись к небу. Палачи бросали книги в огонь. Народ прибывал. Множество студентов, воспитанников Заиконоспасской академии, и людей разного звания толкались вокруг возов с книгами, подходили к самым кострам, вступали в перебранку квартальными надзирателями, подшучивали над палачами. Палачи, вооружённые длинными баграми вместо привычных им топоров, кашляя и задыхаясь от дыма, сталкивали груды книг в костры. Поднялся ветер. Мокрый снег бил в лицо, дым ел глаза, концы багров загорались, палачи ругались и, отплёвываясь, тушили их в снежных сугробах.
Ветер разбрасывал горящие листы. Толпа всё нажимала. Книги, сваленные кучами в разных местах площади, как будто таяли – народ их растаскивал.
– Ишь ты, что жгут! – удивился дьячок в подбитом мехом подряснике и большой войлочной шляпе. – «Послание святого Апостола Павла к Филиписеям и Колосаям».
– Подлинно не ведают, что творят, – подхватил стоящий рядом старик с длинной седой бородой и иконописным лицом, держа в руках обгоревшее издание «Правил христианской жизни».
– Смотри-ка, что я нашёл! – кричал один бурсак из Заиконоспасской академии другому. – Азбуку греческую. А вот и латинская, и российская, и немецкая…
– А я Баумана – «Краткое начертание географии» и «Геометрию» Аничкова…
– Возьми у него книгу, возьми! – закричал квартальный надзиратель солдату, указывая на какого-то подростка, только что вытащившего толстый том в переплёте из сложенной на земле кучи.
Солдат, держа мушкет в правой руке и неуклюже топая ботфортами, догнал мальчишку, не успевшего скрыться в толпе, отнял у него книгу и подал надзирателю. Надзиратель нашёл титульный лист и прочёл: «Бабка повивальная – городская и деревенская», плюнул и бросил книгу в костёр.
Учебники, переводные романы, произведения русских писателей, книги по медицине, математике, истории и технике, энциклопедические словари и описания путешествий, «Древняя российская Вифлиофика» догорали на кострах. Народ смотрел на суетившихся палачей, на полицейских надзирателей, следивших за тем, чтобы не растаскивали книги, и не понимал, что, собственно, происходит.
– Это что же, голубчик, – спрашивал толстый купец соседа, приказного писаря в потёртом кафтане и с медной чернильницей за поясом, – книги вовсе запрещены али на время?
Писарь поднял на него красный нос, сказал значительно:
– Казни книги предаются свободомысленные, сиречь противу правительства направленные…
Рядом стоявший студент повернулся к нему:
– Эх ты, чернильная душа, да ты понимаешь, что говоришь?.. – Бросился вперёд, схватил две обгоревшие книги, валявшиеся на снегу, ткнул писарю в нос: – Это что же, «Пятьдесят две священные заповеди Ветхого завета» противоправительственная книга? Или «Наставление для пехотных офицеров с фигурами»? Или «История о коммерции российской»? Уничтожают книги бессмысленно, и больше ничего…
Человек в поддёвке и картузе, похожий на фабричного мастера, сказал густым басом:
– Двадцать лет тому назад на этой площади казнили Емельяна Пугачёва. Ныне казней человеческих стало мало, начали жечь книги – мыслей боятся! Только народ-то думать не перестанет…
Другой студент, стоявший рядом, красный, взволнованный, со слезами на глазах, протянул руку, указал на палачей в красных рубахах, мелькавших в дыму на фоне черневших в пламени книг:
– Вот они, дикари, пляшут вокруг костров, радуются, что уничтожили труды гениев человечества. Не уничтожат, только покроют навеки пятном позора сие царствование…
– Господин офицер! – закричал писарь тонким голосом, но в это время кто-то ему дал по затылку так, что он только охнул и сел на снег.
Толпа медленно расходилась. Грязные ручьи талого снега растекались по площади, на которой остались кучи тлеющего пепла и обгоревшие печатные листы.
27ДЕЛО ИХ БУДЕТ ЖИТЬ!
Годы брали своё. Императрица уже не могла работать без очков и, как бы оправдываясь в этом перед окружающими, говорила:
– Я своё зрение отдала на службу Европе.
Теперь, когда Храповицкий вошёл к ней в кабинет с бумагами, она сняла очки и приготовилась слушать.
– Из челобитных на имя вашего величества, – сказал толстяк, кланяясь, – только две имеются примечательные…
– Чьи же это? – спросила Екатерина и потянулась к табакерке.
Храповицкий опять сделал полупоклон и ловким движением руки вынул две бумаги из красной сафьяновой папки с тиснёной надписью: «К всеподданнейшему докладу».
– Первая, продолжал он, – от доктора Михаила Ивановича Багрянского, который ходатайствует о допущении его к проживанию в крепости совместно с Николаем Ивановичем Новиковым.
– Как? спросила императрица удивлённо. – Он хочет добровольно сидеть в крепости пятнадцать лет?
Храповицкий развёл руками:
– Да, всеподданнейше ходатайствует об этом. Он хочет разделить участь Новикова, своего друга.
Екатерина задумалась, потом сказала:
– Я первый раз сталкиваюсь с таким случаем. Стало быть, эти люди действительно фанатики. Ну что же, кто желает сидеть в крепости – пускай сидит…
– Вторая, такая же челобитная от камердинера Новикова – Ивана Алексеева.
Императрица нахмурилась:
– Вот видите – Новиков проповедовал освобождение крепостных, а без камердинера не может обойтись даже в тюрьме…
Храповицкий изобразил слабое подобие улыбки:
– Нет, ваше величество, этот Иван Алексеев просит как о великой милости разрешить ему ухаживать за своим господином в заключении.
Императрица пожала плечами:
– Но ведь это противоестественно… Хорошо, разрешите ему… Кстати, что здесь делает князь Прозоровский? Он, наверное, и сам не знает, для чего он приехал в Петербург, помешал мне сегодня читать газеты…
Храповицкий по тону императрицы почувствовал, что момент для нанесения удара Прозоровскому наступил:
– Я полагаю, что он приехал к награде за истребление московских мартинистов…
Екатерина как будто удивилась:
– А за что же его нужно награждать? Вот команде, арестовавшей Новикова, прикажите выдать годовое содержание, ну и, пожалуй, полковнику Олсуфьеву можно дать Владимира четвёртой степени за усердие… Да проверьте, заготовлен ли указ Сенату о разрыве нами политических отношений с Францией…
Неожиданно внизу послышалось тяжёлое дыхание. Сын покойного Томаса Андерсена, обрюзгшая, жирная, старая чёрная левретка, сопя и тяжело переваливаясь на кривых ногах, подошла к императрице и взглянула на статс-секретаря умными слезящимися глазами.
Екатерина посмотрела на неё, покачала головой, как бы сочувствуя её старости, и вынула лист бумаги, лежавший под газетами.
– Доставили мне список с рукописи секунд-майора Петра Ивановича Челищева, называемой «Путешествие по Северу России», где сказано: «Повсюду бедность, праздность, скука. Повсюду малая прибыль, а величайший труд». Про крестьян говорится: «Сия драгоценнейшая половина земнородных жителей, без которых ничто в человеческих обществах не может прийти в совершенство, обременена узами рабства». И далее во всех записях злобность высказывается противу властей и помещиков. Над этим Челищевым следствие было учинено по соучастию его в составлении Радищевым его преступной книги, но за недоказанностью прекращено. Я же вижу, что радищевский дух жив в сией новой книге, да к тому же они и учились в Лейпциге вместе. А вы как полагаете?
Храповицкий наклонил голову:
– Полагаю, ваше величество, что возможно простое совпадение мыслей…
Екатерина пожевала губами и недовольно посмотрела на статс-секретаря…
– Совпадение… Не думаю, не думаю… Хотя вам лучше знать, месье Храповицкий, ведь вы обучали этого бунтовщика Радищева русскому языку после его возвращения из Лейпцига…
Храповицкий стоял так же молча, наклонив голову, только холодный пот мелкими каплями выступал на его лице… Императрица опять заглянула в лист бумаги:
– Ну, а это тоже совпадение? Библиотекарь князя Трубецкого, Фёдор Васильевич Кречетов, изрыгал поносные речи против престола и дворянского сословия и восхвалял Радищева, а следователю Окулову заявил: «Страшись, потому что погибнешь со всеми другими тиранами». Я повелела заточить его в крепость, никого к нему не пускать и писать ему не давать… Ведь вот Радищев в Сибири, зловредная его книга уничтожена, а плевелы крамолы всё растут и растут… Ну, идите и принесите указ…
Храповицкий поклонился и, пятясь, вышел.
Екатерина вздохнула, надела очки и снова принялась за газеты.
Гавриил Романович Державин не знал, что и делать. В воскресенье, как обычно приехав в Эрмитаж на «малый приём», оказался он как бы в пустой зале. Императрица, не ответив на его поклон, проследовала мимо. Сенаторы и статс-секретари, находившиеся при ней, шарахались от Гавриила Романовича в стороны.
Перед тем, недели за три, он во исполнение просьбы императрицы передал ей тетрадь со своими стихами, собранными за несколько лет, к коим сделаны были приличные случаю картинки. Слышно было, что по прочтении Екатерина передала тетрадь графу Безбородко.
Однако же, когда Гавриил Романович, встретив канцлера в Сенате, спросил его: «Ведомо мне, что государыня отдала вам мои сочинения, то с чем и будут ли они отпечатаны?» – Безбородко, пробормотав что-то невнятное, побежал прочь.
Дальше пошло хуже. Поэт Иван Иванович Дмитриев сообщил ему, что велено секретно через Шешковского в Тайной экспедиции его, Державина, допросить, «для чего пишет он якобинские стихи». Гавриил Романович вспылил:
– Какой же осёл вообразить может, что я – тайный советник, сенатор, президент Коммерц-коллегии – рассеваю якобинские стихи?
Дмитриев вздохнул, покачал головой:
– Не советовал бы я вам, Гавриил Романович, ослом или, вернее сказать, ослицей обзывать государыню императрицу…
Державин схватился за сердце, дома почувствовал «разлитие желчи и воспаление всех нервов» и слёг в постель.
Поутру решил он поехать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, вхожему ко двору, и дознаться правды.
Алексей Иванович обедал вместе с Яковом Ивановичем Булгаковым – бывшим послом при Оттоманской Порте. Не успел Гавриил Романович сесть за стол и заложить салфетку за ворот камзола, как Булгаков спросил его:
– Что ты, братец, якобинские стихи пишешь?
– Какие?
– Ты переложил восемьдесят первый псалом царя Давида…
Гавриил Романович вскочил, бросил салфетку на стол и с криком: «Царь Давид якобинцем не был!» – бросился к выходу.
– Куда вы, Гавриил Романович? – закричал хозяин, – Что вы так разгорячились?
– Потому разгорячился, что вижу подыск вельмож, коим неприятно видеть в оде «Вельможе» и прочих моих стихотворениях развратные свои лицеизображения…
С этими словами Державин исчез за дверью. Граф Алексей Иванович Пушкин вернулся в столовую, покачал головой:
– Поэт великий и вельможа честный, однако горяч, упрям, предерзок и через сие великое множество врагов приобрёл…
Приехав домой и несколько успокоившись, Гавриил Романович почувствовал голод и спросил у дворецкого:
– Садились ли обедать?
– Её превосходительство только что велели подавать…
В столовой Державин помимо жены застал своих двух племянниц, их гувернантку мадемуазель Леблер, средних лет сухопарую француженку с постным выражением лица, и венецианского посланника графа Моценига, пожилого изящного господина с мешками под глазами. Поцеловав жене руку и поздоровавшись с гостями, Гавриил Романович уселся в своё кресло. Слуга налил ему рюмку перцовки, пододвинул закуски. Державин хотел было зацепить белый маринованный гриб вилкой, как вдруг заметил, что граф Моцениг глядит на него пристально.
– Вы хотели мне что-то сказать, любезный граф?
Моцениг поперхнулся.
– Господин президент, я только имел намерение спросить, как ваше здоровье.
Теперь уже Державин внимательно посмотрел на всех.
– Пока, слава богу, здоров. Вы, кажется, о чём-то говорили до моего прихода?
За столом воцарилось молчание. Державин перевёл взгляд на жену:
– Дарья Алексеевна, может, ты объяснишься?
Дарья Алексеевна, молодая женщина с приятными чертами лица и большими ясными глазами, покраснела от сдерживаемого волнения:
– Вот мадемуазель Леблер толкует, что псалом восемьдесят первый, что ты переложил на стихи, якобинцами перефразирован и его повсюду на улицах Парижа поют для подкрепления народного возмущения. И о том в Петербурге повсеместно идёт молва.
Державин вскочил.
– Да что за напасть такая!.. Сии стихи мною в тысяча семьсот восемьдесят шестом году написаны, когда и революции никакой во Франции не было, и в генваре следующего года в издании «Зерцало света» напечатаны. Коли все на меня ополчились, то я покажу им, кто я таков!.. Я в правде чёрт!.. – И он ушёл от стола.
В кабинете Гавриил Романович долго ходил из утла в угол, потом сел за письменный стол и начал составлять список «разным неприятностям и гонениям, кои он претерпел за ревностные услуги отечеству:
1. За то, что, будучи в экспедиции о государственных доходах советником, желал точно исполнять узаконения, получил неудовольствие от князя Вяземского и едва удержался на службе.
2. За то, что не хотел обмануть императрицу и оклеветать начальников губерний, будто от них никаких нет ведомостей в приумножившихся доходах, от него же, Вяземского, вознаграждён гонением.
3. За то, что не решился принять от Тутолмина к исполнению вздорных его приказов, великие имел неприятности. Из Олонецкой губернии переведён в Тамбовскую. Не получал не только никакого ободрения к службе, но, напротив того, всякое притеснение и неудовольствие от генерал-прокурора и Сената в продолжение трёх лет…
4. За выдачу в Тамбове провиантских и комиссариатских сумм, ассигнованных на продовольствие Очаковской армии, которая терпела голод, получил от Сената выговор, вместо того чтобы за расторопность и усердие быть вознаграждённым.
5. За открытие казённых похищений до 500 душ и 240 000 рублей в Тамбовской губернии отрешён от должности губернатора, происками отдан под суд, долгое время находился без должности, а когда по суду оправдался, то за невинное претерпение никакого по законам не получил удовлетворения, кроме личного уважения от императрицы, и не за отличную службу, а за стихотворческий талант, ибо желалось похвал.
6. Будучи статс-секретарём, за окончание весьма труднейших, важных дел не токмо не получил никаких наград, но политически отдалён от императрицы и пожалован в сенаторы, где претерпеваю великие неприятности, борясь за истину. Ныне, состоя президентом Коммерц-коллегии, вовсе лишён власти, и по проискам врагов указано императрице совсем оную Коммерц-коллегию ликвидировать».
Державин отёр рукою вспотевший лоб, посмотрел на гусиное перо, которым писал, и бросил его на стол.
«Для чего всё сие я пишу? На посмешище врагам моим!.. Кому писать? Императрице-старухе, объятой страхом, всюду видящей якобинские происки и поглощённой старческой противоестественной страстью своей к молодому любовнику…»
В кабинете было полутемно. Колеблющееся пламя свечей, стоявших на столе, освещало книжные шкафы, картины на стенах, белевшие по углам бюсты Ломоносова и Княжнина и гипсовую маску Петра Первого, висевшую над копией «Полтавской баталии». Невольно Гавриил Романович задержался перед изображением Ломоносова, потом перевёл взор на бюст Княжнина.
«Она и Михайлу Васильевича в вечную отставку с половинным пенсионом выгнать хотела, да не вышло! Не на такого наткнулась! Ну, а бедный, скромнейший, добродетельнейший Яков Борисович Княжнин так и погиб невинно. Приказано было его трагедию „Вадим Новгородский“ сжечь, а сочинителя допросить кнутобойцу Шешковскому, после чего он впал в жестокую болезнь и скончался… Новиков заключён в крепость, Радищев в Сибири…»
Чем больше обо всём этом думал Гавриил Романович, тем сильнее распалялся духом. Вдруг осенила его мысль:
«Не жалобу им писать нужно, а сочинить на них, дураков, анекдот, что переложенный на стихи в восемьдесят шестом году, когда во Франции о революции помину не было, псалом они за революционное воззвание принимают, а царя Давида возвели в якобинца…»
Он сел и тут же написал анекдот. Потом велел позвать секретаря и приказал ему немедленно переписать «сию смехотворную историю» в двух экземплярах. Через час секретарь принёс аккуратно переписанный текст. Державин составил к нему краткие препроводительные записки, взял два больших конверта, надписал адреса, приложил печать с личным гербом. На гербе была изображена рука, держащая звезду, а выше надпись: «Силою Вышнего держуся!» Потом обратился к секретарю:
– Немедленно отошлёшь нарочным князю Платону Александровичу Зубову во дворец и графу Александру Андреевичу Безбородко на дом…
Когда секретарь ушёл, Гавриил Романович почувствовал, что ему не хватает воздуха, подошёл к окну, открыл форточку.
«Нет, завтра же поеду к Безбородко, отпрошусь хотя бы на месяц в отпуск… Уеду в Москву, чтобы не видеть этой дворской швали…»
За окном падал редкими хлопьями снег. Пустую улицу освещал одинокий фонарь. По мостовой пробежала бездомная мокрая собака, блестя голодными глазами.
«Северная Пальмира», чёрт бы вас побрал! Варвары, кнутобойцы!..»
Время приближалось к полудню, а Безбородко ещё завтракал. Да и спешить ему было некуда. В последнее время всеми важнейшими делами занимался Платон Зубов сам вместе с новым членом Коллегии иностранных дел Аркадием Ивановичем Морковым, который ни в чём фавориту не препятствовал. Когда Безбородко, подписав мир с Турцией, вернулся в Петербург, то оказалось, что Александр Андреевич никому не нужен. Правда, императрица осыпала его милостями и даже иногда посещала на дому, но всем было ясно, что он – «не в силе». Вокруг временщика вертелись три жулика: Альтести,[97]97
Альтести Андрей Иванович служил в Коллегии иностранных дел, пользовался доверием Платона Зубова.
[Закрыть] Грибовский и де Рибас, которые за взятки проводили любые дела, давали откупы, решали тяжбы и даже открыто брали с иностранных купцов «в лапу». Они же составляли всевозможные дикие проекты. Старейший член Коллегии иностранных дел граф Иван Андреевич Остерман, видя это, вовсе перестал выходить из дому. Что же касается самого Безбородко, то он, поглядывая на императрицу и прикидывая в уме, сколько ещё она протянет, стал чаще заезжать к наследнику Павлу Петровичу. Скоро он добился того, что при одном упоминании о Зубове у Павла раздувались ноздри и в глазах появлялся зловещий блеск. Теперь, допив последнюю чашку кофе, Александр Андреевич направился в кабинет, чтобы просмотреть иностранные газеты. Он уселся поплотнее в кресло, развернул парижский «Монитер» и стал читать. На второй странице якобинской газеты он прочёл обращение к судьям:
Ваш долг есть сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров,
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков…
Безбородко задумался: «Где это я уже читал? Батюшки, да это же стихотворение Державина!..» Тут Александр Андреевич вспомнил о полученном вчера пакете с анекдотом и улыбнулся.
Как раз в это время Державин подъезжал к особняку канцлера. Войдя внутрь, он с удивлением заметил, что вместо роскошной мраморной лестницы, которая вела из прихожей наверх, сделан отлогий деревянный скат. Гавриил Романович спросил огромного швейцара в пышной ливрее, отворившего ему дверь:
– Для чего сие?
– Как её величество имеют слабость в ногах, то для удобства следования в апартаменты устроено приспособление…
Поднявшись по скату, он велел секретарю доложить о своём приходе. Секретарь улыбнулся, поклонился и исчез за двойными дверями.
Державин нахмурился, но в ту же минуту двери раскрылись, и он шагнул в кабинет.