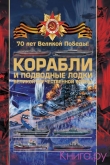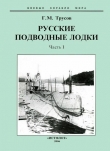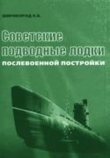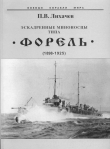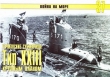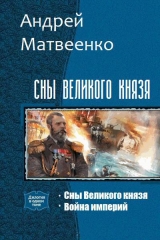
Текст книги "Сны Великого князя. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Андрей Матвеенко
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Невзирая на отмеченные конструктивные недочеты, "абреки", составившие первую в российском флоте группу относительно больших однотипных миноносных кораблей, в целом оказались скорее полезным приобретением. Так, к примеру, "Всадник" и "Гайдамак" в дни назревавшего военного конфликта между Россией и Японией являлись главной минной силой сосредоточенной в 1895 году в Чифу русской соединенной (Средиземноморской и Тихоокеанской) эскадры и работали по своему прямому назначению, осуществляя охранение, отработку торпедных атак и выполняя экстренные посыльные поручения. В Порт-Артуре во время войны они несли сторожевую службу, охраняя рейд на подходах к гавани, вели траление мин, выставленных японцами, обеспечивая выходы эскадры в открытое море. А перевооружение минных крейсеров этого типа, все же состоявшееся в 1902-1904 годах, позволило повысить их боеспособность.
15. Финский проект для Дальнего Востока
Одновременно с минными крейсерами началась постройка очередной серии миноносцев – все составлявшие ее десять кораблей предназначались для Дальнего Востока. При этом, в отличие от 125-тонных кораблей предыдущего проекта, к месту службы они должны были добираться своим ходом, что стало поводом для увеличения их проектного полного водоизмещения до 150 тонн – и четверть данной цифры приходилась на запас угля.
Проект этих миноносцев был разработан финским заводом Крейтона на основе своего же проекта 125-тонного миноносца, проигравшего предложению Нормана в 1889 году, и фактически представлял собой определенный симбиоз черт русской, английской, французской и немецкой школ кораблестроения. Симбиоз, по мнению членов МТК, ознакомившихся с результатами прогонов модели будущих миноносцев в опытовом бассейне, получился вполне удачным, что и стало поводом для заказа у Крейтона пяти кораблей данного типа. Право построить по финскому проекту еще пять миноносцев сумел выторговать отчаянно нуждавшийся в новых контрактах Невский завод. Вся серия закладывалась в период с января по декабрь 1891 года, а в строй корабли вступали в период с сентября 1892 по август 1893 года.
Тщательная проработка обводов корпуса, применение водотрубных котлов дю Тампля, поставленных производившим их по лицензии Путиловским заводом, и увеличенная мощность машин привели к тому, что в этой серии миноносцев была наконец практически достигнута контрактная скорость – но если корабли завода Крейтона даже в среднем на четверть узла превзошли ее, то построенные Невским заводом на ту же величину недобрали.* Также в свете роста размеров как собственных, так и миноносцев потенциальных противников на этих кораблях было усилено артиллерийское вооружение – его составили две 47-миллиметровые пушки. Минное осталось без изменений и включало в себя один носовой и два поворотных палубных минных аппарата.
*Техническая информация:
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 («замещают» «реальноисторические» «Уссури», «Сунгари», «Адлер», «Поланген», «Пакерорт», «Выборг», «Экенес», «Борго», 212, 213): постройка -1891/1892-1893 годы, Финляндия (311, 312, 313, 312, 315), Россия (316, 317, 318, 319, 320), Тихоокеанская эскадра, миноносец, 2 винта, 2 трубы, 137,5/150 т, 45,34/46,18/4,93/1,37 м, 2250 л.с., 22 уз., 25/37,5 т угля, 2000 миль на 10 узлах, 2-47, 3-381-мм т.а. (1 носовой надводный, 2 палубных поворотных, 6 торпед).
Стоимость каждого корабля – около 0,2 млн. руб.
Добротно выполненные, новые миноносцы считались наиболее отвечающими условиям службы на Тихом океане. Однако таковое мнение несколько развеял их переход на Дальний Восток, когда в результате полученных повреждений во время шторма в Красном море в марте 1894 года затонул миноносец N 319. Была у кораблей этого типа и вторая небоевая потеря, понесенная уже в ходе службы на тихоокеанском театре – от таранного удара миноносца N 304 на маневрах флота под Порт-Артуром в сентябре 1900 года погиб N 317.*
*Справочно:
Описанные инциденты основаны на реальных событиях из нашей истории – гибели в ходе испытаний в 1895 году миноносца N 269 при столкновении с минным крейсером «Казарский», таранении миноносцем N 204 миноносца N 207 во время и при обстоятельствах, указанных выше, и гибели во время шторма в Красном море 25 марта 1904 года миноносца N 221.
16. «Потаенные суда» – начало
Первая половина 90-х годов 19 века ознаменовалась также появлением в российском флоте нового вида оружия – подводных лодок.
Нельзя сказать, что усилия по их созданию не предпринимались ранее, тем паче, Константин Николаевич в известной мере благоволил смелым техническим начинаниям. Однако проводившиеся в 1866-1871 годах первые опыты с подводной лодкой, сконструированной художником-фотографом И.Ф.Александровским и имеющей пневматический движитель, были определенно не вполне удачными.
Новый импульс работы в этом направлении получили стараниями талантливого польского инженера-изобретателя Степана Карловича Джевецкого, по приглашению великого князя перебравшегося из Парижа в Санкт-Петербург.
В 1878 году Джевецким на собственные средства была создана одноместная подводная лодка, движимая силой ног человека и способная запускать с глубины к поверхности всплывающие мины. В том же году эта лодка в течение пяти месяцев испытывалась на одесском рейде. Результаты были получены достаточно обнадеживающие и уже в 1879 году Джевецким, также за свой кошт, была построена вторая, усовершенствованная модель его подводной лодки – на сей раз четырехместная.
Новинку в начале 1880 года планировали продемонстрировать цесаревичу, однако убийство Александра II и все государственные хлопоты, свалившиеся на венценосную отныне голову Александра III. не позволили этим планам осуществиться.* Впрочем, для изобретения Джевецкого этот факт отнюдь не стал фатальным – и тому была причиной позиция руководителей Морского ведомства.
*Справочно:
В нашей истории этот показ состоялся 29 января 1880 года на Серебряном озере в Гатчине. Подводная лодка Джевецкого произвела впечатление на наследника российского престола, оценившего ее словами: «Эта лодка, я уверен, будет иметь большое значение в будущем и сделает порядочный переполох в морских сражениях». В итоге после испытания Военным ведомством был сделан срочный заказ на серию из 50 таких лодок для обороны приморских крепостей.
И великий князь, и новый глава МТК Лихачев вполне осознавали перспективы подводных лодок как класса кораблей. Посему, дабы поддержать изобретателя и испытать лодки в деле, Морское министерство в декабре 1880 года заказало изобретателю постройку двух его подводных судов. В основу их конструкции был положен более крупный второй вариант лодки Джевецкого, в который по требованию МТК были внесены некоторые изменения – в частности, экипаж был уменьшен с четырех до трех человек, а для удержания глубины на подводном ходу использовался подвижный груз на червячном валу, который можно было перемещать по длине лодки.* Обе лодки строились с февраля по июль 1881 года на Невском заводе. По завершении постройки одна из них была оставлена на Балтике. Вторую же отправили на Черное море. Помимо того, Константин Николаевич добился выделения из казны средств на оплату расходов Джевецкого по созданию двух его опытных подводных лодок, оставив их в собственности изобретателя для дальнейших опытов.
*Справочно:
Эти лодки по своей конструкции примерно соответствуют «3-му варианту» лодок Джевецкого из нашей истории, который в реальности и был построен серией из 50 экземпляров.
Первые заказанные флотом лодки Джевецкого хотя и числились опытовыми судами, но уже имели ряд черт, ставших впоследствии обязательными и для их будущих боевых товарок. Так, на них имелись перископ для наблюдения из-под воды и система регенерации воздуха, дававшая возможность пребывать под водой до 50 часов.
Но были у этих ранних подводных судов также и существенные недостатки. Их максимальная скорость хода не превышала 2,5-3 узлов и могла достигаться лишь на срок не более двух часов в силу уставания экипажа. Рабочая глубина погружения составляла лишь около четырех саженей, чего уже было недостаточно для гарантированного прохода под увеличивающимися в размерах современными броненосцами и, соответственно, использования единственного оружия лодки – всплывающих мин. Внутреннее освещение в лодках отсутствовало, что вызывало трудности в ориентации экипажа под водой.
Далеки от идеальных были и результаты их испытаний, состоявшихся в 1882-1883 годах. Балтийская лодка, которой командовал брат знаменитого композитора И.И.Чайковский, использовалась активно и достаточно успешно (ее командир даже внес предложение окрасить светящейся краской рукоятки и маховики, чтобы их можно было различать в темноте). Однако на Черном море попытка провести имитацию атаки подводной лодки на стоящий в кабельтове от берега катер привела к тому, что при движении под водой лодка, несмотря на опытность экипажа, почти тотчас же потеряла направление и пошла в сторону от назначенной цели. Конечно, это не могло не повлиять на отношение моряков к новому виду оружия.*
*Справочно:
В нашей истории аналогичное по последствиям испытание лодки Джевецкого на Черном море имело место 19 мая 1887 года.
Но неоднозначность первого опыта применения подводных лодок только подстегнула Джевецкого к дальнейшему совершенствованию его конструкции, в первую очередь – в части решения проблем с двигательной установкой. И уже к концу 1884 года изобретателем (не без содействия со стороны работников созданного тогда же Опытового бассейна) путем переделки его лодки второго варианта была создана первая в мире подводная лодка с электрическим двигателем.* Электродвигатель работал от аккумулятора из губчатого свинца, разработанного тесно сотрудничавшим с Джевецким видным русским физиком и электротехником Д.А.Лачиновым.
*Справочно:
В нашей истории подобная лодка была создана Джевецким в 1885 году.
Эта лодка, впоследствии именуемая историками флота лодкой четвертого варианта, фактически послужила началом принципиально нового направления в подводном судостроении. Хотя и она осталась лишь опытной – и причиной тому было использование на ней водометного движителя вместо традиционного винта. Подобное новшество в его первом и оттого, что греха таить, еще весьма несовершенном исполнении не вдохновило даже известного своими прогрессивными взглядами Лихачева, не говоря уже о прочем флотском руководстве.
В то же время использование электрического движителя в целом было признано весьма перспективным практически всеми членами МТК. И уже в 1885 году Невскому заводу была заказана подводная лодка Джевецкого очередного, пятого по счету варианта, с электродвигателем и более традиционным винтом вместо водомета. Впрочем, лодкой Джевецкого ее называли уже почти номинально – члены МТК и работники Опытового бассейна приложили к ее созданию не меньше усилий, чем сам Степан Карлович. Строилась она с июня 1885 по май 1886 года. Эта лодка, как и ее предшественницы, числилась опытной и активно испытывалась Морским министерством на Балтике в 1886-1889 годах, став своего рода плавающей лабораторией для отработки ряда элементов конструкции будущих подводных судов.
По архитектуре корпуса новая лодка была подобна заказанным Морским ведомством лодкам третьего варианта, но имела несколько большие размеры и водоизмещение – около 10 тонн. Ее рабочая глубина погружения выросла до семи саженей, максимальная – до десяти, а 25-сильный электродвигатель сообщал ей и в надводном, и в подводном положениях 4-узловую скорость. Лодка наконец-то получила внутреннее освещение, что существенно облегчило работу экипажа. Однако крайне малая дальность плавания на существующих аккумуляторах, на максимальной скорости составлявшая лишь 20 миль, делала возможным использование новой подлодки по-прежнему лишь в качестве средства прибрежной обороны.
Также не вполне удовлетворяло моряков главное оружие лодки в виде всплывающих мин (на пятом варианте лодки Джевецкого их было уже два комплекта). Если к стоящим без хода кораблям их еще удавалось подводить (и то не всегда), то движущиеся даже с минимальной скоростью цели не оставляли лодке практически никаких шансов на удачную атаку. При этом в случае промаха всплывшие на поверхность мины однозначно демаскировали лодку и позволяли противнику уйти из района ее патрулирования, не дожидаясь нового нападения.
Поэтому, видимо, вполне резонной стала выданная МТК в сентябре 1887 года рекомендация о сосредоточении дальнейших усилий в развитии подводных лодок на двух направлениях – совершенствовании их вооружения и улучшении параметров двигательной установки. И успехом в решении первой из поставленных задач флот опять оказался обязан таланту Джевецкого.
Довольно логичным шагом было приспособить подводную лодку для запуска самодвижущихся мин Уайтхеда, уже получивших свое признание и широкое распространение. Но применение их с подводного носителя порождало свои проблемы, разобраться с которыми с наскока не получалось. В результате удовлетворительно работающий наружный трубчатый минный аппарат был предъявлен Джевецким в МТК лишь к началу 1890 года.*
*Справочно:
В нашей истории Джевецкий проводил опыты по оснащению лодок такими минными аппаратами в 1895 г.
Однако попытка оснастить этими аппаратами имевшиеся в распоряжении Морского ведомства подводные лодки показала, что новое оружие для них слишком велико и тяжело. Единственным носителем нового оружия смогла стать лишь электрическая лодка «пятого варианта» – но даже у нее при установке под килем минного аппарата Джевецкого из-за увеличившегося водоизмещения и возросшего сопротивления воды скорость упала до двух с половиной узлов, а запас хода уменьшился на треть.* И МТК, и конструкторам стало ясно, что размер лодок, пригодных для использования в качестве носителей самодвижущихся мин, нужно было увеличивать.
*Справочно:
Стоимость первой опытной лодки Джевецкого – около 0,005 млн. руб.
Стоимость второй опытной лодки Джевецкого – около 0,01 млн. руб.
Стоимость третьей и четвертой опытных лодок Джевецкого – около 0,01 млн. руб. каждая.
Стоимость переделки второй опытной лодки Джевецкого в электрическую – около 0,01 млн. руб.
Стоимость пятой опытной подводной лодки Джевецкого – около 0,02 млн. руб. Оснащение ее в 1890-1891 годах минным аппаратом – около 0,01 млн. руб.
Увеличения габаритов подлодок требовало и найденное к тому же времени решение с их двигательной установкой. Сам Джевецкий предлагал использовать в роли двигателя для надводного хода паровую машину, опираясь в этом вопросе как на последние работы Герна, так и на обрывочные данные о подводных лодках, созданных к тому времени в Швеции Норденфельдом, более прославившимся как довольно успешный конструктор скорострельной артиллерии.*
*Справочно:
Паровая машина предлагалась в качестве движителя для подводной лодки О.Б.Герном еще в 60-70-х годах 19 века. Первая субмарина Норденфельда, также имеющая подобную машину, была создана еще в 1885 году. Еще две подводные лодки этого типа были построены в 1887 году для турецкого правительства. Примечательно, что перегретый пар, заключенный в особые резервуары, использовался в лодках Норденфельда и для подводного движения.
В то же время применение паровой машины требовало решения целого ряда проблем, среди которых одной из основных была скорость перевода лодки из надводного положения в подводное и наоборот. Заглушение топок и последующий развод паров при всплытии требовали много времени, а для «потаенных» судов, каковыми являлись подводные лодки, данный показатель был весьма критичен. Да и герметизация перед погружением лодки, имеющей паровую машину, была довольно сложной задачей.
Возможно, именно поэтому как руководители Морского министерства, так и российские инженеры-кораблестроители и ученые мужи на применение пара на подводных лодках смотрели большей частью довольно скептически. Куда более перспективным казалось применение керосиновых или бензиновых двигателей, благо кое-какими успехами по этой части могла похвастаться и отечественная конструкторская мысль.
Сии успехи были связаны с именем Огнеслава Степановича Костовича. Этот талантливый изобретатель, серб по национальности, успел поучаствовать в русско-турецкой войне, командуя военным транспортным судном, а с конца 1870-х годов работал в России. Правда, полем приложения своего гения Костович избрал авиацию, начав строить в 1882 году на Охтенской адмиралтейской верфи дирижабль собственной конструкции под названием "Россия". Но необходимость разрабатывать с нуля почти все элементы конструкции будущего воздушного судна привела Костовича к созданию для него в том числе весьма совершенного по конструкции двигателя внутреннего сгорания.
С прошением о выдаче ему соответствующей привилегии Костович обратился в российский Департамент торговли и мануфактур еще 14 мая 1888 года. И неизвестно, сколько бы российская бюрократическая машина мурыжила изобретателя, если бы не проявленное в 1890 году великим князем любопытство относительно того, чем это таким не связанным с флотскими делами вот уже восемь лет занимаются на казенной верфи. Внеплановый визит целой делегации высших чинов Морского ведомства привел – редкий случай в российской действительности! – не к возникновению проблем, а к их разрешению. Продемонстрированный Костовичем прототип своего двигателя для дирижабля (работающий на бензине оппозитный карбюраторный восьмицилиндровик мощностью 50 лошадиных сил с водяным охлаждением и – впервые в мире – с электрическим зажиганием) прямо-таки напрашивался на применение его не только на воздушных машинах, но и в подводных. Посему изобретатель получил и поддержку в патентовании своего детища в России, что было в итоге сделано в ноябре 1890 года, и первый реальный заказ на него – а с ним и деньги, которых ему так не хватало для строительства дирижабля.*
*Справочно:
В нашей истории О.С.Костовичу привилегию на его двигатель в России выдали 4 ноября 1892 г.
Следующий, 1891 год стал знаковым и для развития электродвигателей. За это стоило благодарить еще одного русского ученого – Михаила Осиповича Доливо-Добровольского, на основе более ранних работ Теслы создавшего и отработавшего к тому времени весьма совершенную конструкцию трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, применяемую и поныне.
Двигатели, создаваемые Доливо-Добровольским, поражали всех электротехников своими небольшими размерами при заданной мощности. Препятствием для их широкого распространения служил разве что факт работы на переменном токе вместо повсеместно применявшегося в то время постоянного. Но осуществленная Михаилом Осиповичем в 1891 году во время проведения международной электротехнической выставки Лауфен-Франкфуртская электропередача смогла убедить в выгодности использования переменного тока даже закоренелых скептиков. Фактически, как считали многие, именно с этого момента взяла свое начало вся современная электрификация.
Публикации в научных изданиях о работах Доливо-Добровольского заинтриговали Лихачева, внимательно отслеживавшего любые изобретения, могущие оказаться полезными для военно-морских нужд. Но очертя голову связываться с не вполне изведанной областью электротехники глава МТК был все же не склонен. В то же время заявляемые преимущества электродвигателей Доливо-Добровольского определенно вызвали у него интерес. А ведущиеся в России работы по дальнейшему совершенствованию подводных лодок давали возможность сравнительно безболезненно опробовать новый вид электроэнергетики на этих небольших и относительно дешевых судах, не рискуя в случае неудачи новым дорогостоящим броненосцем или крейсером.
Заручившись согласием на проведение такого эксперимента главного конструктора российских подводных лодок С.К.Джевецкого, Морское министерство обратилось к Доливо-Добровольскому с официальным предложением продолжить свои работы в России, имея первоочередной целью применение его знаний и опыта в деле развития отечественного подводного флота. К сожалению, перетянуть Михаила Осиповича, с 1887 года сотрудничающего с германской фирмой AEG и связанного жесткими условиями контракта, обратно на родину не удалось. Зато вполне получилось разместить на фирме, в которой он трудился, заказ на изготовление электродвигателя на переменном токе для очередной российской подводной лодки.
Таким образом, в результате предпринятых усилий проект очередной русской подводной лодки обрел основные конструктивные признаки, ставшие впоследствии характерными для всего класса этих кораблей – главное вооружение из самодвижущихся мин и раздельные двигатели подводного и надводного хода с использованием первых также для зарядки аккумуляторов вторых.
К созданию этой лодки приложила руки уже целая плеяда талантливых русских ученых и изобретателей – сам Джевецкий, Костович, Доливо-Добровольский, Лачинов. Немалое содействие в теоретической проработке модели новой подводной лодки оказали также преподающий с 1890 года в Морской академии математику и теорию корабля будущий известный российский кораблестроитель А.Н.Крылов и активно участвующий в работе Опытового бассейна Д.И.Менделеев.*
*Справочно:
В нашей истории сотрудничество С.К.Джевецого с А.Н.Крыловым по «подводной» тематике также имело место. Так, за разработанный ими совместно проект подводной лодки водоизмещением около 120 т, имеющей паровую машину, на Международном конкурсе в Париже в 1898 году была присуждена первая премия.
Работа по постройке новой лодки, начавшаяся в мае 1892 года на Невском заводе, велась в большой тайне. Для введения в заблуждение иностранных разведок даже название подлодки было обезличенным и никак не ассоциирующимся с подводным судном – «миноносец N 150». Принята флотом лодка была только спустя два года, в июне 1894 года – корпусные конструкции изготовили быстро, но много времени заняла отладка двигательной установки. Особенно пришлось повозиться с бензиновым двигателем. Увы, но этот агрегат хоть и являлся изрядным шагом вперед в развитии движителей подводных судов, но также стал первопричиной ряда происшествий с новой подводной лодкой.
Использование в качестве топлива бензина породило неведомую доселе опасность – скапливание его паров во внутренних объемах лодки. Вкупе с аккумуляторными газами они образовывали гремучую смесь – отнюдь не в иносказательном смысле. Для воспламенения этой смеси достаточно было малейшей искры. Такую искру и произвела закоротившая электрика подводной лодки 5 сентября 1894 года...
К счастью, лодка в этот момент находилась в базе – на ней производились ремонтные работы и полного экипажа на борту не было. Но из двоих вахтенных при взрыве один погиб, а еще один получил тяжелые ожоги. Что же до самой подлодки, то силой взрыва на ее корпусе выбило часть заклепок. Поступление через образовавшиеся отверстия воды привело к тому, что лодка оказалась притоплена на глубине семи саженей.*
*Справочно:
В основу описания данного случая положено аналогичное – как по обстоятельствам, так и по количеству жертв и пострадавших – происшествие с подводной лодкой «Дельфин» 5 мая 1905 года.
Подъемные работы начались в тот же день, но полностью ремонт был окончен лишь к середине декабря 1894 года. При этом он также не обошелся без трудностей – в процессе откачки воды лодка вновь стала заполняться аккумуляторными газами и парами бензина, вылившегося из разбившейся при первом взрыве стеклянной измерительной трубки топливной цистерны и скопившегося на поверхности воды, заполнившей лодку. При соприкосновении гремучих газов с не обладавшей водонепроницаемостью проводкой, оставшейся под напряжением при затоплении подводной лодки, произошел еще один взрыв. Лодке были причинены дополнительные повреждения, а четверо человек из числа занятых в спасательных работах получили ожоги.*
*Справочно:
И снова аналогия с «Дельфином» – только уже с ситуацией, возникшей после его первой аварии 16 июня 1904 года. Тогда при взрыве в ходе подъема лодки пострадало от ожогов шесть человек.
Этот инцидент стал, увы, не единственным. Пары бензина на лодке взрывались еще дважды – в августе 1895 года и марте 1901. К счастью, первый из этих случаев обошелся даже без раненых – лодка стояла у причала и экипаж на ней отсутствовал. А вот второй стоил жизни еще двум подводникам – к тому времени «миноносец N 150», переименованный в «Форель», использовался как учебное судно для подготовки экипажей строящихся новых подлодок, и недостаточный опыт находившихся на его борту курсантов в обращении с уже порядком изношенными механизмами сыграл свою роковую роль.
В то же время опасность эксплуатации первого бензинового двигателя на подводном судне в известной мере искупали достигнутые с его помощью характеристики лодки. Скорость в надводном положении достигла восьми узлов, а на "крейсерских" шести-шести с половиной дальность хода с полным запасом топлива составила около 250 миль – явный прогресс.
В противовес взрывоопасному, как выяснилось, бензиновому двигателю новый электрический конструкции Доливо-Добровольского определенно стал удачным выбором. Возросший КПД этого агрегата вкупе с улучшенными обводами корпуса позволил развивать под водой до шести с половиной узлов, но вот дальность подводного хода по-прежнему ограничивали тогдашние аккумуляторы – пятиузловым ходом лодка могла пройти на полностью заряженных батареях лишь 25 миль.*
*Техническая информация (здесь и далее для подводных лодок приводится по схеме – названия кораблей серии и кораблей из нашей истории, которые ими «замещаются», годы закладки и ввода в строй серии в целом, страна постройки, место службы, фактический тип корабля, количество валов энергетической установки, фактическое надводное/подводное водоизмещение (среднее для кораблей серии), длина наибольшая/максимальная ширина/осадка в надводном положении, максимальная мощность энергетической установки надводного/подводного хода (средняя для кораблей серии), максимальная скорость надводного/подводного хода (средняя для кораблей серии), дальность плавания в надводном/подводном положении, максимальная глубина погружения, вооружение):
«Миноносец N 150» (с 1897 года – «Форель») («замещает» «реальноисторическую» «Форель»): постройка – 1892/1894 годы, Россия, Балтийский флот, подводная лодка, 1 вал, 22,5/25 т, 12,8/2,13/1,83 м, 50/50 л.с., 8,0/6,5 уз., 250 миль на 6,25 узла/ 25 миль на 5 узлах, 25 м, 2-381-мм т.а. (наружные трубчатые, 2 торпеды).
Стоимость – около 0,075 млн. руб.
Фактически, «миноносец N 150» стал первым реальным шагом на пути внедрения русским флотом электроэнергетики на переменном токе. Однако в свете грядущих внешнеполитических событий и последовавших за ними мероприятий по экстренному усилению флота повсеместное внедрение на российских боевых кораблях устройств и сетей, использующих переменный ток, невзирая на принятое МТК в 1896 году соответствующее решение, пришлось отложить более чем на десяток лет. До тех пор же пришлось довольствоваться, может, и не столь прогрессивными, но зато уже вполне проверенными динамо-машинами постоянного тока, под которые к тому же российской и мировой промышленностью выпускалось преизрядное количество различных устройств, от ламп накаливания до электродвигателей – увы, но отнюдь не для всех их на то время имелись аналоги на переменном токе, а ждать создания таковых у отечественных кораблестроителей и флотоводцев не было никакой возможности.
Куда более неприятным фактом явилось на первый взгляд непреднамеренное ознакомление с "Форелью" в 1898 году прибывших в Россию для участия в конкурсе на строительство новых крейсеров представителей фирмы "Германия". Прогуливавшимся – разумеется, совершенно случайно! – по набережной неподалеку от Невского завода технически подкованным немцам, уже наслышанным о работах Даймлера и Майбаха в их собственной стране, хватило донесенного ветром запаха бензиновой гари в воздухе для понимания, чем именно питается двигатель едва возвышающегося над водой суденышка, спешащего к выходу в море от заводской пристани (на лодке в то время проводился очередной текущий ремонт и сопутствующие ему пробы подвергаемых исправлению механизмов). А странноватый вид увиденного плавательного средства и совершаемые им эволюции навели крупповских специалистов на вполне определенные мысли по поводу его предназначения.
Происшествие сие российскими властями все-таки вскрылось, но возможные способы реагирования на ситуацию изрядно озадачили ответственных лиц. Конечно же, всем было ясно, что и при самых благожелательных отношениях между странами желание национальных разведок поживиться чужими секретами неистребимо – а именно русские в развитии подводных сил на тот обошли прочие мировые державы. Но формально кроме повышенного любопытства, которое, сообразно пословице, не порок, предъявить немцам было нечего – секретных документов они не видели, подкупить сотрудников завода не пытались...
Посему в конечном итоге каких-либо персональных мер в отношении не в меру любознательных германских подданных предпринимать не стали (зато собственные контрразведчики, допустившие досадный промах, после выволочки от руководства имели вид весьма бледный). Попутно пришлось смириться и с тем, что форсировавшие работы по подводной тематике инженеры Круппа уже к марту 1902 года создали свой экспериментальный образец подводной лодки водоизмещением в 45 тонн с бензо-электрическим (а не электрическим, как планировалось ими изначально) движителем – благо, у самой России к тому времени находились в постройке лодки куда более совершенные, и, что более важно, уже вполне серийные. Тонкую издевку немцев в виде избрания для своей подлодки названия "Forelle" также предпочли не замечать.* Впрочем, расплата за содеянное все же возымела место – в виде пересмотра условий сотрудничества с фирмой Круппа по ряду направлений.
*Справочно:
В нашей истории экспериментальная электрическая подводная лодка «Forelle», имевшая подводное водоизмещение всего в 18 тонн, была построена Круппом только в июне 1903 года. 24 мая 1904 года она была подарена Российскому правительству при заключении контракта на постройку немцами для русского флота еще трех субмарин.