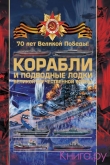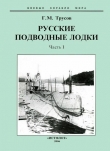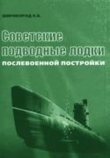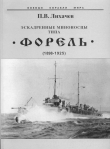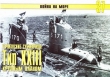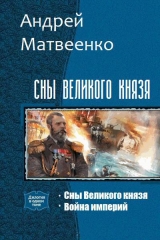
Текст книги "Сны Великого князя. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Андрей Матвеенко
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
*Техническая информация:
«Сухум», «Лахта» («замещают» «реальноисторические» «Сухум» и «Гагры»): постройка – 1881/1882 годы, Англия, Черноморский флот («Сухум»), Балтийский флот («Лахта»), миноносец, 1 винт, 2 трубы (расположены побортно), 70/75 т, 35,81/36,73/3,96/0,61 м, 750 л.с., 18 уз., 10/15 т угля, 1500 миль на 10 узлах, 2-37 (пятиств.), 2-381-мм т.а. (носовые надводные, 4 торпеды).
«Поти», «Нарва» («замещают» «реальноисторические» «Поти» и «Геленджик»): постройка – 1881/1882 годы, Франция, Черноморский флот («Поти»), Балтийский флот («Нарва»), миноносец, 1 винт, 2 трубы (расположены побортно), 70/75 т, 38,41/39,01/3,81/0,76 м, 625 л.с., 18,25 уз., 10/15 т угля, 1500 миль на 10 узлах, 2-37 (пятиств.), 2-381-мм т.а. (носовые надводные, 4 торпеды).
«Гагры», «Котлин» («замещают» «реальноисторические» «Измаил» и «Котлин»): постройка – 1881/1883 годы, Россия, Черноморский флот («Гагры»), Балтийский флот («Котлин»), миноносец, 1 винт, 2 трубы (расположены побортно), 70/75 т, 38,56/39,32/3,73/0,91 м, 500 л.с., 16,25 уз., 10/15 т угля, 1500 миль на 10 узлах, 2-37 (пятиств.), 2-381-мм т.а. (носовые надводные, 4 торпеды).
Стоимость каждого из зарубежных миноносцев – около 0,1 млн. руб. Стоимость каждого из двух отечественных миноносцев – около 0,1125 млн. руб.
Французские миноносцы также проявили и лучшие из всех трех типов кораблей мореходные качества, что в дальнейшем послужило основанием для избрания именно проекта «Поти» и «Нарвы» в качестве основы для создания первой крупной серии миноносцев отечественной постройки.
3. Отечественное развитие удачного типа
Впрочем, мореходными даже лучшие из миноносцев «образца 1881 года» могли считаться достаточно условно – для того, чтобы являться таковыми без всяких оговорок, им по-прежнему не хватало размера. Да и начавшееся в Германии, полагаемой главной соперницей России в Балтийском море, крайне активное развитие миноносного флота также демонстрировало, помимо роста количественного состава германских морских сил, увеличение тоннажа миноносцев, на глазах превращающихся из полуэкспериментальных миниатюрных суденышек в полноценные мореходные боевые единицы.
С учетом данных факторов в новой серии миноносцев, в свете немецкой угрозы имевшей своим назначением службу на Балтике, МТК прибег к очередному увеличению их водоизмещения – до 100 тонн в полном грузу. Состав вооружения на них остался неизменным, однако для достижения проектной 19-узловой скорости была повышена мощность машин, а для обеспечения необходимой дальности плавания – запас угля. Чтобы вместить более мощную силовую установку, была несколько увеличена длина корабля и куда существеннее – его ширина.
Постройку всей серии новых миноносцев – десять единиц – поручили набравшему к тому времени немалую промышленную мощь Путиловскому заводу. Возможно, не обошлось в этом вопросе и без участия Константина Николаевича, помнившего заслуги основателя указанного предприятия в деле сооружения винтовых канонерок во времена Крымской войны.
Впрочем, каковы бы ни были обстоятельства выдачи данного заказа, закладывавшиеся в период с июля 1884 по июнь 1885 года и вступавшие в строй с июня 1885 по август 1887 года новые миноносцы показали себя достаточно дееспособными кораблями. Да, мощность их машин оказалась, как и в случае с "Гаграми" и "Котлином", меньше ожидаемой и контрактной скорости смог достичь лишь один (в целом корабли серии показали ход от 17,48 до 19,01 узла). Зато крепость корпусов, "солидно построенных из хороших материалов", и установка брускового наружного киля позволяла им "перескакивать через боны и камни без особых повреждений" – в условиях каменистого мелководья балтийских шхер это было, пожалуй, даже более ценным, чем лишний узел скорости.*
*Справочно:
Прообразом описываемого типа миноносцев послужили существовавшие в нашей истории миноносцы двух отечественных проектов – «Измаил» и «Биорке». И именно к трем построенным Новым адмиралтейством балтийским миноносцам типа «Измаил» в реальности относились указанные в виде цитат слова (см. Р.М.Мельников, «Первые русские миноносцы», с. 50).
Определенным новшеством, правда, не технического, а организационного порядка, стали названия новых миноносцев. Резонно предполагая массовую постройку кораблей этого класса в будущем и желая упростить систему их наименований, великий князь предложил вместо имен собственных обозначать миноносцы номерами. При этом трехзначный номер, начинающийся с единицы, было предложено присваивать кораблям, предназначенным для Балтики, с двойки – для Черного моря, а с тройки – для Тихоокеанской эскадры. Это предложение, согласованное с императором, юридически формализовали приказом по Морскому ведомству в 1885 году и первым делом распространили на всю десятку миноносцев, строящихся Путиловским заводом. Первые же шесть миноносцев, построенных по программе 1881-1900 годов, как и предшествовавшие им «Батум» и «Взрыв», дабы не вносить излишней путаницы, решено было не переименовывать.*
*Техническая информация:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 («замещают» «реальноисторические» «Лахта», «Луга», «Янчихе», «Сучена», «Биорке», «Роченсальм», «Анапа», «Ай-Тодор», «Гапсаль», «Моонзунд»): постройка – 1884-1885/1885-1887 годы, Россия, Балтийский флот, миноносец, 1 винт, 2 трубы (расположены побортно), 95/100 т, 39,01/39,93/4,27/0,99 м, 1000 л.с., 18,25 уз., 20/25 т угля, 2000 миль на 10 узлах, 2-37 (пятиств.), 2-381-мм т.а. (носовые надводные, 4 торпеды).
Стоимость каждого корабля – около 0,125 млн. руб.
4. Новое слово в минных постановках
Практически одновременно с закладкой первых серийных отечественных миноносцев МТК обратил свое внимание и на носители другого вида минного оружия – корабли, предназначенные для доставки и установки мин заграждения.
Идея активных минных постановок была опробована русским флотом еще во времена русско-турецкой войны 1877-1878 годов. А к началу 80-х годов 19 века именно в отношении мин заграждения российскими моряками был сделан ряд важных изобретений.
Так, в частности, лейтенантом Н.Н.Азаровым в 1882 году был изобретен используемый и поныне штерто-грузовой способ автоматической постановки мин, существенно облегчивший и ускоривший этот процесс. В том же году капитан 2 ранга С.О.Макаров выдвинул идею гидростатического способа, а еще один лейтенант – Н.Ф.Максимов – предложил штерто-буйковый способ.
Ряд опытов, проведенных в 1882-1883 годах на Черном море, привел руководство МТК к мысли о необходимости реализовать все последние достижения в минной отрасли в рамках нового для российского флота класса кораблей – специальных минных транспортов.
Первые два таких транспорта, построенных по заказу Морского ведомства, предназначались для минной обороны Владивостокского порта. Заложены они были в малых деревянных эллингах Нового адмиралтейства и Балтийского завода соответственно в августе и ноябре 1884 года.
"Балтийцы" вновь показали более высокую скорость работ, сдав в казну свой корабль, получивший название "Алеут", в феврале 1886 года. Ввод в строй "адмиралтейского" "Монгугая", несмотря на более раннюю закладку, состоялся только спустя пять месяцев. На испытаниях минные транспорты развили скорость 12,07 и 11,94 узла и при этом, как и крейсера "памятной" серии, стали одними из первых в русском флоте носителей недавно принятых на вооружение для борьбы с подросшими в размерах миноносцами 47-миллиметровых пятиствольных скорострелок Гочкиса.*
*Техническая информация:
«Алеут», «Монгугай» («замещают» «реальноисторические» «Алеут», «Монгугай»): постройка – 1884/1886 годы, Россия, Тихоокеанская эскадра, минный транспорт (после перевооружения – минный заградитель), 925/1000 т, 1 винт, 1 труба, 49,83/53,64/9,75/4,5 м, 875 л.с., 12,0 уз, 75/150 т угля, 2500 миль на 10 узлах, 4-47 (пятиств.), 200 мин заграждения (после перевооружения в 1897-1898 годах – 2-75х50, 150 мин заграждения).
Стоимость каждого корабля – около 0,3 млн. руб. Ремонт и модернизация в 1897-1898 годах – около 0,125 млн. руб. на каждый корабль.
«Алеут» и «Монгугай» прибыли на Дальний Восток в 1887 году и показали себя достаточно полезными кораблями. Помимо своего основного назначения им в 1888 году довелось побывать в карантинном патруле, имевшем целью противодействие занесению чумы из портов Японии и Китая. Впоследствии они также регулярно использовались для прибрежного крейсирования, борьбы с браконьерством на котиковых промыслах в русских территориальных водах и гидрографических работ.
Весной и летом 1895 года в связи с началом японско-китайской войны минные транспорты несли сторожевую службу близ Владивостока. В 1897-1898 годах "Алеут" и "Монгугай" прошли ремонт, в ходе которого на них были заменены котлы и артиллерия, а также появилось оборудование для минных постановок на ходу. Хотя все эти переделки и снизили запас мин на каждом корабле до 150 штук, но зато позволили переклассифицировать их из минных транспортов в полноценные минные заградители.
5. Первые бронепалубные
Наряду с миноносными кораблями до броненосцев на Балтийском и Черном морях появилось и еще по паре крейсеров – и это были новомодные бронепалубные крейсера, идеологически замещавшие собой прежние корветы – они же крейсера 2 ранга. Черноморские были заложены в августе-сентябре 1883 года на верфях Николаевского адмиралтейства и Лазаревского адмиралтейства в Севастополе, находящегося в пользовании Российского Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ), балтийские – в ноябре-декабре 1883 года на верфи Галерного островка, арендованной к тому времени Акционерным обществом Франко-русских заводов.
Постройка черноморских крейсеров преследовала сразу несколько целей. Это было и восполнение фактического отсутствия на Черном море кораблей крейсерского класса, тем более что после отказа от достройки "круглокорпусной" яхты по проекту А.А.Попова первоначально планировавшийся к переоборудованию в крейсер пароход Доброфлота "Ярославль" решено было оснастить для использования в качестве императорской яхты, присвоив ему имя разобранной на стапеле "Ливадии". И накопление опыта постройки крупных кораблей на базе обновленных судостроительных предприятий Юга России (до того плачевное состояние черноморских верфей вынудило ККиС потратить почти два года и немалую часть бюджета Морского ведомства на проведение их модернизации – и если в Николаеве потребовалось только обновить уже имеющиеся мощности, то в Севастополе, к примеру, появился крытый деревянный эллинг длиной 425 футов и два дока, по своим размерам способных принять броненосцы).* И, в конце концов, определенный кивок в сторону общественного (и высочайшего) мнения, для коего дальнейшее промедление в возрождении Черноморского флота – одна из основных целей программы 1881-1900 года, прямо предусматривавшей, кстати, строительство на данном театре двух крейсеров – могло быть воспринято, мягко говоря, с недоумением.
*Справочно:
Аналогичные работы велись в Севастополе и в нашей истории в 1882-1883 годах, только вместо крытого деревянного эллинга были построены два открытых деревянных стапеля длиной около 100 м каждый. Но один из этих стапелей использовался только для постройки одного из первых двух черноморских броненосцев типа «Екатерина II», после чего стоял без дела, постепенно ветшая, и к началу 20-го века пришел в негодность. Ну а в описываемом мире с учетом количества крупных боевых кораблей, планировавшихся к постройке на Черном море, к делу расширения судостроительных мощностей означенного региона подошли более взвешенно.
На Балтике же с ее открытым выходом на океанские коммуникации потенциальных противников проблема с дополнительным обоснованием необходимости наличия сильной крейсерской составляющей не стояла вовсе. Да и дальневосточные дела настоятельно требовали расширения военно-морского присутствия России у тамошних берегов, каковое могли надлежащим образом обеспечить новые крейсера.
Технический облик этих кораблей формировался МТК под явным влиянием строившихся в Англии крейсеров 2-го класса типа "Линдер". Правда, в отличие от британского прототипа российские корабли имели существенно меньшее водоизмещение, сохранили клиперские очертания форштевня и получили не имеющую скосов (хотя и обладающую значительной погибью, в том числе для должной защиты примененных на них вертикальных паровых машин) броневую палубу, распространенную на всю длину корпуса. Но основную артиллерийскую мощь кораблей, как и у англичан, составляли десять 152-мм орудий с длиной ствола в 28 калибров.
Балтийские "Витязь" и "Рында" вошли в строй соответственно в августе и октябре 1886 года (причем "Витязь под командованием С.О.Макарова сразу же был направлен на усиление тихоокеанской эскадры, совершив в итоге свое знаменитое почти трехлетнее кругосветное путешествие, прославившее и крейсер, и его командира; позже в те же воды ушел и "Рында"), черноморские "Лейтенант Ильин" и "Капитан Сакен", несмотря на более ранний срок их закладки – лишь в январе и марте 1887 года. Помимо более длительной постройки, черноморские корабли отличала и меньшая скорость, достигнутая на испытаниях, хотя до проектных 16,5 узлов оба они недобрали менее одной десятой узла. Балтийские же корабли на мерной миле выжали из машин 17,11 узла для "Витязя" и 16,96 для "Рынды".* Вместе с тем проблемой, которую пока так и не удалось окончательно искоренить, продолжала оставаться строительная перегрузка, которая у новых крейсеров доходила до 100-150 тонн.
*Техническая информация:
«Витязь», «Рында», «Лейтенант Ильин», «Капитан Сакен» («замещают» «реальноисторические» корветы «Витязь» и «Рында», минные крейсера «Лейтенант Ильин» и «Капитан Сакен» и неброненосный крейсер «Алмаз»): постройка – 1883/1886-1887 гг., Россия, Тихоокеанская эскадра («Витязь», «Рында»), Черноморский флот («Лейтенант Ильин», «Капитан Сакен»), бронепалубный крейсер, 2 вала, 2 трубы, 2875/3125 т, 86,72/97,99/12,95/5,26 м, 4500 л.с. 16,75 уз., 250/500 т угля, 3000 миль на 10 узлах, броня стальная, палуба (по всей длине корпуса) – 25 мм, боевая рубка – 25 (бок)/12,7 (крыша) мм, щиты 152-мм орудий (после перевооружения) – 25 мм, 10-152х28, 8-47 (пятиств.), 2-37 (пятиств.), 2-381 мм т.а. (надводные, 4 торпеды) («Лейтенант Ильин» и «Капитан Сакен» после перевооружения – 4-152х45, 6-75х50, 8-47, 2-37, 2 пулемета, 2-381-мм т.а. (надводные, 4 торпеды)).
«Лейтенант Ильин» и «Капитан Сакен» в 1899-1900 годах прошли совмещенный с модернизацией ремонт, в ходе которого снят парусный рангоут, котлы заменены на новые водотрубные системы Бельвиля, а артиллерия – на современную скорострельную. После ремонта крейсера взяли на себя роль учебных артиллерийских кораблей на Черном море.
Эти корабли на флоте неофициально именовались «воинами» или «воинской» серией. Название «витязи» по имени первого корабля серии по каким-то причинам не прижилось.
Стоимость каждого корабля – около 2,375 млн. руб. Ремонт и модернизация «Лейтенанта Ильина» и «Капитана Сакена» в 1899-1900 годах – около 0,75 млн. руб. на каждый корабль.
Черноморские крейсера этого типа прожили долгую и сравнительно спокойную жизнь, завершившуюся их списанием и продажей на слом в 1922 году. В отличие от них, обоим кораблям балтийской постройки судьба уготовала незавидную участь пасть жертвами навигационных аварий. С «Витязем» это случалось у корейских берегов в районе Гензана в мае 1893 года. «Рында» пережил собрата всего лишь на полтора года – в ноябре 1894 в результате ошибки в определении своего местоположения крейсер вылез на каменистую отмель у острова Гогланд, где его и затерло льдами.*
*Справочно:
В основу описания инцидента с «Рындой» положена авария броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» в ноябре 1899 года (тогда броненосец спасли). Обстоятельства происшествия с «Витязем» соответствуют таковым в нашей истории.
Вообще, 1893 и 1894 годы стали поистине роковыми для Российского флота. Помимо двух крейсеров «воинской» серии, в этот период он лишится также броненосной лодки «Русалка», затонувшей 7 сентября 1893 года со всем экипажем во время шторма на переходе из Ревеля в Гельсингфорс. Но самой чувствительной потерей стала гибель 12 июня 1894 года прародителя всех российских броненосцев – «Петра Великого», распоровшего себе днище на необозначенной скале у острова Рондо (в этом случае долгая агония корабля дала возможность своевременно провести эвакуацию и обойтись без потерь в людях).*
*Справочно:
И здесь не обошлось без аналогий из нашей истории – в реальности вместо «Петра Великого» флот в июне 1897 года потерял при аналогичных обстоятельствах броненосец «Гангут», тоже не самый полезный на то время корабль в составе Балтийского флота. Дата и обстоятельства гибели «Русалки» оставлены без изменений.
Впрочем, этот каскад «неизбежных на море случайностей», как назвали бы их страховщики Ллойда, несмотря на всю трагичность, сослужил и добрую службу российскому флоту, заставив в очередной раз усилить требования к обеспечению непотопляемости. Первые шаги в данном направлении были сделаны еще в 1886 году, когда было принято предложение С.О.Макарова об упрочении водонепроницаемых переборок и доведении их на всех строящихся кораблях как минимум до жилой палубы, а также проведении их испытаний наливом воды в отсеки, а не обливанием переборок из брандспойтов, как было до того.* А с осени 1894 года по инициативе все того же Степана Осиповича окончательно отказались от систем борьбы с затоплениями, основанных на применении магистральной трубы (недостаточная производительность именно такой системы стала одной из непосредственных причин гибели «Петра Великого»), перейдя к применению автономных водоотливных средств в каждом отсеке.
*Справочно:
В нашей истории С.О.Макаров выдвигал аналогичные предложения при проведении испытаний на водонепроницаемость на строящемся броненосце «Екатерина II» в 1885 году.
6. Организационные вопросы и главная сила флота
Помимо всего прочего, в постройке первыми именно новых крейсеров и носителей минного оружия проявился типичный подход генерал-адмирала к решению действительно важных вопросов, предполагавший предварительное методичное и всестороннее, без излишней спешки, их изучение и проработку всех, даже самых мелких деталей. В результате подобная метода позволила отработать на практике различные аспекты взаимодействия всех структур обновленного Морского министерства и уже с хорошим опытом и со всей ответственностью взяться за сооружение главной силы флота – броненосцев, над определением наилучшего проекта которых наряду с И.Ф.Лихачевым, А.А.Пещуровым и самим великим князем все это время неустанно трудились такие умы, как, в частности, адмиралы Н.М.Чихачев, К.П.Пилкин, А.А.Попов, С.П.Шварц, командиры кораблей Н.Н.Ломен, С.О.Макаров, К.К.Де Ливрон, корабельные инженеры А.А.Свистовский, Н.А.Самойлов, Н.А.Субботин, А.Е.Леонтьев, Н.Е.Кутейников, Э.Е.Гуляев.
Постройке первых "программных" броненосцев предшествовал также ряд очередных изменений в работе возглавляемого великим князем ведомства и его структуре, призванных устранить (насколько это было возможно) выявленные недочеты. Главным же инициатором соответствующих реформ стал председатель МТК Лихачев.
Иван Федорович, отличавшийся живым и пытливым умом, не раз повторял, что "в наш век нескончаемых совершенствований и преобразований в морском искусстве единственное средство не быть позади других – это стремиться быть впереди всех". А в свою бытность морским агентом в Англии и Франции он принял глубоко к сердцу мнения таких выдающихся конструкторов, как О.Норман и Д.С.Уайт, отмечавших первостепенную важность в судостроении (что, впрочем, справедливо и в отношении всякого серьезного дела) умения заглянуть в самую суть проблемы и не допускать принципиальных ошибок, которые могут сделать несостоятельным весь проект.
Потому еще с 1882 года Лихачев, столкнувшись с проблемами выбора для флота наилучшего типа миноносцев, последовательно отстаивал необходимость учреждения в России опытового судостроительного бассейна для буксировочных испытаний моделей кораблей и определения наиболее оптимальных обводов их корпусов. Необходимые исследования зарубежного опыта в этом направлении по поручению председателя МТК были проведены командированным за границу лейтенантом А.М.Доможировым.
Под руководством и при активной поддержке адмирала Доможиров сумел выполнить весьма обстоятельную работу, обобщавшую новейший опыт теоретических и экспериментальных исследований в области гидромеханики корабля. Эта работа, законченная в сентябре 1883 года, позволила МТК отказаться от предполагавшегося копирования раннего бассейна конструкции У.Фруда и принять предложенный лейтенантом проект более перспективного бассейна, длина которого с 85 м (в варианте Фруда) была увеличена до 122 м. Построенный в 1884 году, а спустя двенадцать лет расширенный и переоборудованный, бассейн стал серьезным подспорьем отечественным корабелам в деле последующего строительства флота. Немалую помощь в его становлении как флотского научного центра и последующем развитии оказывал выдающийся российский ученый Д.И.Менделеев.*
*Справочно:
Д.И.Менделеев и в реальности был одним из главных инициаторов создания в России опытового бассейна для испытаний судов, высказывая мысль о необходимости его постройки еще с конца 1870-х годов. Увы, в нашей истории бассейн был построен только в 1894 году.
Услышано было руководством МТК и мнение члена кораблестроительного отделения этого комитета Н.А.Субботина, который в 1883 году после посещения чертежной на частном заводе «Форж э Шантье» особо отметил, сколь велика «бедность организации этого дела у нас. Один завод во Франции имел 60 чертежников, тогда как в России во всех отделениях МТК, в чертежных инспекторов работ в Петербурге, Кронштадте и Николаеве и при казенных постройках вряд ли наберется и половинное число». Успевший и сам прочувствовать это во время проектирования и постройки первых кораблей по 20-летней программе, Лихачев смог уговорить генерал-адмирала и управляющего Морским министерством, невзирая на все соображения экономии, все-таки изыскать средства на расширение штата МТК и казенных предприятий совокупно на 30 дополнительных единиц чертежников и делопроизводителей. Конечно, это была лишь капля в море реальных потребностей кораблестроительной отрасли, но данный шаг позволил хоть в какой-то мере разгрузить наблюдающих за постройкой корабельных инженеров от взваливавшихся на них до той поры слишком уж разноплановых функций.*
*Справочно:
В основу описания действий И.Ф.Лихачева и его сподвижников положен материал из книги Р.М.Мельникова «Первые русские миноносцы». Увы, но в нашей истории указанные преобразования в означенный период времени так и не были произведены.
Были предприняты меры и по устранению по-прежнему имеющего место и мешающего нормальной работе изрядного разнобоя мнений при выдаче заданий на проектирование кораблей – причем как с точки зрения ориентации на те или иные зарубежные прототипы, сведения о которых порой были не вполне достоверны, так и с позиции определения круга задач, которые должны были решать планируемые к постройке боевые единицы. Имея целью воспрепятствование подобной практике, Лихачев добился-таки восприятия руководством своих идей о необходимости наличия в системе управления флотом Главного морского штаба. Военно-морской ученый отдел этого органа, ранее уже существовавшего и воссозданного в ноябре 1883 года, обязан был отныне централизованно собирать сведения об иностранных флотах (у военно-морских агентов в основных морских державах и командируемых за рубеж специалистов Морского ведомства существенно прибавилось работы) и определять стратегию и тактику использования сил флота в войне. Также на ГМШ возложили функции руководства плаванием и комплектования кораблей личным составом. Возглавить ГМШ доверили Николаю Матвеевичу Чихачеву.*
*Справочно:
В описании этого эпизода по сравнению с нашей историей практически ничего не меняется, ни примерные сроки создания ГМШ, ни его руководитель, за исключением лишь инициатора реформы – И.Ф.Лихачев вместо И.А.Шестакова.
Тем самым уже к 1884 году сложилась достаточно логичная система работы Морского ведомства как минимум в кораблестроительной части – ГМШ анализировал и выдавал рекомендации по постройке, насколько это позволяли возможности его пока еще не слишком большого по составу ученого отдела, МТК проектировал, а ККиС строил. А генерал-адмирал, по достоинству оценив умение Лихачева принимать стратегически верные решения, в последующем всячески поддерживал передовые инициативы председателя МТК, да и в деятельность Ивана Федоровича на его посту без крайней на то нужды старался не вмешиваться.
Однако находились и те, кто жаловался Александру III на реформы, проводимые в возглавляемом Константином Николаевичем ведомстве (одни – будучи обделены постами, на кои они метили, другие – выражая недовольство ростом числа возлагавшихся на них обязанностей). Но царь закрывал на эти жалобы глаза – лишь бы его дядя, как и было условлено, не лез в политику. А он и не лез. Он вместе со своими сподвижниками просто строил для России флот.
И флот продолжал строиться.
Воззрения Н.М.Чихачева, ратовавшего за первоочередное развитие морских сил на Балтике, разделяемые во многом и самим великим князем и поддержанные И.Ф.Лихачевым, стали причиной тому, что в свете непростой обстановки на Дальнем Востоке приоритет в получении новых броненосцев был отдан Балтийскому флоту.
На облик этих кораблей в значительной мере повлиял как единственный имеющийся отечественный прототип – "Петр Великий", так и сведения о конструкции новейших на тот момент английских броненосцев типа "Адмирал", демонстрировавших решительный отход флота "владычицы морей" от прежней ориентации на таранную тактику. В определенной мере к конечному виду проекта приложил руку и сам Константин Николаевич, памятующий по своим видениям броненосные корабли грядущего в подавляющей своей массе с двумя двухорудийными установками главного калибра и многочисленной средней артиллерией. Потому рассматривавшиеся на ранних стадиях проекта различные варианты восходящих в своей идеологии ко временам битвы при Лиссе "броненосных таранов с сильным носовым огнем" и прочей экзотики понимания у главного флотского начальника не нашли.
В свете уже выявившейся на практике неприятной тенденции к постоянному и значительному (по сравнению с цифрами, на которые ориентировались при подготовке 20-летней программы) удорожанию постройки кораблей при росте их технического совершенства российским проектировщикам пришлось ограничивать размеры и стоимость будущих броненосцев. Но, даже несмотря на это, превзойти английских "учителей" удалось практически по всем статьям. Так, первые российские броненосцы, в отличие от "адмиралов", получили и еще один броневой пояс, расположенный выше главного, защищающего ватерлинию, и бронированный каземат для 152-мм орудий (кстати, уже новой, 35-калиберной модели). Правда, за рост бронирования в высоту пришлось заплатить неполным (но все же достаточно приличных размеров – почти две трети длины корпуса) поясом по ватерлинии и применением для защиты главного калибра не башен, а барбетных установок с легкими куполообразными броневыми прикрытиями.* Однако и в таком виде русский проект наделал много шума в британском Адмиралтействе, вызвав копирование многих его элементов в следующей серии британских броненосцев, относящихся к типу "Трафальгар". В самой же России он, считаясь в целом достаточно удачным, послужил основой для проектов трех последующих серий отечественных броненосцев.
*Справочно:
Мог ли реально такой проект родиться в головах отечественных военных и конструкторов того времени? Полагаю, что мог.
Так, в нашей истории, к примеру, вариант бронирования с неполным поясом по ватерлинии и вторым поясом (нижним казематом) был даже первоначально утвержден МТК при подготовке проекта «Екатерины II» 20 декабря 1882 года. А строившийся в то же время «Император Александр II» хотя верхнего пояса и не имел, зато получил какое-то подобие защиты шестидюймовых (и частично 47-миллиметровых) пушек в виде утолщенного до двух дюймов борта в районе их портов. Аналогичного рода защита шестидюймовок, хотя и чуть меньшей толщины (37 мм), дополненная также 11-мм переборками между орудиями, имелась и на броненосном крейсере «Адмирал Нахимов», заложенном в 1883 году.
Вопрос об уменьшении количества орудий главного калибра на «Екатерине II» с шести до четырех (причем с размещением их в башнях) рассматривался в МТК с августа по декабрь 1883 года по указанию И.А.Шестакова. Тогда он не был положительно решен лишь из-за недостаточной испытанности за рубежом предложенных башенных установок французской фирмы «Форж э Шантье».
Здесь же презюмируется возможность достижения И.Ф.Лихачевым и его подчиненными симбиоза всех этих идей в рамках одного проекта (тем более, что таковой симбиоз произошел, хотя и чуть позже, и в нашей истории – в проекте черноморского броненосца «Двенадцать Апостолов»).
Закладка первых двух кораблей серии («Чесма» и «Синоп») состоялась соответственно в январе и феврале 1884 года в больших деревянных эллингах Нового адмиралтейства и Балтийского завода. Еще два броненосца («Гангут» и «Наварин») начали строить на верфи Акционерного общества Франко-русских заводов на Галерном островке в июле и августе 1885 года – в эллингах, освободившихся после спуска на воду «Витязя» и «Рынды».
Интересно, что один из эллингов на Галерном островке – деревянный фрегатский – еще до строительства первых бронепалубных крейсеров решено было расширить и удлинить для обеспечения возможности постройки на нем броненосцев. Однако стремление флотского руководства переложить обязанность проведения соответствующих работ на арендатора привело к их выполнению по минимально достаточному принципу, что и стало причиной прихода эллинга в негодность уже после спуска на воду "Наварина". В итоге на месте данного эллинга, уже за счет казны, с июля 1888 года начали сооружать новый каменный эллинг, завершив его постройку в январе 1891 года.
В противовес этой ситуации проводившаяся в Новом адмиралтействе перед строительством "Чесмы" перестройка большого деревянного стапеля в крытый деревянный эллинг позволила без особых проблем эксплуатировать его в течение семнадцати лет. Еще на два года дольше просуществовал большой деревянный эллинг Балтийского завода, введенный в действие в декабре 1883 года.