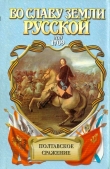Текст книги "След"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
– Со святыми упокой!.. – глумливо затянул Федька Аминь.
– Подавись ты! – оборвал его Редегин.
– Дак, шутю я, боярин! – зло огрызнулся Тимоха.
– А ты, Конобей, крестным им будешь! Отныне сельцо это тебе отдаю! – внезапно расщедрился Юрий.
Дружинники ахнули – эвона повезло Конобею-то! С Юрием сроду так, не знаешь, чего ждать от него: то ли все отберёт, вплоть до жизни, то ли так одарит, что до смерти молить за Него будешь Господа. На то он и князь, хотя и княжич покуда. Тревожно с ним, но и весело!
Конобей ловил Юрьеву ногу:
– Мне сельцо, княжич, мне?!
– Гляди теперь, ответишь, коли они Господа не приемлют!
– Юрь Данилыч, княжич, да я им сам вот этими руками церкву-то срублю! Сам попом стану! – хохотал от восторга Андрюха.
– Ну, хватит ёрничать, – построжел Юрий. – Во имя Господа нашего Иисуса Христа кунай нехристей в купель Иорданскую!
И началась потеха.
Дружинники хватали в охапку тех, кто попадался под руку, волокли к полынье. Там Конобей на свой выбор кого лишь головой макал в прорубь, кого с головкой. Визг, вой…
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!..»
– Аминь! – осеняя крестным знамением, ревел Тимоха, помогая выбраться из купели «крещённым».
Последним «крестили» того, кто в хер веровал. Чтобы не брыкался кабан здоровый, руки-то ему ещё давно за спиной скрутили. Так и кинули в полынью со связанными руками. То рыжая голова покажется над водой, то унырнёт.
– Ну, веруешь в Господа нашего Иисуса Христа?
– Не верую!
– А веришь, чудская скотина, в Создателя?
– Не верую!
– Подохнешь!
– Не верую!
И вновь тёмная вода смыкается над его головой. Да ведь не потонуть ему самому, не уйти под лёд от мучителей – догадливый Конобей на лямку его привязал.
– А теперя веруешь?..
Девка, та, что с медвяными волосами, упала перед Юрием ниц. Волосы от воды тяжелы, облепили белое, нежное тело.
– Не губи его, князь! Служить тебе станет! Дай срок, и веру примет твою, коли впрямь она истинна!
– Да, не брал бы ты греха на душу, Юрий, – заступился за нехристя и Редегин. – Не вина, а беда его, что невразумлен! Бог прощать велит…
– Я не Бог.
– Спаси его… – Девка, ползая на коленях и пугая коня, старалась припасть губами к красным сапогам княжича.
– Что так плачешь о нём, жених твой?
– Брат мой! Чист он сердцем, дитё!
– Экое дитё-то! – смеётся Юрий. Но смех его не уверен, не весел смех.
– Ну, говори уж: веруешь что ли? – ухватив парня за волосы, просит уже, чуть не молит сознаться того Конобей. То ли занравился ему упрямством своим и силищей этот парень – так сильному нравится сильный, то ли жалко стало Конобею вот так безо всякого прока топить уже не чужого, а своего холопа.
– Да говори уж, чего ты! Неужто любо тебе за хер-то погибать?!
Парень бессмысленно глядел в выпученные глаза, рыгал водой, а всё же мотал головой: не верю.
Сбившись в кучу, чудь толпилась на берегу. Даже дети умолкли. Кто постарше, глядели заворожённо из-под материнских рук на полынью и на княжича. Самые неуёмные в потехе дружинники и те построжели.
Лишь девка выла, задыхаясь и всхлипывая:
– Спаси, господине, спаси…
И тут Юрий сделал то, чего уже потом никогда не дозволял себе. Нет, не пожалел, нет, но смилостивился:
– Ладноть, тащи его! Авось образумеет…
И от тихого ли его голоса, от слов ли его, от того ли, что зло в себе победил и явил добро, единым вздохом, как под ветром листва, пала чудь на колени.
И Конобей, то ли не поняв, то ли не услышав, стоял на коленях перед полыньёй, удивлённо глядя на князя.
– Вот как надо-то, – благостно произнёс Редегин. Юрий полоснул его жёстким взглядом. Он уж жалел о сказанном, понимая добро за слабость.
«Нет, не так надо с ними, не так! – будто кто нашёптывал. – Доброго – не поймут, слабого – не простят…»
– А-а-а! – будто не выиграл, а проиграл – махнул рукой Юрий и зло крикнул Андрюхе: – Чего рот раззявил! Тащи уже!
Конобей за лямку подтянул из-подо льда парня, ухватил за волосы и рывком, как и волосы-то не снял с головы, вытащил из воды безжизненное, посиневшее тело и захлопотал над ним, приговаривая:
– Живи, паря, живи! Бог, знать, простил тебя! Видать, на роду тебе писано быть христианином…
Юрий носком сапога приподнял голову девки. Вгляделся в омут вишнёвых глаз. Девка глаз не отводила. Напротив, точно не она это выла миг назад – крупно, по-звериному лязгая от холода белыми жемчужинами зубов, сейчас глядела насмешливо: «Ай, сил не хватило на душегубство-то? Ай, не твой тот Бог, кому молишься? Али глянулась я тебе?»
Или всё это так, примстилось княжичу? Чудское племя – разве их разберёшь?
– Со мной пойдёшь!
– Пойду, коли зовёшь, – выдохнула она.
Глава пятая
Сон был смутен и чёрен, как будущее, о котором сколь ни мечтай, ни загадывай в восемнадцать лет, все одно попадёшь пальцем в небо, даже если невзначай и сбудется все, о чём ты загадывал. Потому как, если и сбудется, то не тем обернётся.
Ничто не помнилось: ни как, ни почему, ни зачем! Одно осталось в уме, словно в глазах дальний и зыбкий свет. Будто он, Юрий, идёт под отцово благословение. И знает, что именно под отцово! Только отец перед ним странен: тот же, а вроде не тот, признан, да не узнать!
Вроде то же лицо, та же строгость в чертах, но старее и суше отцов лик и в окончательной строгости заострились черты. А главное, бледен отец той холодной, неживой желтизной, что нисходит на мёртвых.
– Али ты, батюшка, помер?
Молчит – отрешён.
И одежда на нём не княжеская: вместо шапки – клобук, Вместо ферязи – ряска. Но не чёрная, а белым-бела, аж в глазах слепит. Одна рука у батюшки поднята, готовая к крестному знамению, в другой – свеча.
– Пошто то, батюшка?
Молчит отец.
О многом хочет спросить Юрий, но уста будто воском сковало. Боясь опоздать, спешит под отцовскую длань, задыхается, преодолевая пространство, хотя отец-то рядом, кажется, руку протяни и дотронешься. Наконец, достигает отца, точно шёл к нему издали, падает в ноги, мол, благослови меня, батюшка!
Ан в сей миг свечка в руке у отца погасла, будто дунул на неё кто!
Кто?
И тьма…
Юрий открыл глаза – тьма. И душно. И по груди словно когти скребут, к сердцу подбираются.
«Сгинь, нечистая!»
Юрий ещё долго лежит в темноте не шевелясь, приходя в себя от сна, как от похмелья.
«Сон какой нехороший. Батюшка, точно мёртвый, и в клобуке? Знать, схиму принял? Тьфу ты, чтой-то я о нём как о мёртвом? А покойник-то во сне, бают, что на погоду. А живой-то покойник – на что? Да тьфу же ты, прости меня Господи! Рази бывают покойники-то живыми? И благословения не дал, – вспомнил с досадой Юрий, – вот же! Нет, не хорош сон! Да и безлепый какой-то: батюшка-то, чай, жив, что с ним сдеется? – уже веселей усмехнулся Юрий. – Ему ещё стол великий под дядей заместить должно, тогда уж… Тьфу ты! – теперь уж на самого себя плюнул Юрий. – Экая дрянь с утра в башку лезет!»
Но долго ли нас занимают пришедшие неизвестно откуда и канувшие в беспамятство даже самые необычные, а может быть, и вещие сны, тем более когда нам восемнадцать лет?
Жарка перина у боярина Коровы, отцова милостника, поди чижовым пухом набита. Наволочки камчатые, шиты золотом. Одеяльце соболем подбито. И всё цвета червленного, словно кровь. Зело разжился боярин, коли в таких постелях почивает на обыденку. Или княжичу лучшее велел постелить?
В первый раз Юрий в гости к Корове нагрянул, да и то ненароком. Вчера, как чудь-то «покрестили», двинулись по Ердани и спустя совсем малое время (знать, от Гжели-то по бору в верном направлении плутали) вышли на Коломенскую дорогу. Повернули к Москве, да уж затемно было, вот и заночевали в первом селе, попавшемся на пути. То как раз и оказалось загородное сельцо Ивана Коровы, известного на Москве богатея.
Носом дышать – воздух знобкий. Выстудилась за ночь горняя повалушка, а с утра не протопили ещё, рано, знать. Кой бес в такую рань побудил? Эвона почему бесы-то на груди спросонья почудились – соболье-то одеяльце хоть и легко, а словно медведь душит.
Юрий откинул соболей, воздух коснулся груди. А легче не стало. Вон что: сбоку девка к нему приладилась, пышет жаром, как устье у печки, да ногу ещё на него взметнула – ишь, как боярыня!
Юрий скинул с себя девичью ногу, поднялся, в темноте прошёл за опону, огораживающую угол, наугад нащупал лохань, справил малую нужду и, не кликая своего постельничего Федьку Мину, который дрыхнул поди где-то неподалёку, нашарил свой походный узкогорлый куманец-водолей. Вода в куманце за ночь заледенела, пришлось пальцем протыкать льдистую плёнку. Два раза плеснёшь такой водицей в лицо, в третий уже не захочется!
Из-за опоны Юрий вышел готовым к новому дол тому дню и К новым подвигам.
Недавно пришла на Москву от болгаров, переложенная с греческого, прямо-таки баснословная повесть об императоре полумира Александре Македонском. Так вот, как Юрий прочитал ту книгу (да и не раз перечитывал-то!), так и сам с тех пор жил на подвиг !
Случая только покуда не предоставлялось достойного – батюшка воли на войну не давал. Вот и приходилось от безвременья то на Москве мало-мало озорничать, то татей гонять по лесам, то зверовые ловы чинить, а то и чудь «крестить»... Но разве для баловства явился в мир Юрий?
«Да ить у Александра-то, того царя Македонского, отец как раз помер, когда ему восемнадцать исполнилось, как и мне! – пришло на ум Юрию. – Так в той книге и писано. С того он и начал мир покорять! Да!.. А отца-то у него отравили, сказывают, – неожиданно подумал он и тут же совершенно некстати, а даже и к стыду своему вспомнил давешний сон, в котором батюшка то ли жив был, то ли нет. – Тьфу ты! Вот привязался, сон какой окаянный!..»
В повалушке по-прежнему было темно. Юрий не увидел, а скорей догадался, что девушка проснулась и смотрит теперь на него.
Вчера он с ней не больно ласков-то был. Как приехали к боярину Корове, велел девку чудскую в мыльню свести, а после от лишних глаз отправил её сюда, в повалушку, постелю ему греть, покамест сам он в боярской горнице пир правил. Корова тоже оказался хлебосол знатный. Из-за стола Юрий еле выбрался без чужой помощи. А уж в горнюю повалушку его Федька свёл.
Как ни хмелён был Юрий, однако не устоял перед чудской красавицей. Обволокла она его непокорными, злыми глазищами, в которых множился свет масляных плошек. Потонул, запутался Юрий в медвяных её волосах. Правда, на ласку-то ни времени, ни охоты не было, помнил, как тискал упругие, высокие груди и все дивился их белизне, помнил, как туго и властно входил в её лоно, как змеёй извивалась она под ним, то ли пособляя, то ли сопротивляясь. Девица-то оказалась без порчи.
Словом, взял он её! Хоть сквозь хмель помнил, что соитие то особого удовольствия ему не принесло: не ощутил он в девке того жара, который таился в её глазах. А может, и был жар, да весь ушёл на противление ему? А может, обманны её глаза? Бывают девки: взглянут, как обожгут, а в постеле-то сырой колодой лежат. А может, и сам он, навалившись накоротко, жара того не успел почуять, а дале-то неколи было расчухивать – после пира да долгого дня заснул сразу же.
– Чего смотришь-то? Али видишь чего? – спросил Юрий хмуро.
– Все вижу, – ответила девушка.
– Все? – произнёс удивлённо Юрий. – Так ни зги не видать!
– А разве нужны глаза для того, чтобы суть видеть?
– Али не нужны? – усмехнулся Юрий.
– Глазами лес видишь, небо, огонь, мамку с тятькой, желанного… то, что любо, глазами видишь.
– А что не любо?
– А что не любо, нечего на то и глазами глядеть, – уклончиво ответила она. Да добавила: – То, что не любо, сердцем ведаешь.
– Ага, – засмеялся Юрий, – вот и выходит, что ты арабуйка[45]45
Арабуи – чудские колдуны.
[Закрыть] чудская. Гляди, как прикажу пытать-то тебя, – шутливо пригрозил он.
Даже от шутейной такой угрозы можно было затрепетать. Прослыть арабуйкой, чаровницей, зелейщицей, что из трав и кореньев зелья варит, ведуньей, ворожеёй, колдуньей – словом, прослыть лихой бабой, было все одно, что смерть на себя накликать.
A смерть их была люта! Сначала истязали пыткой со встряскою, покуда не сознаются в ворожбе. А как здесь не сознаться? Даже ежели какой-нибудь могутный человек выдержал первые испытания, ни в чём вины не признал и от пытки впал в полную нечувствительность к боли, так его ещё раз встрясут и вновь станут калечить огнём да железом. Поди, сознаешься, в чём и вовсе не виноват! А как сознаешься, тебе и конец. Ну а уж здесь как кому повезёт: могут сжечь или закопать заживо, могут голову отрубить или на кол посадить, могут просто в воде утопить, для пущего позора и наставления увязав в мешок вместе с кошкой, змеёй и петухом. Могут и ещё какую смерть похлеще придумать. Ну, на Москве-то, скажем, жгли редко. Чаще топили в Поганом пруду. Так ведь тоже, если подумать, не сладко!
Но уж и было за что! Падеж ли скотский, мор ли людской, засуха ли, неурожай – хоть и по грехам, да ведь не сами по себе навалились – наволхвовали черти! Как их не наказать?!
Да вот не далее как нынешним летом Юрьевы молодцы по велению самого Даниила Александровича двух злоязыких волхвов утопили.
Ну, надо сказать, и лето выдалось тяжкое! Сушь ярая, бездорожье от мая по август. Того и гляди, пожар полыхнёт! Церковные ризницы ломились от имущества, что жители снесли под защиту крестов. Ал одна церковка-то, что стояла в Кучковой урочище, как раз и сгорела. Какой уж враг, и злодей решил под её крестами неправедно нажитое упасти? Бог весть.
От сухоты горели леса под Москвой. Несчётные московские пруды да речушки иссохли до дна. По Неглинной, и той, посадские гуси да утки не плавали, а ходили лапами в жидкой грязище. Одно слово, беда!
А тут ещё, откуда ни возьмись, явилась в небе хвостатая огненная звездища. Во всякую ночь висела она над Москвой, окутанная дымным дьявольским маревом. Бабы вопили от ужаса, мужики чесали в затылках, скотина» и та, рёвом выла...
И вот в эту сумятицу, в этот разброд пришли на Москву то ли с Белого озера, то ли с дальней чудской земли злокозненные волхвы. Было их всего-то двое, в ветхой потрёпанной дальней дорогой одёжке, однако слух утверждал, что, случалось, видели их в одночасье в самых разных местах Москвы: и на Подоле, и в Торговых рядах, и на Рву, и в Занеглименье, и на Яузском берегу, а то и в Заречных лугах, возле скотины – то-то тем летом молоко у коров было с горечью!
В общем, два деда, один другому под стать, с седыми бородищами, высокие да костлявые, ходили туда-сюда по Москве и мутили и без того уже до самой души смущённый народ. Пророчили всей русской земле и мор, и глад, и войну, и прочие беды, что якобы вскорости и до скончания века придут на неё из Москвы.
Ишь, чего выдумали!
Но опять же, надо знать московский народ, необычайно склонный ко всякого рода смущениям, слухам и толкам. Запусти им утицу в небо, а скажи, что ворон, так они и в это поверят, потому как и в ясное небо привыкли глядеть зажмурясь.
Однако от всей этой куролесицы с погодами, от страха перед пожарами, ужаса перед дьявольской хвостатой звездищей, да от злокозненной молвы народ будто ополоумел и впервые за всё время правления добронравного князя Даниила дело грозило обернуться смутой. А смута-то на Руси бывает похлеще чужого нашествия. Чужих-то, глядишь, отобьём, ан как со своими управиться?
Даниил Александрович велел тех волхвов схватить. Схватили. Привели в кремник пред очи князя. Сам он и дознавал у них истину.
– Пошто клевету несёте?
– А откуль тебе знать, клевета ли то?
– Ну дак поклевещите…
А те и рады, давай языки-то чесать! Мол:
Воистину страшное время грядёт: много будет князей, да доблести станет мало.
Люди добрый суд позабудут.
Покинут владетелей честные и сильные, останутся при лих лживые.
Скверными станут мужи и неверными жены.
Много придёт несчастий и всякий станет с изъяном!
Истина не сбережёт богатства. И богатство не защитит истины.
Забавой станет всякое дело.
Гордыня овладеет нищими, и забудут они своё место, и не встретят почтения ни возраст, ни ум и ни честь. Благородно-рожденный заслужит презрение, а возвысится раб, и не станут более почитать ни человека, ни Бога.
Истинные цари будут погибать от рук насильников. Станут пустыми храмы и житницы. Псы осквернят тела. На всяком холме утвердится измена. И всякая любовь станет прелюбодеянием.
Гордость и своеволие обуяют сыновей крестьян и людей ремесла, всякий поднимет руку друг на друга. Скупость станет достоинством, благородными завладеет нужда, и померкнут их песни…
Ну и далее всё в том же роде!
– Когда же сбудется сие предсказание?
– То нам неведомо.
– А от чего же то произойдёт?
– А от того, добрый князь, что город твой неправедно возвысится над другими.
– Как же Господь допустит неправедное?
– Одно скажем: не все в руце Господней и враг его силён. А потому случается и Господу жертвовать своими верными слугами и защитниками.
– Да вам-то откуда все ведомо?
– Не все, князь. Ну а что ведомо, мы тебе донесли по небесному знамению…
Долго князь Даниил беседовал с теми волхвами, а всё-таки По размышлении велел он тех любомудрых дедов утопить в Поганом пруду при стечении народа. Знать, удручили они его.
И вот ведь что примечательно: хоть и отчего-то не хотели тонуть старики, сколь им в мешки камней ни накладывали – словно сила какая их со дна поднимала, ан всё-таки потонули, а спустя день ли два звездища та хвостатая с неба сгинула и пролились благостные дожди.
Вот ведь какие дела на белом свете бывают через тех волхвов да кудесников!
А то и не враз чаровство-то их обнаружишь! Так запетляют иного, что он и сам не заметит, как чужой заботой жить станет, чужими глазами зреть будет. Через чаровство его имуществом овладеют, а он и не заметит того. Мало ли таких случаев?
И смерть на нужного человека запросто навести могут, у них для того много есть способов. Что им стоит след твой с дороги вынуть да с лихим приговором в огне сжечь. Вроде оставил след человек, жив значит, идёт себе по пути своему, а на самом-то деле он уж мёртв и следа не оставил…
Нет, что ни говори, опасные, вредные люди, эти кудесники! Однако же и без них-то – тоже беда!
Ежели, к примеру, у кого муж на чужбинку зарится, а своей жены знать не хочет, к кому бедной жёнке идти? Али у кого жена, наоборот, неверна?.. А девке парня как к себе приохотить? Ну у справной-то девки всегда для парня заманка есть, а ежели она кривобока, криворожа, суха, как жердь, ума с горошину да приданого кот наплакал? Ан, глядишь, такого молодца охомутает – всему свету на зависть! Али здесь без ворожбы обошлось? Что об этом говорить, оглянись округ – мало разве таких супружников, которых явно на небесах осоюзили, а на земле колдуны узлом увязали!
Да, к слову, и об узлах! Ну кто, как не ворожея, правильно узел-то завяжет от беды, да зла, да болезни, да чужого оружия? Известно, в узлах – сила страшная. Да многим ли они помогают? А дело-то в том, что всяк вяжет наугад, как придётся, но немногие знают толк в том, как верно-то завязать.
Да что узлы! И без узлов у таких скрытных людей уймища разных примолвок, заговоров, насылок на ветер,– на соль, на одёжу, на след, на коня, и на жизнь, и на смерть. Нет, без них-то, баб лихих да кудесников, видно, вовсе тоже нельзя!
– Так арабуйка ты, что ли, спрашиваю?
– Какая я, княжич, арабуйка – девка простая! Марийка я!
– Марийка?
– Дак… Давеча ты меня не спросил.
– Давеча неколи было, дак, – засмеялся Юрий, но тут же смех оборвал, – так говоришь – видишь меня?
– Вижу!
– Раз ты не арабуйка, так кошка!
Она качнула головой, и в темноте Юрий и сам различил пятно её лица, которое, как ни странно, помнил с необычайной яркостью. Он не увидел, а ощутил, как тяжко И ласково колыхнулась волна её длинных волос› учуял их горький травяной запах, точно уже в длани почувствовал тяжесть её грудей, дерзкий вызов напрягшихся, упругих сосков: а ну-ка, поцелуй меня, княжич! Простую-то девку чудскую! : То ли и впрямь увидел, то ли почудилось, но во тьме углядел он жадный, ждущий, жаркий блеск её глаз:
«Ишь, раззадорилась!..»
И сам Юрий вдруг задохнулся от внезапного желания немедля вновь овладеть ей, да так, чтоб высечь искру-то, ведь не девка – пожар!
Он шагнул к постеле, за ноги рывком притянул к себе девушку так что её волосы расплескались, потянулись по подушке долгой рекой.
– Люб я тебе?
– У-м-м…
Непонятно, что было в том стоне: страсть или отвращение, но уж некогда было думать про то!
Свалилось на пол ненужное одеяльце. Жгутом сбилась камчатая простыня. В знобкой повалущке стало душно от юных вмиг раскалившихся тел. Наново, словно не было ввечеру тугого и скрытно яростного противления, столь же бешено и ломово он вошёл в жар её потайного устьица.
О, этот жар! Есть ли на свете что горячее его?
Тем более когда тебе восемнадцать лет!
– Ох! – выдохнула девушка, но не жалобно и испуганно, как вчера на вскрывание, а уж по-бабьи. И задышала то растяжно, то с прерывистым придыхом.
«Какая сырая колода, не девка – чистый огонь!» – изумлённо подумал Юрий и тут же забыл про это. Подвиги, сны, новый день – все ушло прочь…
Хотя время прошло изрядно, покуда Юрий натешился и высек-таки из чудской девки Марийки такую искру, от которой и самому было впору сгореть, в повалушке по-прежнему было темно – войлочные заглушки-наглухо прикрывали слюдяные оконца.
Обессилев на миг, в жаркой испарине, Юрий, будто урыльником, шёлковыми, длинными волосами девушки отирал с лица пот. И вновь с удивлением чувствовал, что запах её волос приводит его в искушение.
«Сколько уж можно-то?..»
– Так, кто ты?
– Говорю же, Марийка…
– Не про то я! Пошто я так-то сомлел от тебя?
– Не знаю.
– Врёшь! Чаровница ты! Так ли?..
– Не знаю.
– Ну а люб ли я тебе?
– Люб?.. – Она промолчала, и Юрий догадался во тьме, как усмешка тронула её губы.
– Что смеёшься? – зло спросил он.
– Чёрен ты, княжич!
– Что?!
И вдруг она заговорила, неровно, прерывисто, теряя и находя слова, будто и в самом деле увидела нечто, что недоступно простому зрению:
– Вижу… вижу… всю жизнь бечь тебе за великим… догнать… и не догнать… будет дикое время… кровь будет, много крови… А тебе по той крови всю жизнь тропу торить… тропу торить, а следа не оставить… Другому путь выстелить! Всю жизнь спешить будешь, и всю жизнь опаздывать… А к тому, к чему никто не опаздывает, в срок придёшь…
Странен был её голос, тихий, как шелест, странны были её слова; которые она не произносила, а едва бормотала – не разобрать.
Юрий, приподнявшись на локте, напряжённо вслушивался в шелест слов, в тихий, обморочный голос. Но так же внезапно, как заговорила, так она и умолкла внезапно. Будто молния озарила!
– Ну, говори! Говори же!
Девушка лежала безмолвно, закусив и без того истерзанные злыми, неумелыми поцелуями губы.
– Говори, что видишь! – закричал Юрий. От этого крика – будто спала и очнулась:
– Что вижу? Что? Темь-то какая, княжич! – совсем по-иному, испуганно залепетала она.
– Ты говорила! Сейчас говорила!
– Я? Молчала я, княжич, молчала!
Если бы было светло, Юрий увидел бы в её глазах страх. Даже не страх, а ужас. Но не перед ним, Юрием, а перед самой собой, перед тем, что вдруг открылось ей в этой кромешной тьме. Открылось, но, знать, и закрылось…
– Сказала: «бечь буду за великим». Кто он?
– Не знаю! Ты сам велик, княжич!
– Врёшь! Сказала: «тропу торить буду, а следа не оставлю…» Как то?
– Не знаю, княжич!
– Говори!
В отчаянии упала в подушки, зарыдала, сотрясаясь всем телом:
– Откуда ж мне знать-то? Как тропу-то торят – след в след! Первого следа и не видать! А уж иной по тропе пойдёт!
– Кто?
– Не знаю, не знаю я!
Юрий сорвался с постели, нащупал войлочную заглушку, сорвал с оконницы, другую сорвал. Повалушка высветлилась робким утренним сумраком.
Юрий с силой сжал в руках лицо девушки, притянул за скулы на свет из оконницы:
– Говори, ведьма!
– Что ты, господине, не ведьма я – девка простая!
– Ведуница чудская! Я тебя заставлю из песка верёвки-то вить! Сама же баяла давеча, чтобы суть разглядеть, мол, глаза не нужны! Али тебе глаза-то не надобны? – Большими пальцами Юрий прикрыл ей глазницы, надавил на глазные яблоки. – Ну, говори, что теперь видишь?
Ловя его руки, захлёбываясь слезами, которые обильно текли из-под Юрьевых пальцев, давясь воем, девка мычала что-то.
Юрий ослабил хватку.
– Что? Говори! Что видишь?
– Удачлив будешь!
– Ну!
– Только и в удаче не будет тебе покоя!
– Ну?
– Зверь ты! Зверь истинный!
Юрий и сам не понял: как, зачем, почему утопил в глазах её пальцы, только услышал мягкий хруст, почувствовал зыбкую скользкую, влагу и горячую кровь, что брызнула ему на руки, враз залила щёки девки.
– А-а-й! – крикнула она дико и страшно. Так дико, что Юрий невольно отпустил её голову, и девка, прикрыв руками лицо, ничком повалилась в постель.
– У-у-у… – выла она без слов.
А Юрий молча стоял над ней, вытирал о подол рубахи дрожащие руки… и плакал. Плакал, как в детстве, в нестерпимой жгучей обиде.
О чём плакал он? О чудных ли, чёрных, точно вишнёвая смолка, глазах чудской девки, в которые ни он и никто другой более никогда не взглянет? Но что ему девка чудская?
А может быть, плакал он о себе, впервые вот так, собственными руками, пролившем кровь? Но странная улыбка ли, гримаса дёргала его губы…
– Говорила же, глаза те не надобны, – сквозь слёзы зло сказал он, точно девка и была одна во всём виновата.
Она обернула к нему жуткое безглазое и кровавое лицо и вдруг, оборвав вой, сглотнув ком, сказала тихо и яростно:
– Вижу: зверь ты и зверю служишь! Путь пройдёшь, а следа не оставишь!
– Что ещё?
– Мало?
– Ещё скажи!
– Того достанет!
Юрий рукой удержал трясущиеся губы, криво усмехнулся:
– Милостив я, ведьма! Жизнь оставлю тебе, а язык-то укорочу! Надобен ли тебе язык-то?
– У-у-у! – по-звериному, как и положено ведьме, завыла девка.
– Федька! – крикнул Юрий.
Враз вбежал в повалушку Мина, знать, давно уж томившийся у дверей в ожидании, когда его кликнет княжич.
– Слышь, Федька, дознал я: то ведуница чудская, – кивнул на девку.
– Свят, свят, – перекрестился Федька.
– Счаровала она меня, и я с ней отрешился! Да Господь уберёг!
– Истинно уберёг, – вторил Федька, в ужасе глядя на залитую кровью постель, на Юрьеву рубаху в крови, на девку, теперь лежавшую без звука и движения.
– Жива она, – досадливо махнул рукой Юрий. – Да,– беда! – он ухмыльнулся страшной, незнакомой Федьке ухмылкой. – Болтает много! Скажи молодцам, что княжич велел сей ведьме язык-то укоротить!
Не успел Федька ни девку свести в нижние клети, ни чистую рубаху подать Юрию, как во дворе раздался шум. Да такой шум, точно в ворота пороками[46]46
Пороки - стенобитные орудия.
[Закрыть] били. И скрип полозьев, и топот от множества конских копыт, и крики надсадные.
«Ай, татары?»
Нет, вроде по-русски орут. А что орут-то?
– Настежь ворота, боярин! Князь к тебе жалует!
Иван Матвеевич Корова в исподнем выкатился во двор. А там из возка уже вылезает, припадая на битую ногу, грузный Даниил Александрович.
Юрий глянул в оконницу и обомлел от страха, так что и взмокла спина, и подмышки, и руки: «Батюшка! Его-то занесло сюда каким ветром? Не иначе колдунья наслала!»
Он заметался по повалушке, не зная за что и ухватиться: не умыт, не чесан, пьян с давешнего, одёжа комом, да девка ещё безглазая.
– Одеваться, Федька! Нет, стой! Девку-то уволоки отсель! Нет, брось её, не поспеть! Сам выду!
Но и выйти он не успел. На лестнице послышались шаги, голоса, и вот уж в дверях сам князь, за ним – тысяцкий Протасий, дале хозяин Корова.
– Здрав буде, батюшка! – Юрий, заранее винясь, готов был кинуться отцу в ноги.
Даниил Александрович с порога оглядел полутёмную повалушку. Все усмотрел: и рубаху в крови, и девку на постели, и смятение сына.
Не оборачиваясь, кинул назад:
– Уйдите все!
А после того, как за спиной затворилась дверь, долго ещё молчал.
– Али тебе девки важнее княжения?
– Батюшка!
– Молчи!
Хоть и червлёного цвета наволоки на подушках у боярина Коровы, ан кровь – и на червлёном кровь. К тому же подушка под девкой была мокрым-мокра. Даниил Александрович прошёл к постели, повернул к свету лицо девушки. Не выдержав, отпрянул, глянув в чёрные пустые глазницы. Сам гневно сузил глаза.
– Пошто зверствуешь?
– Ведьма то батюшка, ведуница чудская! – истово закрестился Юрий. – Накудесила баба судьбу лихую. Истинно ведьма, за то и наказана!
– Что накудесила?
– Путь пройду, да не свой! Дорогу проторю, да другому! За великим бечь буду, да не поспею, ан приду вовремя!.. – он беспомощно развёл руками. – Али разберёшь их наговора-то?!
Даниил Александрович брезгливо глянул на сына:
– Пошто ж с ведьмой-то ложе делишь? -Дык…
– Женю тебя! – как о решённом сказал князь. И добавил: – Вот с Рязани, Бог даст, придём и женю.
– Али мы на Рязань идём, батюшка? – Пророчества ведуцицы, собственная внезапная лютость, страх перед отцом, его угроза женить – все в единый миг вытеснилось из души и ума Юрия восторгом войны и скорого непременного подвига] - Неужто война?
– Кабы случайно-то на тебя не наехали, так ты бы поди не скоро и узнал, что на Москве деется. – Отец презрительно усмехнулся: – Али рать тебе не в рать, коли ты пустых бабьих сказок пугаешься?
– Да я, батюшка!.. Девка застонала.
– Жива, знать? – Даниил Александрович вопросительно посмотрел на сына.
Тот вздохнул покаянно: то ли в том каясь, что сотворил, то ли в том, что жива ещё.
Даниил Александрович отвернулся к окну. Во дворе заполошно суетились Юрьевы дружинники, Коровьевы боярчата; сам Корова уже в широком охабне и с длинным мечом на перевязи с крыльца отдавал наказы.
– Ты вот что, отошли-ка на Москву эту девку, коли впрямь она ведуница. Опосля будет время сверить её пророчества. Датак сделай, чтобы никто не увидел, да, главное, не услышал её.
– Не услышат, батюшка, – пообещал Юрий и, усмехнувшись, добавил с коротким смешком: – Чать она, батюшка, почитай, немтырка ужо.
Даниил Александрович резко повернулся от оконницы, с недобрым любопытством взглянул, на сына.
– Али она тебе на пальцах кудесила?
– На словах, батюшка, да язык больно длинен! – ответил Юрий. И взгляда не опустил.
Даниил Александрович покачал головой, хотел сказать что-то ещё, однако же воздержался и быстро пошёл прочь из повалушки, где остро пахло блудом и кровью.
– Ждать не буду! Нагоняй! – уже из-за двери, спускаясь по лестнице, крикнул он.
Сын Юрий, первенец, был ныне неприятен и страшен ему.
И непонятен.