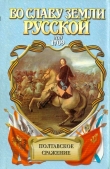Текст книги "След"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Глава вторая
Боле недели тому назад убежал Юрий из Москвы. Убежал в Гжелю. Причём враз убежал, толком не собравшись и никому не сказавшись. А в Гжелю он убежал обиду лизать. Хоть и невелика была та обида, но уж не терпел юный княжич и малых попрёков.
А вышло-то вон что…
Пришли к князю мужики с дальних чёрных земель. Не холопы, а вольные страдники, самим Данилой на ту землю посаженные. Земля та лежала на самом краю московского удела, на рубеже с переяславской вотчиной. И хотя считалась московской, нет-нет, да и возникали из-за неё малые распри с соседями. Оттого и мужики на той земле вольготно себя поставили: мол, коли что не по-нашему, так мы под переяславских бояр заложимся. Данила ту вольность покуда терпел, давал мужикам леготу, вот они и разбаловались – такой норов взяли, что пришли к князю с ябедой! Да, ить, не на кого-нибудь, а на княжича!
Как-то по ранней осени Юрий с ватагой ловцов ненароком попал в те места. А ненароком потому, что цели обижать под-дубенских мужиков у него и в голове не было.
Как бывает? Начали-то охоту за Яхромой, а вышли куда и сами не ведали. Вепрь-подранок их увлёк за собой. Вепрь, зараза чумная, так и скрылся в буреломном лесу. А Юрий с загонщиками оказался на краю чудного раменья[33]33
Раменье - черный лес, опушка.
[Закрыть]: зайцев в том раменье было великое множество! Видать, как вепря-то гнали, так и всех окрестных косоглазых с лежанок подняли, на опушку выгнали.
Особого желания у Юрия зайца бить не было, курица – не птица, в реке рак – не рыбица, однако же заяц в лесу тоже зверь. Да и надо же было хоть чем-то перебить досаду от того, что вепря, за которым полдня гнались, так и не взяли. Другое дело, что зайца бить время ещё не пришло: хоть и жирен он по осени, да шкура у него сильно линючая, не то что на шубью подбивку, на рукавицы негодная. Да и зайчихи к тому времени не опростались ещё листопадниками – так кличут в народе последний перед зимовьем заячий помет.
Словом, если положить руку на сердце, бить зайцев было негоже! Но и не смотреть же на них, когда они, как куропатки, из-под каждого куста вспархивают и ну давай петли резать. А псам на тороках[34]34
Торока – ремешки позади седла.
[Закрыть] каково на такое глядеть?
Ну начали спрохвала[35]35
Спрохвала - исподволь, полегоньку.
[Закрыть], силков понаставили, псов понудили… а уж потом как вошли в раж, так неколи было и опомниться! Что говорить, зело потравили зайцев – штук триста набили…
Ан, вишь, не по времени! Да на черноземельных полях! Поддубенцы-то сами горазды зайцев бить, да ждали лова по снегу, когда заяц линючую шкуру на белую шубку сменит. А Юрий-то их и опередил. Рази им не обидно? Ясное дело, обидно. Но мало ли мужикам от власти обид? Да разве их дело князю на княжича жаловаться! Да и на что? На то, что он, считай, в своей земле ловы открыл? Да хоть и не в пору! Али зайцев мало!
Чуял Юрий в этой ябеде какой-то подвох, только в чём тот подвох, никак в толк взять не мог. Но дело было вовсе не в зайцах. Если перед каждым вотченником ответ держать за всякого зверя, добытого в его лесу, так какой же он князь своей земли?
А отец выговаривал ему по всей строгости, хотя видно было, что думает о другом. Видать, некстати пришли те жалобщики, он и отцу досадили…
– Пошто занесло-то тебя туда?
– Да вепрь заманил…
– А зайцев зачем потравил? Мало тебе полей за Пахрой?
– Винюсь я в том, батюшка, – привычно и покорно покаялся Юрий, да не сдержался: – А мужики-то те, что ябедничать прибежали, думаешь из-за зайцев? Да норов свой показать – вон, мол, какие мы вольные! А я бы их для наказа маленько огнём пожог, а то жадные больно стали…
Если бы Юрий знал, какую бурю зовёт на себя, он бы лучше язык проглотил, чем нечаянно напомнил отцу Андреев попрёк ему в жадности, перед тем, как Москву подпалил.
Даниил Александрович внимательно поглядел на сына, вновь увидел в нём то, что всегда раздражало его до почти бессознательных приступов ярости: Даниилов первенец странно и поразительно был похож на ненавистного брата Андрея.
Вот же распорядилась природа отдать сыну черты не отца, а брата! Да ещё как-то преобразив их в худшую сторону! Те же глаза навыкате, словно под ноги смотрит, тот же тонкий, но слишком крупный хрящеватый нос, клювом загнутый книзу. Только клюв-то не кречетов, как у Андрея, а словно бы петушиный, тонкие губы в опушке первой, нестриженой ещё бороды и узкие мелкие зубы. И то – у Андрея-то волчьи, а у Юрия будто лисьи. А что более всего поражало Данилу: та же, что и у брата, длинная, кадыкастая, в выпирающих жилах шея.
Как то вышло? Бог весть. Ведь, пока жена брюхата была, даже молился Данила о том, чтобы дал Господь сына, похожего хоть бы не на него, батюшку, а на деда – Александра Ярославича! Так ведь нет! Знать, в ту пору, как послал Господь ему первенца, все мысли, все страхи Данилы были в городецком сродственнике! Вот уж черт бы кого побрал!
Юрий с удивлением и испугом глядел, как багровеет лицо отца, как становятся колючими и чужими его глаза…
– Пожечь, говоришь? Жадные больно стали?
– Так, ить, жадные, батюшка, – растерялся Юрий.
– Жадные! – внезапно и дико взъярившись, закричал Даниил Александрович. – Жадный-то тот, кто имеет и добро своё бережёт! А ты добро их в огонь! Али ты пожёгщик растёшь?
– Да, ить, пугнуть токмо, батюшка! – угрюмо ответил Юрий.
Странна и непонятна была ему ярость батюшки, который (несмотря ни на что) любил Юрия и отличал среди остальных сыновей. И Юрий то чувствовал. Ведь к другим, порой и более серьёзным проступкам (чего стоил наезд Юрьевой дружины на пригородное сельцо боярина Афинеева!) батюшка относился куда как снисходительно. Сам говаривал в оправдание сына и в утешение пострадавшим боярам: мол, ничего, и вино, пока устоится, гуляет…
А тут… Кричит так, что огонь в свечах вздрагивает, нанизу, поди, в клетях людям слышно!
– Жадные! А руки-то у людей для чего? Нешто, чтоб от себя отпихивать?
– Да…
– Молчи, Юрий! Я-то, думаешь, чем Москву поднял? Хером? – Даниил Александрович поднёс под самые глаза сына натруженные, корявые, как сосновые корни, руки: – Вот этими руками я её поднял! Руками да жадностью! Я леготу тем мужикам тоже не из добра даю, а от жадности! Чтобы они землю мою заселяли, чтоб потом никуда из-под меня не ушли, а, как помру, тебе достались, тебе да Ваньке! Коли я их сейчас драть начну, как коза окорье на яблоне, много та яблоня яблок-то даст?
– Так то яблоня… – в безлепицу пробормотал Юрий.
– Сын! Ужель тебе люди хужее пустого дерева?
Даниил Александрович обоими кулаками ударил по дубовой столешнице – что твой гром прокатился! Невысок, коренаст был князь, а силу в руках имел недюжинную.
– Не то я, батюшка, – совсем смутился Юрий. – Только ить они на твоей земле живут, а, считай, на одних себя пашут!
– Сегодня на себя, а завтра придёт – на меня пахать станут! Земля-то моя! Я, Юрий, жадный! И нет мне попрёка в том!
– Батюшка!..
– Молчи! Вот брат Дмитрий не жадный был – все не за себя, за других воевал, а помер-то нищим погорельцем, сына чуть было по миру не пустил! И то, спаси Бог, Михайло Тверской заступился! А Андрей-то тоже не шибко жадный – широк! Сколь серебра татарам отдал, сколь городов в дым пустил? Чего ради все? Во власти проку не ведает – Русь бросил, так и у себя на Городце ни церкви не возвёл, ни обжу[36]36
Обжа – мера земли под пашню.
[Закрыть] новую не засеял! Таким хочешь быть? А?
. Юрий не выдержал отцовского взгляда, уткнул глаза в пол.
– Попомни, Юрий, мои слова, – уже тихо, но жёстко сказал отец, – коли таким будешь, так ты не Данилович!
– Да что ж так гневаться? Что уж я сотворил такого? Зайцев не в пору…
– Да тьфу на твоих зайцев, – в сердцах плюнул батюшка. – Али и впрямь не ведаешь, что творишь?
– Да что же такого-то, батюшка? – в отчаянии воскликнул Юрий.
– Да землю, землю ты зоришь! Али чужая она тебе? Чужая, а? Отвечай!
Юрий дёрнул плечом:
– Какая ж она чужая? Чай, наша!
– Наша, – презрительно скривился Даниил Александрович. – Не твоя, знать, коли зоришь ты её! Наша, – повторил он вновь с отвращением. – Ты её собери сначала, землю-то, подгреби под себя, как девку желанную, почуй своей, тогда не зорить, а жалеть её будешь пуще себя!
– Понял, батюшка. Прости…
Но Даниил Александрович досадливо махнул рукой:
– Поди с глаз! Огорчил ты меня…
Юрий сокрушённо вздохнул, покорно поклонился и вышел.
– И не являйся, покуда не кликну, – донёсся вдогон отцов голос.
* * *
Из горней гридницы[37]37
Гридница - приемная, где древние князья принимали запросто.
[Закрыть] Юрий выскочил, как из угарной курной избы. Не вина жгла Юрия, а стыд. Пожалуй что впервой батюшка так кричал на него, точно по щекам отхлестал.
И за что?
Гнев душил Юрия. Попались бы под руку ему те жалобщики!
«Коли в Москве – сыщу, коли съехали – достану!..» – метались в голове злые мысли.
Да тут ещё к лишней досаде в ближнем пролёте на галерейке встретил брата Ивана. По увилистым глазам, по всей морде красной, прыщавой и будто простофилистой понял Юрий; «Подслушивал братка…»
Не любил Юрий Ивана. Сам не понимал почему? Вроде и тих, и ласков, слово старшему никогда впоперек, но в ласке его и всегдашней покорности было что-то такое, что претило Юрию; да что претило – грозило какой-то опасностью – скрытой, но верной.
Иван был всего-то двумя годами младше Юрия, однако в сравнении с ним (не видом, конечно, а душевным нутром) казался не то чтобы умудрённым опытом старцем, но зрелым, рассудительным мужичком. Про таких говорят: раз на молоке обжёгшись, на воду дует. Только где и когда обжечься-то он успел?
А уж умён и хитромудр был Ивашка сызмала и не в пример Юрию. Не то что в резные тавлеи[38]38
Тавлеи - шахматы, шашки.
[Закрыть] обыгрывал, если, конечно, нарочно не поддавался из-за какой своей выгоды, а вот по всему умён был, и все. Про него с детства говорили, когда хотели Юрия осадить: «Вон Иван-то тих да умён, а ты, Юрко, буен да без башки…» Может, ещё с той поры и запухла у Юрия завистливая обида на брата – ишь, умник какой!
Юрий хотел пройти мимо, но Иван участливо тронул его за рукав:
– Али батюшка чем недоволен?
– Как тут довольным-то быть, когда ты в церкви надысь просвиру украл?
– Опять? – вспыхивает мгновенной обидой Иван, но тут же, пересилив себя, добродушно смеётся. – Когда надоест-то пустое молоть? Да и не было того – не крал я просвиру-то!
– Крал, братка, ужо не отвертишься, – нарочно язвит Юрий Ивана.
Но Ивана не так-то легко уязвить, он лишь пожимает плечами:
– А коли и скрал, так давно уж покаялся.
Юрий хочет уйти, но Иван останавливает его тихим словом.
– Погоди, братка!
Юрий и сам не знает, почему он останавливается, поворачивается к Ивану лицом:
– Чего тебе? Неколи мне!
Иван косит глазами по сторонам, точно опасаясь чего-то Есть у него такая привычка глаза уводить, так что не уцедишься. А то и по-иному бывает: вроде в глаза твои смотрит, а вроде и мимо – то ли настороны, то ли на нос свой собственный – хоть и не кос Иван. Просто глаза у него такие бегучие.
– Да говори уж!
Иван ещё помялся, пухлыми пальцами теребя пушок над верхней губой, словно взвешивая, стоит ли открываться Юрию.
– Я вот что думаю, Юрич: ты когда у поддубенцев-то зайцев набил?
«Все ведает, аки премудрый змий!» – усмехнулся про себя Юрий.
– Ну, по осени. В сентябре ещё.
– А чтой-то они клеветой тебя обнесли не тогда, когда дело было, а только ныне, когда уж морозы трещат.
– А я почём знаю? Непутно было, вот и не шли, – хмуро ответил Юрий.
– Э-э-э, нет, братка, – улыбнулся Иван. – Кабы их впрямь обида зажгла, они б сей же миг прискакали.
– Так что? – Когда знает, что нужен, так клещами из Ивана приходится слова вытаскивать.
– А то, что кто-то подбил их на ту клевету! «Вон что!..»
Ведь и впрямь чуял Юрий, что дело-то вовсе не в зайцах! Да умом не допёр!
– Кто? – в лицо Ивану зло и нетерпеливо выдохнул Юрий. Ванька отвёл глаза, будто и не говорил ничего.
– Ну ты, брат, начал, так не виляй! Иван вяло пожал плечами:
– Не знаю я. Мне-то откуда знать?– и усмехнулся. – Ты сам-то вспомни: может, соли кому не в то место насыпал?
То был вопросец!
Мало ли у Юрия злопыхателей на Москве? Да, нет – по большому-то счету врагов он не имел, хотя по мелочи многим успел досадить. Особенно с тех пор, как вошёл в юный возраст и завёл при себе (с позволения отца) малую дружину из таких же, как он, охочих до подвигов боярчат. До подвигов дело пока не дошло, а озорства сотворили немало. То лошадку справную в дальних лугах у кого отобьют, то наедут на какого-либо боярина, будто бы невзначай, а то и просто охают кого мимоходом.
Конечно, кто чувствовал силу и дорожил достоинством, тот, случалось, приходил к князю Даниле Александровичу с жалобой на княжича, но те жалобы никаких последствий, как правило, не имели, а вот Юрьевы вроде бы случайные наезды на соседей да на иных бояр будто бы вдруг оборачивались прибытком. Так боярин Афинеев после Юрьева наезда уступил Даниле Александровичу свои исконные поля у речки Сетуни, впрочем, вместо того получив доходный путь от княжеских бортней: земля, знать, дороже стала Даниле, чем медовые выгоды.
Словом, мало-помалу утвердилось на Москве мнение, что Юрий свои наезды вершит не из одного озорства и не абы зацепить кого безо всякого повода, а с выборцем, не иначе как с отцом посоветовавшись. Ну а кто же из пустой обиды вступит в прю с самим князем?
И так было дело, и не так. Конечно, Даниил Александрович открыто сына ни на кого не подтравливал, однако позволял Юрию делать то, чего и сам бы сделать хотел, да как добронравный князь позволить себе не мог. Юрию оставалось лишь быть чутким к отцовским полунамёкам, а потому, как это были всего лишь полунамёки, он оставлял за собой право и на ошибки. Но и к ошибкам сына Даниил Александрович был снисходителен: «Ему дале княжить – али правитель должен быть тих и смирен, как я был тих и смирен доселе? Много ли тот правитель достигнет? С чем управится – с Москвой? А коли вся-то Русь на плечи возляжет? Ну а гневливость авось умерится, как в рассудок войдёт…»
А в том, что Юрий «войдёт в рассудок», Даниил Александрович не сомневался – его кровь!
«Безрассудным-то быть хорошо, когда терять нечего, а я, слава Богу, не на пустом месте сынов оставляю…»
Так думал Даниил Александрович, когда приходилось ему выслушивать очередную жалобу на старшего сына. Вот и выходило: если открытых врагов у Юрия не было, то тайных недоброжелателей вполне хватало. Поди разберись кто из них про то давнее озорство прознал да ещё и навёл поддубенских мужиков на ябеду – Москва-то большая.
– Ну так кто?
Юрий видел: Ванька, чувствуя над ним свою верхоту, нарочно тянет, посмеивается: мол, кто у нас старший-то? И сделать с ним ничего нельзя – коли упрётся, так слова не вытянешь. А ведь знает!
«Лаской нешто попробовать?..»
– Батюшка больно уж гневен, сам не пойму, чего я сделал? Скажи уж, Вань, не томи! Ведь знаешь! – взмолился Юрий.
Иван ещё потянул, поиграл глазами и всё же сказал:
– Знать – не знаю… Да только сдаётся мне, что мужиков тех подбил на клевету не иначе как боярин Акинфа Гаврилыч, «Ботря!»
Юрий чуть по лбу себя не стукнул – как же ему самому-то в голову не взошло?
«Ясное дело, Ботря!..»
Боярин Акинф Гаврилович Ботря, по прозванию Великий, пришёл на Москву недавно. И пришёл он как раз из Переяславля!
Давно уж боярин тот, как лисий хвост, по земле мечется! Сначала служил на Переяславле Дмитрию, затем Андрею усердствовал, потом снова Дмитрию, потом снова Андрею. Когда Андрей взял окончательный верх на братом, Акинф Гаврилыч оставил свою переяславскую вотчину, поплёлся за ним во Владимир. Поди рассчитывал, что великий князь за перемётное то усердие наградит его путным доходом. Ан Андрей, знать, невысоко оценил достоинства Акинфа Великого, а уж как укрылся на Городце, и вовсе не допустил до себя – на Городце-то и без Ботри от бояр тесно. Обиделся, что ли, боярин на великого князя – пришёл под руку младшего Александровича. Да ведь навряд ли лишь от одной обиды он на Москву перекинулся – чует, пёс, где власть скоро будет…
Имя боярина, вовремя подкинутое Иваном, жгло Юрия гневом, точно уголь держал в руке. Уголь из руки можно выкинуть, а от гнева-то как избавишься? Хотелось немедленно отыскать того Ботрю, ухватить за бороду, приволочь к отцу, чтоб покаялся. Да ведь боярин – просто так за бороду не ухватишь, нужно ещё доказать ту вину!
«Погоди! А почему Ботря-то? – опомнился в гневе Юрий, точно пелена спала с разума. – Ванька-то баял про моих местников, а Ботре-то я вроде дорогу не заступал ещё. Какое у него зло на меня?»
А Иван тихонько своё талдычит:
– Я ведь сведал, брат…
– Что?
– А кто из переяславских бояр с батюшкой за ту землю тягался, когда спор был из-за неё. Последний-то раз это было в те поры, когда Фёдор Ростиславич Чёрный накоротко в Переяславле вокняжился… – Иван умел говорить долго, занудливо, как пономарь.
– Ну, так кто? – нетерпеливо перебил его Юрий, дёрнув головой на сторону. Кабы батюшка увидел его в сей миг, он бы вновь огорчился: зело похож был Юрий на брата Андрея!
– Я же и говорю: Акинф Гаврилыч Ботря.
– Точно ты сведал?
– Точно, брат. – Иван улыбнулся. – Знать, он давно на ту землю глаз наметил. Вот и объезжает мужиков исподволь, уж не знаю, чего им сулит. Ан думает, коли те мужики под него заложатся, так батюшка ему и землю отдаст. – Иван коротко рассмеялся, будто прокашлялся. – На-кося, выкуси! Не для того, чай, у батюшки руки, чтоб от себя-то отпихивать, – повторил он отцовы слова, сказанные о поддубенцах. Знать, и правда подслушивал.
Юрий метнул взгляд в сторону большой княжеской горницы, и Иван, видно, по одному его взгляду понял намерение брата немедленно растолковать отцу боярскую каверзу.
– Погоди, Юрич, – предостерёг Иван. – То ещё доказать надо.
– Так ты ж вона как говоришь!
– Я-то говорю, что сам надумал… – веско возразил Иван, и Юрий понял, что коли дело не так обернётся, Иван от тех слов и открестится. – Для начала-то надо мужичков тех попытать: сами ли они на Москву прибежали аль всё же науськал их кто обнести тебя клеветой?
– Да не клевету они нанесли, – хмуро сознался Юрий.
– Не в том суть, – махнул Иван пухлой рукой. – Главное, чтоб они на Акинфа-то доказали.
Юрий даже с уважением взглянул на Ивана: и впрямь умён. Но и сомнение его царапнуло: уж не против ли его, Юрия, хитрит братка? Столкнёт их лбами с боярином, а у Акинфа Гаврилыча лоб тоже, чай, не из теста, а из кости – зря что ли его Великим-то кличут?
Юрий усмехнулся:
– Чтой-то ты брат на того боярина зуб навострил?
Иван тоже усмехнулся, но зло:
– А не нравится он мне, брат.
– Пошто?
– Не знаю. Но от великого князя так просто не бегают. – Иван взглянул на Юрия с прикидом: стоит ли говорить, и продолжил: – А может, он дядей-то к нам на Москву нарочно послан, с доглядом?
– Ну уж, – усомнился Юрий, – чай, боярин, а не шишига какой!
– Ладноть, – готовно согласился Иван, – я того тебе про Акинфа Гаврилыча не говорил. – И всё же не удержался, ещё мазнул боярина дёгтем – знать, отчего-то сильно он Ивану не нравился: – Больно уж жаден. Сам-то без трёх дней на Москве, а уж сети-то вона как далеко кидает.
«Эвона что!» – усмехнулся про себя Юрий и рассмеялся;
– Али боишься, что на Москве кто объявится жаднее тебя?
Скаредность Ивана сызмала служила поводом к насмешкам для тех, кто мог позволить себе посмеяться над княжеским сыном. Впрочем, и для всей Москвы то не тайна была. Мальцом ещё Иван бегал на конный двор – доглядывал за холопами, полной ли мерой они коников кормят? И просвирку, между прочим, про которую Юрий-то помянул, как-то в Божий праздник стянул из-под носа дьячка не в очередь. Да ведь не одну! Матушка-то глянула и обомлела: у Вани, которому было тогда лет шесть, полная пазуха теми просвирками набита.
– Пошто тебе, Ваня, просвирки-то? – спрашивает. А он говорит:
– В запас, матушка. Грехов-то много кругом.
– Ну дак что? При чём здесь грехи-то? Просвирки-то на что брал?
– А я как согрешу, так просвирку и скушаю с молитовкой. Боженька вспомнит меня и простит…
Долго тогда смеялись над Ваняткой: ишь, какой догадливый, на грехи да на прощение растёт. Потом уж про какого иного говорить стали, позабыв откуда то и пошло: согрешит и телом Христовым закусит…
Ну и много чего прочего подобного было, пока Иван не возрос. А уж как возрос, даже на жадность свою стал жаден: более того старался её никому не показывать, а даже, напротив, прикрывать видимой щедростью: то младшим братьям игруньку каку глиняную подарит, то нарочно от лакомого куска за общим столом откажется, да и нищих на паперти стал привечать: кому пирожок, кому яблочко…
Так умельцы резную деревянную ложку поверх блёстким лачком покрывают, да ещё по лаку красками травы пустят, цветы неземные, а как изотрётся та ложка зубами или поскоблишь её ножичком, так окажется под лаком все та же чистая липа.
Даниил Александрович, и сам бережливый до исступления, и тот изумлялся порой, глядя на второго своего сына. Хотя глядел словно в зеркало. И по внешности, да и по сути Иван был совершенно отцов сын! Те же жёсткие, всегда лосные, точно умащённые маслом волосы, взбегающие от низкого, но шишкастого лба, густые брови, сросшиеся над переносьем и нависающие над глазами будто для того, чтобы их скрыть. Хотя изжелта-карие глаза, что у сына, что у отца, и без того невелики – одинаково уклончивы от прямого взгляда на тех, с кем беседуют. Лицо пухлое, с хомячьими щеками, губы тонкие и жёсткий, чуть выпирающий вперёд подбородок. Правда, у отца подбородок укрыт густой бородой в седой проседи, а у сына покуда гол, как колено. И нестатен Иван ещё более, чем отец: низкоросл, хотя и коренаст, а всё же взял в плечах и уж теперь ясно, что чревом будет обилен.
Не Юрий. Не воин…
В Юрии Даниил любил то, чего был лишён сам: удаль, готовность к безрассудству, вечную жажду недосягаемого. Пять лет тому назад, вернувшись из Великого Новгорода, где проходил выучку в Антониевом монастыре, в редкую тихую минуту Юрий сказал Даниле:
– Я, батюшка, велик стану, подобно деду Александру Ярославичу. Всей душой извернусь, а достигну на Руси славы. Ты за меня вперёд не печалься.
Вон, что в мыслях его! Хотя пока до свершений тех далеко, все и свершения-то в одном лишь: немедленно получить, чего бы ни глянулось – хоть девку, хоть чужого коня…
Да, и то неплохо, глядя по тому, чего получить захочется. Дай-то Бог, сил ему на великое.
С Юрием все Даниилу ясно, а вот с Иваном, хоть и глядит он на него, как в зеркало – ничто не понятно. Понимает Даниил: с поразительной силой и схожестью вся суть его отразилась именно в Иване, однако слишком уж (да не по годам) загадлив, хитёр Иван, а главное, скрытен.
Даже он, отец, не ведает, что у него на душе? Чем живёт? Чего хочет? И спросить с Ивана не за что – в отличие от Юрия он никаких оплошек не допускает. Тих да ласков, ласков да тих… Любим, ох как любим, пожалуй, более даже, чем первенец, любим Даниилом Иван, ан до конца непонятен. То ли великий в нём грешник, то ли будущий князь, могущественный умом, то ли…
Да ведь и в себе-то самом до конца толком не разобраться!
«Кабы то, что собрано, после себя оставить-то на Ивана, тот уж точно не растрясёт, ни пяди не растеряет, да сумеет ли приумножить? Надобно, чтобы Иванов ум стал в опору Юрьевой удали – тогда бы и сила была. Вон что! Ведь братья, да Москва-то одна, поди поделить захотят, тогда ни Москвы, ни силы. Любовь, любовь – вон что надо им заповедовать, в любви – выгода!..»
О том и толковал сынам Даниил, и старшим, и младшим, в отцовских проповедях, не поминая собственных братьев, порушивших злобой кровное единство. Младшие покуда слушали с чистосердечной верой, и старшие словам не противились, вроде и жили в ладу, да все одно опасался Даниил Александрович, что лад этот видимый.
И не зря опасался. Редко возникали меж братьями такие душевные беседы, которая произошла ныне на пролётной теремной галерейке.
– Ладно, Ваня, коли прав будешь, так и я тебе чем отплачу, – сказал Юрий, сглаживая обидную шутку про Иванову жадность.
– Что ты, Юрич, – на мгновение вскинул усмешливые глаза Иван, – какая мне от тебя плата, кроме братней приязни.
Юрий повернулся, чтобы покинуть наконец душный терем, но Иван снова остановил его:
– Погоди ещё!
– Что?
– Ты, поди, мужиков тех поддубенских ловить кинешься?
– Так.
– Не ищи. Сведал я – вчера ещё они с Москвы съехали, как у батюшки побыли.
«Ну как не змий хитромудрый!» – про себя поразился Юрий.
– Так что ж, батюшка, сразу-то меня не позвал?
– А у батюшки иное сейчас на уме, – загадочно улыбнулся Иван.
«Нешто ещё что знает, чего я не ведаю? – внезапной обидой загорелся Юрий. – Кто старший-то – я или он?»
– Что?
Иван тут же переменился в лице – никакой тебе загадочки:
– Да мне-то почём знать, Юрич? Просто чую, что иное, а может так, блазнится. – Иван снял простофильскую улыбку с лица, отвёл глаза на оконницу, за которой все одно ничего было не разглядеть – так она была изукрашена морозным узором. И отвернувшись, глядя на тот узор, сказал: – Суд-то разве дело горячее?.. Нет, ты сейчас в Поддубенское не ходи. А мужиков тех и, главное, того Акинфа-боярина, что их на тебя науськал, держи впрок в голове, авось и сгодится когда…
– Ну ты мне советов-то не давай, – озлился Юрий. – Сам разберусь, куда мне идти, а куда нет.
– Да я ведь так только, по-братски, – обернулся от оконца Иван. И уж в спину Юрию добавил: – А всё-таки ты, Юрий, из Москвы ныне не уходи – а ну как батюшке будешь надобен…
– Батюшка меня с глаз прогнал, – зло кинул Юрий.