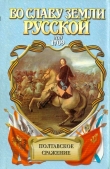Текст книги "След"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава вторая
Михаил Ярославич подступал к Москве не впервой. Первый раз он преклонил копьё под Москвой три года тому назад когда с ханской тамгой[65]65
Тамга – ханская печать.
[Закрыть] из Орды воротился.
Отнюдь не месть за побоище, учинённое москвичами Акинфовой рати под переяславскими стенами, повлекла великого князя. Хотя Тверь и взывала к мести – больно уж, сказывали свирепствовали победители над пленными, десятками топя их в Клещинском озере. Конечно, не хорошо лютовать-то, не по-людски, тем паче меж своими же, православными. Но и то сказать, никто ведь тех тверичей силком на Переяславль не тягал, сами отправились безобразничать, а война – дело не милосердное!
За то побоище Тверской как раз не столь Москву и Ивана судил, сколь теперь уже натурально безголового и наконец-то упокоенного Акинфа Ботрю. Для, Михаила Ярославича то, что боярин своевольно затеял если уж не войну, так кровавую безлепицу, было похлеще предательства. Но что ему? Мёртвые сраму не имут! А тот срам тенью не на кого иного, как на Михаила, упал.
Москвичи тем походом с толком воспользовались, понесли по земле: вот тебе, Русь, великий князь, коего выбрала, ещё и на великий стол не взошёл, а уж полки его города зорят, жён вдовят и детей сиротят. Того ли ждала?
А потом и ещё с три короба наплели: мол, оказывается Михаил, а не Юрий Русь в Орде продавал, за то и вышла ему ханская милость. Ить, коли выторговал ярлык у поганых, разве сам-то не опоганился? А Юрий-то, напротив, в том суде, мол, высок оказался, не смог поругания вынести, потому и уступил Михаилу, чуть ли не добровольно! Вон как обернули-то!
И не в том дело, что складная ложь, ложь-то всегда складней истины, но в том беда, что из-за тех сарайских торгов хоть и нечаянно, а ведь и правда принёс Михаил из Орды новые тяготы. Вот что мучило! И проку нет, что не по своим долгам платил, а по Юрьевым обещаниям. Однако же никому не объяснишь, не докажешь, что татары крепче Русь стиснули как раз по вине московского князя!
Да и есть ли народу дело, чтобы в суть вникать? Люди-то от Тверского иного ждали, как всегда они ждут иного от нового правителя! Да ведь и немногого хотят – чуть справедливости, Куть добра, ну хоть на самую малость правды… А главное, хоть вполусыто, но самим мирно жить, да детей не на войну родить. Вон что!
Аки песка, людей на Руси. И всяк со своим умом. Всяк со своей бедой. Как их объединить? Как доказать им, что ради извечно чаемого Добра, ради извечно искомой Правды, ради них, ради спасения и достойного возвеличения Русской земли и взошёл он на владимирский стол?
Но какое дело людям до Правды, до высших устремлений, Когда нужда за глотку берет. А ему, правителю, ту иудину полугривку с каждой живой души, как ни крутись, а в ханскую дань набавлять теперь надобно!
Вот за ту великую пакостность, за то мерзкое, непростимое предательство, что нуждой легло на всех и чёрной тенью пало на него, Михаила, а ещё, чтобы впредь никому не повадно было спорить с великим князем, и следовало наказать Юрия и Москву. Да и ещё грехов прибавилось!
Волей великого князя он мог бы собрать под свои знамёна всю Русь. С радостью бы откликнулась Низовская земля на тот зов, потому как уже и в ту пору было ей отчего досадовать на Москву, не по роду и не по чести кичливую. И Владимир, и Нижний поднялись бы, и Ярославль, и Кострома… Да ведь мог Михаил и татар с собой привести по былому великокняжескому обычаю. Тохта бы не отказал ему в помощи, но… Но для того он и встал над Русью, чтобы прервать тот паскудный обычай русские споры татарской силой решать. Нет, последнее напрочь было неприемлемо для Тверского, а значит, и говорить о том нечего.
– Но отчего же Русь не позвал?
По горячности поспешил ли? Посчитал не вправе в свои обиды иных мешать? Или подумал, что много для той Москвы станет чести, коли он против неё одной такую силу поднимет? Или заопасался, что эта могутная силища сокрушит Москву впыль, и заранее смилостивился?
Как знать?
Однако, так или иначе, Михаил Ярославич привёл к Москве лишь тверскую рать. Впрочем, по тем временам не было на Руси слаженней и мощней полков, чем тверские. Была б на то Михайлова воля, и их бы вполне хватило для того, чтобы на месте Москвы оставить голую пустошь да чёрные уголья.
(Как, к слову сказать, всего-то двадцать лет спустя поступил с Тверью тихий, «богобоязненный» князь Иван Данилович с щедрым да ласковым татарским прозвищем Калита! Уж он-то не пощадил Твери! Не по слову, а по стону древнего летописца: «Положил землю пусту! Расплескал Божью Чашу!..» Да какую чашу-то расплескал невозвратную! После того безбожного Иванова похода с татарами Тверь уж никогда не обрела ни прежней мощи, ни прежней духовной высоты, ни былого достоинства!
Впрочем, это уже иная история…)
От страха и бессилия рождается ненависть. Да ещё, знать, от зависти. Но то-то и оно, не было и не могло быть у Михаила Ярославича страха перед Москвой, а потому не было в нём и ненависти к ней. А уж поводов завидовать дремучей Москве у могучего Дома Всемилостивого Спаса (так тогда Тверь величали!) и вовсе не было. Тверь росла духом, храмами, воинской крепостью, книжной мудростью да торговым прибытком. Москва – хитростью, воровским присовокуплением соседних земель да лизоблюдством перед татарами. Чему тут завидовать? Даже смешно говорить о зависти. То отнюдь не для зависти, но, по крайней мере, для сожаления повод.
Так что не для захвата ступил Тверской под Москву – хотел бы, так захватил. И не для истребления! Было б иное в нём сердце – так истребил! Не поглядел бы на то (как не глядели до и после него многие «славные» на Руси), что над городом тут и там высятся купола православных церквей, в которых те же русские, на том же суть языке, словами тех же молитв просят того же Господа защитить их от огня и меча, но… не поглядел бы, так и не был бы он Михаилом! То-то и оно: не для крови грянул тогда Тверской, но лишь для того, чтобы урезонить Москву в её беспримерной гордыне, казать зарвавшегося племянника, «взять мир» и вразумить добро.
Да разве милостью вразумляют бессовестных?
* * *
Переговоров не вели. Да и не о чем было переговариваться, все и так было ясно, как Божий день. Так вот весь Божий день – или для того над землёю восходит солнце? – без жалости снова бились друг с другом русские.
Бились незатейливо, как в драке – стенка на стенку, грудь в грудь. Бились с таким душевным ожесточением, с такой кровавой удалью, на которые и способны лишь русские, когда они на своих же братьях, на таких же, как сами – русских, вымещают обиды и боль.
Эх, кабы это ожесточение, в самом деле, на врагов обратить! Па в том и несчастье, что своих-то не жалко, а чужих боязно. Перед теми же татарами ох как смущались тогда русские!
Что говорить, был гнев и в душе Михаила. Поди, если б встретил в бою племянника, так не дрогнул рукой. Но в бою! Вот уж истинно беда так беда – честным быть. На земле нашей грешной честь и всякому не в прибыток, а уж правителю-то и вовсе во вред. Тем более на Руси…
И напрасно, вселяя ужас в сердца москвичей, в алом княжьем плаще, на атласном, как лунная ночь, жеребце метался Михаил Ярославич среди битвы по полю, тщетно взывая:
«Юрий, где ты? Где ты, Юрий?»
Не отзывался Юрий. Потому что и не было его на том поле. Не прельщала его встреча с дядей. Чуял, пёс, вину и знал, что живым не останется. Начавши битву, теперь сидел он, затворившись в кремнике.
Кого молил о спасении?..
Силы были неравны. Не потому что тверичей было больше но потому, что в рубке они были и умелей, и злее; и правда была на их стороне, и досада за Переяславль требовала отмщения. А москвичам, кроме самих себя, и спасать было некого. Князь-то, которого они и сами не шибко жаловали, первый их кинул! Ну и дрогнули москвичи, тоже бросились к кремнику. Последней отошла за Неглинку все та же кованая рать Родиона Несторовича Квашни, знать, главная московская бронь.
Мог Михаил Ярославич на плечах отступавших ворваться в кремль. Мог поступить и иначе – да хоть обложить со всех сторон и поджечь. А мог и долговременную осаду наладить. Да все мог! Однако ж не довершил начатого. А коли не довершил, выходит, и не стремился к тому. Знать, посчитал наказание достаточным. Вот что!
Одного потребовал, чтобы Юрий вышел к нему на поклон.
Юрий-то, как узнал, сначала сильно закочевряжился. Кричал, ногами на бояр топал.
– Не пойду! Смерти моей хотите? Али не знаете: не за поклоном, за моей головой Михаил пришёл!
– Дак, видим, брат, что пришёл, – вздохнул Иван на Юрьевы сетования. – Что ж делать? Надо, знать, повиниться. – И добавил весомо: – А иначе пожгёт он Москву. Сила ныне на его стороне. – Но зато и утешил ласково: – А повинную голову, сказывают, меч не сечёт, да и Михайло-то Ярославич наипаче нам дядя…
По виновато-угрюмым, однако же непреклонным взглядам бояр, по Ивановой ласке понял Юрий, что лучше уж самому выйти за кремлёвские ворота, чем дожидаться, пока свои же под руки выведут. Ишь, как насупились! Уж не Ванька ли их и насупил?
– Ладно, со мной пойдёшь, – кивнул он брату.
– Знамо дело, пойду, – легко согласился тот, отметая подозрения в коварстве.
* * *
Встретились на полпути меж кремлём и тверским станом, невдалеке от Кучкова урочища. Москвичи шли к месту встречи понурые, уныло пыля сапогами. То Тверской потребовал: чтобы, как побеждённые, явились они к нему пешие. Среди Выборных в княжьей свите бояре, отцы святые, купцы, наивиднейшие горожане. Всего человек тридцать пять. Первым среди всех идёт князь Юрий Данилович. Вот человек разлепистый! Хоть и на поклон идёт, ан шествует победителем. Выряжен в красную камчатую разлетайку, из-под которой тускло поблескивает зерцало литой брони, на поясе – меч, пошто прицепил? – чтобы выше казаться, сапоги на подбое. Шаг Держит твёрдо…
Однако бел, как льняное крещенское полотно, кусает в бессильной злобе синие, помертвевшие губы. С таким-то лицом, с такими губами, кривыми от унижения, татей ведут на казнь. Они ещё презрительно оглядываются округ, но в душе уже готовы по-звериному завизжать от ужаса.
Михаил Ярославич, словно и тем подчёркивая свою силу, прибыл на место встречи в окружении всего лишь полутора десятка конников. Сам с коня не сошёл. Хмуро оглядел посольство, спросил:
– Так что, мужи московские, мир станем ладить или войну длить?
– Да разве ж мы с войной тебя звали? – Юрий поднял на великого князя глаза. Слова-то со взглядом не вяжутся.
В глазах страх и мольба: мол, отпусти подобру, в словах – дерзость. От страха и дерзость. Смешон, как петух, что топор клювом бьёт.
Как некогда в Тохтоевом дворце, так и ныне Михаил Ярославич был поражён прямо-таки зримым отсутствием княжеского достоинства в племяннике. Вновь изумила ничтожность московского владетеля, которая проявлялась даже в нелепом, неподобном для случая наряде, в этой бессмысленной дерзости. Вон руки-то ходуном ходят, с собой совладать не в силах, а туда же – Русь ему подавай! Да ведь не Русь нужна, а лишь бармы[66]66
Бармы - принадлежность парадного княжеского наряда.
[Закрыть] великокняжеские!
С кем ждал поля? Кого хотел убить? Да с таким биться – только себя срамить!
Но вновь удивился: откуда в этом князьке, скудном душой и умом, такое величие притязаний? Откуда такая неукротимая воля на зло? С проста ли?
Думал как-то Михаил Ярославич на возвратном пути из Сарая – долог путь, и всякая мысль взбредёт в голову! – уж не Иной ли кто свыше определяет Юрьевы устремления? Али Русь православная не лаком кус Искусителю? А здесь Юрий – молод, тщеславен! Да Бесу-то нечего и указывать на него, Бес и сам знает, рядом с кем ему в нужный миг оказаться надобно. Ну и подстерёг молодца, прошептал на ушко непутное! А что?..
Да несуразной мысль показалась: неужто так беден выбор у Сатаны, что в слуги себе берет он таких беспригодных?
И сейчас, глядя на московского князя, невольно усмехнулся Михаил Ярославич той странной догадке: да нет, каков он слуга Антихристов? Так, пустобрёх!..
И оборвал усмешку: он, с другой стороны поглядеть, как ни мелок, да сколь зла уже сумел нанести! И, видать, ещё не умерился!
– Так, что ты сказал? – с любопытством поглядел Михаил Ярославич на московского князя.
Юрий, не выдержав его взгляда, будто ища защиты, забегал глазами по сторонам. Да кто защитит? По всему было видно, даже среди своих бояр нет у него поддержки.
А всё же, то ли боясь честь уронить, то ли не в силах превозмочь гордыни, повторил в злом упрямстве:
– А и не звали тебя, сам пришёл!
Нет, выше Юрьевых сил было терпеть позор унижения! Причём терпеть тот позор на глазах брата, бояр, всех этих Вельяминовых, Афинеевых, Плещеевых, Бяконтов, Заболотских… Петьки Хвост-Босоволкова… на глазах попов и купцов, злоязыких людишек… да, считай, на глазах всей Москвы, с надеждой на мир высыпавшей на кремлёвский холм.
Тверской удивлённо поднял брови:
– Али я к тебе от пустой злобы пришёл? Али я в твоей земле ищу выгоды? Али не виноват ты предо мной? Али не звал ты меня, когда, забыв про старшинство, про честь, про законы, хулу на меня вознёс от Сарая до Великого Новгорода? – будто хлестал словами великий князь. Хлестал-спрашивал и на каждый вопрос ждал ответа. – Ну, отвечай!
Но Юрий, сам испугавшись собственной дерзости, теперь молчал, упёршись взглядом в землю, словно напроказившее дитё.
Страх и бессилие – вот что рождает ненависть. О, как невыносимо, как смертно невыносимо, на века непростимо в этот миг унижения ненавидел Юрий Тверского!
И знал о Том Михаил! Тайным предвестьем судьбы о многом знал и о многом догадывался. Но не властен он был над Юрьевой ненавистью. Ненависть сама по себе величина предостаточная, коли есть, так от чужого добра не уменьшится. Да ведь и так, считай, по головке гладил!
– Ну, отвечай!
Но что мог ответить Юрий?
Мол, да, я пред тобой, Михаил Ярославич, есть вор и паскудник. И перед Русью я – вор и паскудник. И даже перед Москвой я – паскудник, и более ничего! Так что ли?
Мечтать о славе, ждать власти, а кончить тем, чтобы пригодно признать себя всего лишь тем, кто ты есть? Разве не самое страшное вдруг прозреть, увидеть собственное ничтожество, да ещё и признаться в том! Возможно ли этакое? Впрочем, признаться в том, что злодей, – это нам ни в что, это, пожалуйста! Но в том, что просто обыкновенное дерьмецо, – никогда!
– Да отвечай же ты, сучий хвост!
– А ты меня, дядя, не лай! – волчьим взглядом зыркнул Юрий на Михаила.
– Нет, знать, ты и впрямь без вины! – Михаил Ярославич изумлённо покачал головой. – Выходит, и в том я виноват, что без твоей вины войной пришёл на тебя и вот люд московский гублю?
Он замолчал, потемнел лицом. Видно было, как трудно давалось ему решение. И все округ замерло в напряжённой тишине в ожидании этого решения, от которого зависела не одна лишь жалкая жизнь московского князя, но жизни многих сотен, а может быть, тысяч людей. Да разве стоила жизнь этого задиристого князька такой крови? Да, поди, стоила! Что делать, так уж от века повелось на земле, что за высшие негодяйства, то есть негодяйства высоких особ, всегда расплачиваются безвинные. И чем выше негодяйство, тем больше крови…
– Так не виновен ты предо мной? И пред людьми не виновен? И пред Господом нашим чист? – тихо спросил Тверской.
Юрий ненавистно взглянул на великого князя, бешено дёрнул шеей и вдруг как-то скоро, по-птичьи втянул голову в плечи. Так боятся не унизительного удара плети, так боятся не смертельного сабельного удара, так ждут разящей Небесной молнии – мгновенного Божьего наказания.
О, если б понял Тверской: КОМУ тогда на том поле в своей гордыне бросал вызов Юрий! А ить разве заглянешь в чужую душу!
А все ж грянул гром!
– Врёшь, Юрий, врёшь! – не крикнул, но так гневно, так громово произнёс Тверской, что конь под ним прянул. – Врёшь! По грехам твоим и чадь твоя стонет, и кровь льёт не во славу твою, а на позор и бесчестье! Нет безгрешных пред Господом! А кто безгрешен, тот и Господа не помнит в душе! Видит Бог: не хочу вражды на Руси! Но коли нет на мир воли, так ныне же возьму тебя и Москву твою на копьё! Сучий хвост ты и есть! – И Михаил тронул повод.
Вот с тем бы и развернуться! Без сомнений, куда меньше крови пролилось бы на Руси, если б действительно поднял тогда Михаил Юрия на копьё. Но в том и беда: трудно и великому человеку отличить послание Бога от послания Дьявола, притворившегося милосердным Господом.
Бог сказал: НАКАЖИ!
Дьявол сказал: ПОМИЛУЙ!
С непрощением, с гневом в сердце и надо было отъехать и вновь приступить к Москве! Ах, надо было, да выборные не дали, кинулись коню под ноги, загомонили в разноголосицу:
– Да что ж это? Не того хотим!..
– Не губи, Михаил Ярославич! Не от зла он, по юности горделив!
– Ты князь наш великий! Прости его и нас вместе с ним!
– Да экий ты, нераскаянный, Юрий Данилович! Ить, уговорились! Винись уж, коли виноват!..
– Винись!
А здесь, сломив шапку, из-за Юрьевой спины, бочком-бочком, да под самую морду Михайлова жеребца присунулся княжич Иван Данилович. Запел-закаялся, всплёскивая короткими толстыми ручками, молитвенно заламывая бесцветные бровки над бесцветными же увилистыми глазами:
– Да за что ж нам наказание такое? Согрешили перед тобой, беззаконничали, неправду творили! Однако по то и наказаны судом твоим! Виноваты перед тобой, Михаил Ярославич, ты нам как отец родной, истинно! Так прости детей неразумных… Сами-то лихо как сокрушаемся!
– Вижу, как сокрушаетесь! – чёрен лицом был Тверской. Сам раздирался надвое: и гневен без меры был, и кто-то будто удерживал за руку:
«Пошто кровь-то лить зря, чай, и у москвичей она русская. А ты ли не князь православный? Разве ты пришёл жизнь у них взять, а не мир им дать честный?»
И наново затеялся разговор уже с другим Даниловым сыном.
Иван, о котором Михаил Ярославич был изрядно наслышан, несмотря на неказистый вид – на нём и кафтан из лунского сукна висел рогожным мешком, показался ему куда значительней и уж, во всяком случае, куда благоразумнее старшего брата.
Говорил тишком, пришепётывая, с придыханьицем да при вздохе ещё и присвистывая, будто постоянно прихлёбывал влажным, слюнявым ртом. Не говорил, а обволакивал словесами, будто девку уламывал. Однако от той вкрадчивой проникновенности создавалось ощущение искренности раскаяния. Послушать, так любо-дорого!
Разумеется, понимал Михаил, что немного правды в тех увёртливых, покаянных словах, однако пока от Москвы не верного дружества, но законного послушания было ему достаточно. Не покорять он пришёл, чай, не татарин, но собирать под единый закон, под крепкую самодержавную руку, в коей одной лишь и было спасение Руси.
Знал Тверской: того, что задумал, скоро не совершишь. Поди, и жизни не хватит, да ещё сынам и внукам трудов останется, но сияла пред ним великая цель: могучая и высокая Русь, какой и подобно ей быть на этой Божией земле. Не та, что теперь. Не та!
Чужа Русь Москве, чужа Москва Руси, ан и без той Москвы Русь неполная, как и без всякого иного малого селеньица да усадища! И ни один град в пространной земле: ни Тверь, ни Рязань, ни Нижний и Ни Великий Новгород не могут быть врагами друг другу. Потому что не должно быть войны между русскими. Вот что недостижимой звездой сияло Тверскому!
– …Что ж ты, Иван Данилыч, все шепчешь-то? По словам вроде благ, да уж голос-то больно тих. Коли князем-то на Москве станешь, как людей-то за собой поведёшь?
Не надо было и глядеть, как Юрий передёрнулся от тех слов. Не больно тонок намёк!
Нарушить наследное право, согнать с Москвы Даниловичей Михаил Ярославич, конечно, не мог. (Да и не захотел бы пойти против закона, потому как в отличие от того же Юрия, бесправно поднявшегося на него, чтил закон!) Но вполне во власти великого князя было добиться у Тохты, чтобы он передал ханский ярлык на княжение от одного брата другому. Москва по-прежнему осталась бы вотчиной Данииловых сыновей, однако что бы в ней делал Юрий? Лис гонял в Гжели, коли Ванька позволит?
Юрий теперь стоял в стороне бледен и жалок. Сам не знал, чего сотворил: то смерти боялся, то дерзил, ради чести. А честь-то, кажись, все одно потерял! То и вовсе отважился! Ан вот оно, наказание-то, пришло, откуда не чаял! Вдруг, именно вдруг осознал, что не жизни, не чести может лишиться, но самого княжества! Вот сейчас, прямо сейчас, из-под ног выплывет, выплывет да и уплывёт в жадные руки брата. Вон как ему бояре послушны, вон как поддакивают, аки девки продажные!
А бояре и впрямь вслед за Иваном весьма охотно во всём признавали Михайлову правоту. Более того, кажется, были довольны и последними словами великого князя. Вон что, враз забыли Юрьевы милости!
О, пропасть была под ногами, пропасть! И над головой разверстая бездна без надежды на Господа, а внутри от самых кишок, от сердца до самой глотки чёрная, горячая, горькая, будто желчь, ненависть:
«Не будет, не будет тебе жизни, Михаил Ярославич, рядом со мной! Нет для двоих нам места на этой земле!»
– Так как людей за собой поведёшь?
– Дак лаской, батюшка, лаской. Люди-то крика не слышат, а тихому слову внимают…
– Да куда поведёшь-то? Не лукаво ли слово твоё? – пристально вглядывался Михаил Ярославич в Ивана, будто и впрямь определяя для себя, кто из братьев хуже, опаснее для него.
– А что нам лукавить перед тобой, великий князь! Истинно говорю… – зашелестел, зашуршал ветерком по сухому жнивью Иван, но Тверской взглядом оборвал его причитания на полуслове.
– Не у него, – не глядя, кивнул он в сторону Юрия, – у тебя спрашиваю! Ты пошто новгородцев смущаешь? Он-то ещё из Сарая прибежать не успел, а ты мне в Великом Новгороде уж пакостить начал! Не иначе церкви московские на Святую Софию променять надумал? Али тесно вам с братом-то в одном городе, так, что ли?
Возможно, сговор между Москвой и Великим Новгородом, что уже вовсю плёлся за спиной Твери, о котором, разумеется, успели донести великому князю, и был одной из причин, а может, и главной причиной, заставившей Тверского так поспешно двинуть полки к Москве.
Краска сползла с лица Иванова, пот по щекам заструился, до того он перепугался. Весь вид его говорил, насколько сражён, ошеломлён он осведомлённостью дяди.
– Ах, Господи, уличил, уличил, – потерянно забормотал он. Однако, судя по тому, что произошло дальше, Иван вполне был готов и к такому повороту беседы. Внезапно голос его окреп и возвысился до ликования: – Уличил, и истинно тем велик князь! – прямо-таки восторженно воскликнул он. – Уж и про то ведаешь! А значит, нет для тебя тайных замыслов ни в сердце моём, ни во всей Руси!
– Ты не виляй, говори!
– Знал, что спросишь о том, – горестно признался Иван и сокрушённо вздохнул. – Победил! И в том виноваты перед тобой.
– Ты меня-то не петляй! – поняв свою выгоду, враз открестился Юрий.
– Чай, все мы не без греха, батюшка, – продолжал вздыхать Иван, тем временем доставая из заплечной сумы некий свиток. – Вот та ущербная грамота! Однако истинно клянусь, не по злобе составлена, а токмо по недомыслию! По недомыслию токмо! Не ведали твоей правды, великий князь, оттого и творили непутное… – и с теми словами Иван порвал свиток и кинул обрывки под ноги Михайлову жеребцу.
На вид-то неловок и. мешковат, ан вон как прыток Иван Данилович: вроде как разом и повинился, и покаялся, и крест на верность поцеловал! Порвал досадную грамотку – и вся недолга! Да та ли грамотка-то была? Да что в ней было-то? Однако не подбирать же великому князю с земли рванину-то! Да и зачем напрасно обижать племянника недоверием…
А он-то, ишь, как юлой юлит!
– Да сам посуди, Михаил Ярославич, на что нам теперь тот Новгород? Да отныне-то нет у тебя более преданных, чем я да брат… – клялся Иван Данилович.
«Н-н-да, не прост Иван! Пожалуй, подлее Юрия! И то, не выход… Вот злое семя-то! Один хитёр да лукав, другой глуп да низок, и оба нужны друг дружке, и оба двуличны, как две стороны татарской деньги… Господи, не дай попущения злым да лукавым править над Русью!»
– Ну, а ты так и будешь молчать? В Сарае-то речевит был? – усмехнулся Михаил Ярославич, вновь обращаясь к Юрию.
А он, знать, уж и не ждал доброго!
– Винюсь в том, великий князь! – как сил ему достало на то, неизвестно, однако же совсем иначе взглянул и иначе ответил. Видать, тот, кто упас, и смирение в уста вложил!
– Или все ещё бармы примериваешь?
– И в том винюсь, великий князь! Ослеплён был! Теперь |вижу: не по плечам!
– Мало мне того! – жёстко сказал Тверской.
– Чего ещё? – вскинулся испуганным взглядом Юрий.
– Мне в твоей вине проку нет! Потому как не может мне и сраму быть от тебя! – И пояснил: – Я не одной лишь ханской тамгой, но благословением Святого Духа великий князь владимирский и тверской!
Так он это произнёс, просто и в то же время значительно, что кабы были средь слышавших сомневающиеся в его праве на власть, так и они бы уверились. Да ведь никто в том праве не сомневался. Даже Юрий, даже Иван не сомневались, оттого и безумствовали в бесовской зависти!
А Михаил Ярославич и ещё добавил столь же просто и веско, добавил, доселе не слышанное:
– Помазанием Божиим я – Всея Руси князь великий!
Он помолчал. Молчали и все, как молчат в светлый и торжественный миг, когда и дыхание многих покажется вдруг единым. Однако же лишь покажется, потому что и в единении дышим-то всяк по-своему, кто чисто, кто смрадно…
– Ты услышал меня, Юрий?
– Услышал, великий князь, – точно песок зубами толок, откликнулся тот.
Михаил Ярославич усмехнулся:
– А боле не ослепляйся! И впредь не пытайся порушить законного столонаследия – беда оттого всей земле! Слышишь Юрий, я знаю!
– Слышу!
– И ещё говорю тебе, Юрий: не сей рознь. Единой Христовой веры держимся. Так и власть должна быть на Руси едина. Лишь тогда и возвысимся, когда станем нерушимы в единстве веры и власти, слышишь ты, Юрий?
– Слышу!
– Хочу Русь единой волей крепить, не своего возвышения ради, а ради Отчизны! – Михаил Ярославич замолчал, будто тяжко стало напрасные слова говорить. А всё же добавил: – Так не будь мне врагом, Юрий Данилович, а стань мне помощником.
– В воле твоей, великий князь, – без дыхания, одними губами вымолвил Юрий.
– Не слышу!
– Да! Да! Так! Отныне твой сыновец! По праву ты вокняжен над нами! Ты старший, ты! Да, князь великий, да! – чуть не плача от досады и злости и в то же время в каком-то жутком и радостном исступлении выкрикнул Юрий.
А в голове, будто молот о наковальню, стучало лишь одно слово: «Спасён! Спасён!..» Земля возвращалась под ноги. И крепче тискали её Юрьевы каблуки.
Долго длилось молчание. Лишь кони тверичей в сгустившейся, словно сумерки, тишине глухо переступали копытами да звякали ненароком железами.
– Ладно, Юрий, – наконец произнёс Михаил Ярославич. – Хочу тебе верить… Я на твою отчину и имение не зарюсь. Живи, как все мы живём, – Божией милостью… Но только помни, Юрий, – даже не пригрозил, а будто бы попросил, – коли в другой раз заставишь прийти, так я приду, но больше уж не прощу.
Вот и все вразумление.
Ох, Господи! Да зачем же на другой-то раз откладывать было о, что надлежало исполнить незамедлительно!
Ну почему, почему не отсек тогда Михаил птичью клювастую голову? Духу не хватило честный меч опозорить родственной кровью? Да ведь не частный вопрос решал! Ведь Юрий не только на Михаила поднялся, но на всю русскую жизнь, и не на один лишь древний её устав, но на самое её будущее! Вот ведь что!
Да разве ж не сказано: помышляющим на престол не по Божию благоволению и дерзающим на измену – АНАФЕМА!
Но посчитал, что злом одно лишь зло воцарит и от того не будет добра. И остался великодушен Тверской.
А много ли стоит великодушие на Руси? Сами-то посчитайте!
Разве управишься с Русью великодушием?
Если, скажем, будешь ты лжив, правитель, и глуп, тебя не осудят. Мало ли лживых и глупых правителей? Но если при этом проявишь зверство, так можешь не сомневаться – все простится тебе и все твои глупости найдут оправдание. А если зверство проявишь великое, так после тебя ещё и возвеличат в веках. Скажут, а иначе, мол, он и не мог. Мол, нельзя было иначе! Но вот если проявишь великодушие, так тебе его не простят. Не в силу, но в слабость зачтут. Как же, скажут, мог убить, так почему ж не убил? Ведь ты же правитель! А уж те, кого ты пощадил, не сомневайся, тут же заново тебя предадут и оплюют, и надсмеются над твоим же великодушием, ибо… ибо люди. От века враждуем и ненавидим, грызём и кусаем друг друга!
Правитель не может быть слабым. Правитель не должен быть слабым. Но ведь не слаб же был Михаил! Отчего пощадил? Нет ответа.
А может быть, в самом деле, того и хотел достичь Тверской на Руси, чтобы царствовать в ней Законом, а не страхом и кровью.
Того хотел. Ан, видать, не по времени…