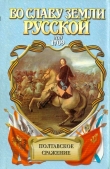Текст книги "След"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Глава шестая
Коломна встретила москвичей открытыми ворогами и пустыми улицами. Однако видно было, что город жив – там-сям курились дымки над избами, тявкали собачонки за заборами. Жители не покинули город, лишь затворились в своих дворах. Чего ждали, сами не, ведали – то ли московской леготы, упорный слушок о которой давно уж тайно смущал коломенские умы, то ли огня и меча? У Господа молили милости, но в душе по русской привычке были готовы к худшему. Да и чего иного им, беззащитным, было ждать от московского князя, с войском вступившего в исконные рязанские земли?
А о сопротивлении не могло быть и речи накануне московского вторжения княжич Василий с дружиной и коломенскими боярами покинул город. Так что коломенцам оставалось лишь уповать на Господа да сквозь дырья в заборах с опаской глядеть на московскую рать. Впрочем, по мере того как вражье войско чинно, без безобразий проследовало через загородье, опять же без убийств и насилия заняло детинец[47]47
Детинец - укреплённая часть внутри города, кремль, где жили дети и отроки.
[Закрыть], опаска развеялась, как дым без огня. Знать, не зря говорили умные-то люди о добром, богоугодном ндраве московского князя! Первыми за воротины отважились шагнуть седобородые коломенские деды.
– С чем пожаловали, московские люди, с добром или лихом?
– Поди, с добром, – хмуро отвечали недовольные ратники, покамест сильно разочарованные походом.
Дело в том, что Даниил Александрович строго-настрого наказал не зорить ни сел коломенских, ни саму Коломну не грабить!
То было странно – на что ж тогда и война? Юрий тоже хмурился и недоумевал:
«Чего боится? Абы худого про него не сказали, что ли? Пошто ж тогда и ратиться затеял? Али думает милостью боле примыслит?»
Нет, не нравилась Юрию такая война! Если в своих-то землях он на потешку, случалось, вёл себя, аки завоеватель, так уж, ступив в чужие пределы, трудно ему было себя сдержать. Однако же сдерживал, перечить батюшке даже и не пытался. То была его, батюшкина, война – хитрая, загадливая. На века…
А Даниил как жил сторожко, так и воевал с оглядкой. Пока все шло, как и было умыcленно. Но уже на другой день сердце Даниила Александровича дрогнуло.
Из Коломны вышли в раннее утро.
Дорога на Рязань была наезжена до визга санных полозьев о ледовую кромку. Шли ходко. И вот в тот же день, ещё до захода декабрьского солнца, незадолго до Переяславля-Рязанского, в широкой окской излуке, на высоком её берегу внезапно открылся глазам Даниила стан Константина. То было зрелище, способное смутить душу и более опытного и отважного воина, нежели чем такого, каким был домоседный московский князь. Божьи хоругви, княжьи стяги, татарские ярлыки багряными, синими, золотыми цветами вознеслись на высоких древках над берегом. Пламя бессчётных костров лизало морозный воздух; у каждого кострища свой курень, то бишь круг, а в том кругу не менее десятка воинов. Да ведь и воины-то – не чета москвичам!
Издревле Рязань щитом для Руси стояла, поди в кровь и плоть вошла привычка биться и помирать, коли надо. А на Москве кому ж помирать охота?
Да ещё отдельным скопом хвостатые татарские бунчуки – сколь их? А сколь бы ни было – ведь не в загаде Даниила силой с татарами мериться!
Неужели соврал Аль-Буга, неверная рожа? Неужели перехитрил? Неужели его, Даниила, вместо рязанского князя подставил под ханский гнев. Ладно рязанцы, коли и побьют, так тем паче мстить за обиду не будут – к весне похристосуемся, а вот как на татар-то руку поднять?
Даниил соскочил с возка, припадая на битую ногу, пошёл в сторону от пути. За ним, кто спешившись, кто выскочив из жарких возков, кинулись ближние бояре, окольные. Юрий на сей раз оказался рядом с отцом. Шёл шаг в шаг позади.
Наконец Даниил Александрович остановился, подождал, пока стихнут шаги за спиной, и обернулся. Никогда ещё Юрий не видел такого растерянного, такого жалкого, искажённого страхом и злобой отцова лица.
– Ну дак куда пришли-то? Откуль Константин таку прорву собрал? Откуль вызнал? – вроде бы ни на кого и не глядя, но всех доставая колючим взглядом, спросил князь тихо и хрипло.
– Так ведь Василий с боярами встречь отцу побежал, – пожал плечами Фёдор Бяконт. Неуютно ему было ныне рядом с князем, ведь это он уверял, что никак не поспеет Константин собрать для отпора силу.
– А как теперь твои коломенцы слово не сдержат? – спросил князь.
– Вот тебе моя голова, – вздохнул Бяконт.
– Мне твоя голова без надобы! – неожиданно по-бабьи, визгливо закричал Даниил Александрович. – Ты мне иное жулил!
– Все в воле Божьей…
– А-а-а-а! – досадливо махнул князь и, не глядя в лицо, кивнул Аль-Буге. – Лисьих шапок-то к Константину ветром надуло?
Аль-Буга, и сам не ждавший встретить столь значительное кисло своих соплеменников на стороне противника, участь которого вроде бы была заранее предопределена, сделал надменное, обиженное лицо: мол, не моё это дело, переменчива милость хана и коли сам ты, князь, не угодил хану, так на себя |и пеняй.
– Чего молчишь, татарин, – взъярился Даниил. – Аль не ты говорил, что Константин прогневил Тохну?
Лишь теперь Юрий, да и многие другие из самых ближних бояр, вдруг оказавшиеся свидетелями этого разговора, проникали в смысл задуманного и суть того, что произошло на самом деле.
Измена ли опередила москвичей, хан ли сыграл с ними хитрую, злую шутку, сам ли Константин заранее обезопасился, а дело-то было худо!
Да ведь и не поверишь на глазах у рязанцев, они уж и так, поди, на своём холме от смеха лопаются, глядючи на худую Московскую ратишку, вялым длинным червём растянувшуюся на окском льду Это в Москве да в пустой Коломне, пока рядом не оказалась другая сила, московская рать была рать, а теперь выходило, как глянешь на высокий обрывистый берег, где скопилась рязанская мощь, на ту рать с горы…
Всё это понимали, а потому и угрюмо молчали.
– Не отвороти, батюшка! – вдруг не сказал, а жарко выдохнул Юрий.
Он сам не понял, как его вперёд выперло, только не мог он сдержаться! От одной мысли, что здесь, перед рязанцами, отец может бесславьем покрыть себя, а значит, тень того бесславья падёт и на него, Юрия, тошно стало ему. На Руси худая-то слава долгая!
«Кой Юрий? Это того Данилы сын, что от рязанцев побег?..» О, нет! Как с таким клеймищем дальше-то жить?!
– Не отвороти, батюшка! С нами Бог, верую! – выкрикнул Юрий.
Опять же, сам он не понял, как те слова на язык подвернулись. Впрочем, конечно же, знал Юрий о батюшкином благочестии, потому и помянул Господа в нужный миг. Бог-то ведь безответен. До поры безответен.
Даниил Александрович долго, пристально поглядел на сына. Что увидел – неведомо? Проник ли в мысли его? Но будто ношу тяжкую сбросил.
И впрямь, не ради ли сынов и грядущей славы московской затеял он этот поход? Не у Господа ли путь отмолил? Или не верит он Господу своему?
– Ан как ни будет, Данила Ляксандрыч, поздно нам с пути ворочаться, – неожиданно поддержал Юрия степенный и осторожный тысяцкий Вельяминов. – Война-то для люда московского внове. Люд и так на эту войну не больно-то в охотку поднялся. Так чего боюсь боле: в другой раз к нам беда под ворота придёт – не откликнутся слободы. А здесь, коли уж не победой, так кровью пуще сплотимся.
– Поставь в чело меня, батюшка! Истинно не посрамлю! – воскликнул Юрий, будто бы дело о битве было уже решено.
Даниил Александрович усмешливо поглядел на сына:
– Гляди чело-то не расшиби…
А уж с горы, не больно-то опасаясь московских стрел, скатилась ватажка отборных рязанских срамословников. Задирая зипуны, казали москвичам задницы, кричали всякое непотребство, спрашивали:
– Эй, москвичи, верёвки-то с собой прихватили?
– Которы верёвки-то?
– А которыми мы завтрева вас вязать будем! Ха! Однако короток зимний день.
* * *
А наутро грянула битва. Бились не затейно – лоб в лоб. Рязанцы, видать, были уверены, что легко сомнут москвичей. Чело их войска составляла тысяча изрядных пешцев-копейщиков, они и двинулись первыми. За двойным гребнем ощетинившейся копьями живой стены укрывались лучники, а уж за ними лавой готовы были скатиться на снежное поле рязанские и татарские конные.
Протасий Вельяминов, которому Даниил Александрович отдал волю воеводить, напереди поставил безлошадных слобожан да мужиков из окрестных московских сел.
Вроде бы густы ряды ратников, да нет в них ещё строгого воинского единообразия: кто с длинным копьём, кто с короткой сулицей, кто с топорами на длинных рукоятях, а кто и с рогатиной. Вместо кольчуг толстые, часто простёганные войлочные, а то и суконные тегишеи. Длинные узкие щиты обиты полосами железа. Кто побогаче – в клёпаных шеломах, кто победнее – просто в шапках. Правда, и шапки крест-накрет покрыты нашитыми полосками жести. От прямого удара, конечно, такая шапка голову не убережёт, однако же все лучше, чем простоволосу быть. Кое у кого из-под тегилей[48]48
Тегиляй – кафтан со стоячим воротом и короткими рукавами.
[Закрыть] торчат долгие подолы посконных рубах.
Глядя на жёсткую, уверенную поступь рязанских копейщиков, плотнее сбиваются москвичи, стягивают рукавицы, затыкают за пояса, поплёвывают в ладони, как перед дракой. Бечь то им некуда. Позади них в кованых кольчугах конные боярские дружины, Юрьева сотня.
Конечно, Даниил Александрович не поставил княжича биться в челе войска. Несподручно княжичу пешим биться. Да и Юрий о том боле не поминал. Протасий Вельяминов, разбив конную дружину на два рукава, поручил Юрию вывести свой рукав в нужный миг. А когда тот миг наступит, мол, лишь ему, Протасию, ведомо.
Эх, кабы не наказ батюшки слушаться боярина Вельяминова, так Юрий сейчас бы гикнул, вырвался ветром из-за спин пешцев да и взрезал бы, разметал на стороны рязанского «ежа»!
Лихо в сердце и знобко! Не терпится Юрию стакнуться в схватке. Не столько зла в сердце много, сколько удали и жажды славы! И жеребец под ним горячий, звенит серебряной обрядыо, кидает с губ жёлтую пену. Одно скверно: дорогая зерцальная броня, шлем княжий с высоким шишаком, которые ещё загодя он на войну заготовил, в Москве остались. Пришлось довольствоваться тем, что боярин Плещеев для него в обоз сунул – пластинчатой кольчугой московской ковки. И то, как ещё догадался старик, что сгодится!
Нет, зерцальная-то броня куда бы более его личила, чай, не раз он её на Москве примеривал! Да ведь вон как несуразисто вышло! Не его война – батюшкина…
А Даниил Александрович, от заутрени благословив войско, не из опаски, а по внезапной сердечной хвори остался в стане. Да и, честно признаться, хоть и Невского он сын, а не его это было дело – полки водить. Сейчас в просторном шатре из бычьих шкур он стоял на коленях перед походной иконой Спасителя, молил о Москве.
Вот уж верно сказывают: загад не бывает богат. Кажется, все продумал, предусмотрел, а не по его загаду складывалось! Однако знал Данила, сколь изменчива бывает судьба, и, пока окончательно не решилось дело, не гасил лампадку надежды в душе и истово бил поклоны:
«Господи, помоги!..»
А на высоком берегу в тот же миг князь Константин Романович столь же истово просил заступы для Рязани все у того же Господа.
И тот, и этот град православный. И здесь, и там колокола одну славу бьют. И здесь, и там одни кресты в небеса возносятся, так к кому же Господь более милостив?
Или нет ему дела до нас, неразумных?
А над заснеженным полем, где вот-вот должны были столкнуться русские с русскими, где вот-вот должна была пролиться и жарко смешаться в братоубийственной рубке единая кровь, будто луна над ночью, висела звонкая и напряжённая, как тетива, тишина.
– А-а-а-а-а-а-а-а!!! – дико разнёсся над полем тысячеголосый крик.
Не снеся невыразимого томительного ожидания, от которого так зыбко и холодно сосёт и ноет где-то «под ложечкой», навстречу гранёным рязанским копьям плотной стеной кинулись московские пешцы. И трёх стрел не успели выпустить лучники.
– А-а-а-а!.. – И захлебнулся крик.
Столкнулись. И каждый стал сам за себя. Потому что хоть ты и в строю на войне, и рядом плечо соседа, ан каждый умирает-то всё равно в одиночку.
* * *
Нечего и говорить, всякая война отвратительна по сути. Потому как суть всякой войны – убийство; кто боле убил, тот и прав. Хотя и принято делить войны на праведные и неправедные. Но подноготная-то войны всегда одинакова: завоевать, покорить, ограбить, отнять и прочее в том же духе, какими бы красивыми словами и высокими целями ни оправдывалась война.
Покорить чужой народ, завоевать чужую землю – так это ещё куда ни шло, так уж исстари повелось во всём мире. Зависть-то, видать, прежде нас родилась. Но воевать меж своими, веками, на потеху иным народам, лить братскую кровь – что может быть страшнее, бессмысленней и омерзительней? А ведь лили и как лили-то! Да ужас в том, что и по сей день живём не по-братски, во всякий миг по поводу и без повода Между собой готовы встать на ножи.
Эх, русские, так и не научились жалеть друг друга. Когда же научимся? Какой крови нам ещё надо? Но это лишь к горькому слову…
Трудно нам представить прошлые битвы. И ужаснуться им. После того, что нам известно о смерти, не напугает нас удалец с булавой. Булавой-то махать и честнее, и милосердней. Коли одним ударом раскроил череп – и хорошо, враз человек отмучился. Но в прошлых битвах была особенная, обоюдно звериная жестокость рукопашной.
Да ведь беда ещё в том, что живуч человек! Не сразу его и убьёшь. Порой в клочки раскромсаешь, а он все глядит на тебя тусклыми зенками: не знаешь о чём просит. Кишки на копьё намотаешь, а он все тянется тебя топором достать! Руку отрубишь, от плеча срубленная летит рука в снег, а пальцы-то на той руке в кулак сжимаются, гребут в горсть снег. Али в двуперстие вытянутся: себя ли благословил в последний Путь, тебя ли простил. Да неколи думать о том, дальше надо рубить. А чуть засмотрелся, задумался, так рядом и лёг. Хорошо, коли мёртвый. Потому как иная рана жесточе смерти покажется!
Оружьишко тяжкое, шипастое, вострое, раны от него широкие: резаные, колотые, битые. На одного мёртвого два десятка увечных. А все жить хотят! Падают под ноги, цепляются крючьями холодеющих пальцев, воют смертным, последним воем! Боятся, не хотят сами-то помирать.
А иные, напротив, хрипят, пуская с губ розовые пузыри:
– Приколи, родной, приколи! – Хватают, тянут в себя чужие мечи. И уже все одно им – чей тот меч, московский или рязанский.
– Христом Богом прошу, приколи!
Хруст костей, лязг железа, хлёсткий свист разящих ударов, глохнущий в мягкой, податливой плоти…
Да ведь всё это не в миг, всё это длится и длится, порой от утренней зари до вечерней, пока не от ран, так от усталости с ног не повалятся.
Смерть, кровь, вопли, стоны… Война.
Лют человек на кровь. Хуже дикого зверя, который себе подобного не грызёт до смерти.
Эх, мы – русские, русские!
* * *
Из ложбины, где располагалась в готовности Юрьева сборная дружина, невозможно было оценить то, что происходило на поле боя. Юрий лишь видел, как с взгорка ступали все новые и новые ряды рязанцев. Что там, как там? Держатся ли ещё москвичи? Сколь их осталось? И когда же Протасий даст знак вступить в бой? Да и жив ли Протасий, коли знака не подаёт?
Время текло томительно. Ясное поутру морозное небо затянули низкие свинцовые тучи. Дружинники, не давая мёрзнуть коням, вываживали их, ближние тревожно и коротко взглядывали на княжича: сколь нам ещё отсиживаться?
Да Юрий и сам дёргался! Судя по неиссякаемой мощи рязанских пешцев, что скатывались с горы, немного им надобно было времени, чтобы добить Большой московский полк, собранный из крестьян и ремесленников. Удивительно, что до сих пор они бились, стояли насмерть, а не побежали. Время-то уж перевалило на полдень. А ведь ещё не вступали в бой ни рязанская конница, ни татары!
«Что делать? Как быть? Дождаться, пока сами рязанцы хлынут в ложбину, встретить их грудь в грудь – это дело одно, и это в конце концов никуда не уйдёт, так, видно, и будет. Но какой же тогда прок от силы боярских дружин, ведь на кой-то ляд разбил их Протасий на два рукава? А ежели хлынуть двумя рукавами в тыл рязанцев? Поди, пока передние, москвичей дорубливают, задние-то ни развернуться, ни очухаться не успеют! А коли так-то?..»
Юрий вскочил на коня, погнал через ложбину, к редкой, прозрачной по зимнему времени берёзовой рощице, где в таком же мучительном ожидании маялся большой боярин Акинф Ботрин, поставленный Вельяминовым начальником над другим рукавом.
Акинф Гаврилыч, завидя княжича, пешим побежал ему встречь.
– Что, княжич, али знак Протасий прислал?
– Нету знака, боярин! – зло крикнул Юрий. – А я вот что тебе велю: давай-ка махом со спины зайдём к рязанцам, подсобим слобожанам, а то, я чую, сомнут их на смерть.
Акинф Гаврилыч исподлобья взглянул на княжича, тронул рукой заиндевелую у рта бороду и с сомнением покачал головой:
– Коли Протасий вести не посылает, так, выходит, покуда стоят, родимые. Знать, ещё не приспело нам время лезть на рожон.
– На ро-ож-о-о-н! – сузив глаза, презрительно протянул Юрий. – Али, боярин, до ночи надеешься в кустах отсидеться?
Упрёк был напрасен. Акинф Великий и сам отличался непомерной горячностью нрава. Ему самому-то ох как не по душе было это засадное «сидение в кустах». И его давно уж подмывало ослушаться строгого наказа тысяцкого и двинуть свою тысячу всадников на выручку пешцам. Однако же он понимал, что Протасий неспроста не пускает их в бой, выжидает решительного мига, может быть того, когда князь Константин пустит вперёд свою конницу.
– Ты меня трусом-то не чести! – едва сдерживая гнев, сказал боярин. – Меня Данила Лександрыч под начало тысяцкого поставил. Он мне ныне и указчик, а не ты!
– Знать, не пойдёшь?
– Не пойду, – покачал головой Акинф. – И тебе, княжич, говорю: не делай худа!
– Молчи!
Однако боярин докончил с усмешкой:
– День большой, чать, и мы с тобой, княжич, успеем ещё отличиться!
В точку попал Акинф Гаврилыч.
Слишком долго и страстно мечтал юный Юрий о войне, о воинской доблести, о славе и ратных подвигах, достойных великого деда, чтобы ныне, в день первой битвы, холодно и расчётливо выжидать, когда позовёт его тысяцкий вступить в бой. Жуткий шум сечи, доносившийся до ложбины, не столько тревожил его, сколь задорил. Не то мучило, что рядом гибла московская чадь, а что сам он стоит в стороне от этой гибельной сечи. Боле всего ему несносно то, что вот уж полдня миновало, а он лишь тем и отличился, что у всех на виду сопли об земь обивал!
Коли рязанцы верх возьмут, что скажут люди: «Юрий-то только по Москве летает соколом!» А коли москвичи выстоят, разве опять же не его попрекнут: «Что ж ты не поспешал на выручку, когда мы кровью-то умывались?»
Батюшка к битве непричастен, да и не посмеет его никто и ни в чём обвинить. Как бы ни вышло, а все скажут люди: знать, так Бог повелел.
Коли хитрый Протасий Вельяминов (и то предполагал Юрий) решил сдать битву рязанцам кровью одних лишь смердов и слобожан, так и в том ему выгода: мол, в том положении, в котором мы оказались, при явно превосходящих числом рязанцах надо было сдержать их натиск да с достоинством идти после на мировую. Зато боярские-то дружины остались в сохранности. Поди, бояре за то Протасию благодарностей нанесут!
А что ж он, Юрий, видел все, да не встрял! Дед его малым числом немцев бил! Брат отцов Дмитрий ни перед коим врагом меча не опускал! Так разве в жилах Юрия иная кровь?
Кроме того, мнилось Юрию, что под рукой у него такая собрана силища, что коли вовремя да отважно в бой её повести, так она и одна решит исход битвы. А коли и не решит, так авось заставит чуток охолонуть рязанцев, а то вон они вновь с горы, как муравьи, побежали.
А Акинф Гаврилыч явно насмешничал: «Успеешь ещё отличиться-то!»
Однако ж надо было так ответить боярину, чтобы запомнилось!
– Не отличиться спешу, боярин, людям московским спешу на выручку! – крикнул Юрий. Жаль, рядом-то не было никого! И уже тише прибавил: – А тебе, Акинф Гаврилыч, и это припомню!
– Что ещё? – усмехнулся Акинф.
Юрьев жеребец, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, напирал на Ботрю. Юрий жеребца лишь чуть сдерживал, так что Акинф был вынужден пятиться перед конской мордой.
– Али не знаешь? – склонившись с седла, зло выдохнул Юрий. – Али не ты к батюшке поддубенских мужиков с ябедой на меня наслал?
– Эка ты, Юрий Данилыч, о чём помянул!. – удивился боярин и покачал головой: – Твоя забава, моя забота! Да, ить дело-то прошлое! Нам с тобой ныне рука об руку биться, а ты обиды пестуешь! Не ладно то, княжич!
– Ладить-то после будем! – пригрозил Юрий.
Он резко дёрнул узду, вздыбил коня и, развернувшись, помчался прочь.
Юрий видел, как от рязанцев с прибрежного холма уже не чинным строем, а вразброд сбегали, видать, последние остатки пешцев. Он рассчитал, что со своими конными войдёт им в спину как раз тогда, когда они вломятся в поди уж шаткую, обессиленную стену москвичей. С двух стороц они враз искрошат рязанцев, сколько б их ни было, а коли Константин кинет наконец свою конницу, так будет время, чтобы успеть развернуться и принять её в лоб.
На скаку он просунул руку в ремённую петлю паворзня[49]49
Паворзень - шнурок, кожаный ремешок; застежка под подбородком, которой шлем прикреплялся к голове.
[Закрыть], накрепко стянул петлю на стальных наручах[50]50
Наручи – налокотники, часть латных доспехов.
[Закрыть], потянул из поножен длинный тяжкий меч. Сердце, так долго томившееся в груди ожиданием подвига, как ледяной водой из ушата окатило знобким холодом:
«Верно ли делаю? Верно ли?»
Но не было уже в сердце места сомнениям, и сердце, в жуткой гибельной радости трепыхнувшись в груди, будто ответило:
«Верно!»
– Бей! Бей! – неожиданно сорвавшимся на петушиный крик голосом закричал Юрий и, лишь краем глаза ухватив, как всполошились от его крика дружинники, не оглядываясь, не придерживая коня, полетел вперёд.
А сзади его уже нагонял и точно подхлёстывал ответный злой и радостный крик застоявшихся дружинников, успевших за это долгое морозное утро накопить в душах обиду и ярость на упрямых рязанцев, не схотевших добром отдать москвичам свои земли.
Да ведь и не важно, на что обидеться, драться-то меж собой мы можем и безо всякой обиды. Хотя и обиды в русской душе всегда с избытком. Так что главное, было бы кому первому прокричать: «Бе-е-е-е-е-й!»
Юрьевы боярчата, да и прочие дружинники, оказавшись позади, изо всех сил нахлёстывали лошадей, чтобы догнать княжича. Впрочем, и Юрий, разумеется, не настолько был безрассуден, чтобы в одиночку врезаться в тыл рязанцам. Когда огромная, более чем в тысячу лошадей Юрьева дружина тронулась за своим вожаком, вытянувшись в дугу, он придержал коня, дождался, когда рядом с ним оказались окольные: Федька Мина, Андрюха Конобей, Редегин, Гуслень, Аминь – словом, его верная сотня.
Взлетели на пригорок, пошли на рысях в обход побоища. Издали все увиделось, как и предполагалось. Поле, точно огромное выжженное кострище, курилось жарким паром и кровью, снег был тёмен от павших, рязанцы давили, жалкая, выбитая узкая и неровная линия москвичей, оставшихся от Большого полка, в последнем отчаянном усилии держалась под самым взгорком.
– Выручай! – крикнул Юрий, и верное слово разнеслось от конного к конному.
– Выручай!!! – взметнулось над полем.
Ещё какое-то время понадобилось, чтобы плотной дугой охватить рязанцев, и уж наверняка на победу двинулась Юрьева рать на растерявшихся рязанских пешцев, которые спешно пытались оборотить копья. Да ведь видом летящей помощи ободрились и москвичи. Они уж не чаяли не то чтобы устоять, а и выжить, а тут, будто глас Небесный раздался: выручай!
– Выручай, братки! – откликнулись москвичи и с новой, непонятно откуда взявшейся силой кинулись в топоры.
Беспощадно, неукротимо упало кованое железо конников на головы пешцев. Лошади, визжа от боли, махом стоптали, взрезали строй рязанцев, всё-таки успевших выставить встречь двойной гребень копий.
И началась мясорубка.
Но вот здесь-то и случилось непредвиденное. По мере того как конные достаточно скоро продвинулись вперёд, за своей спиной они оставили большую часть рязанцев вовсе невредимыми, а первые из москвичей уже ворвались в самую гущу и толчею свирепой, безоглядной резни.
Среди сотен тел своих и чужих, что бились на тесном пространстве, всадники потеряли своё преимущество, более того, они стали беззащитными перед ударами, которые доставали их снизу. А сами-то они не знали, на кого и меч опустить, потому как пока наедешь на рязанца, нацелишься на него да пока меч уронишь, глядишь, на месте того рязанца уже москвич стоит, рот раззявил:
– Не бей!
Так ведь меч или паче того увесистый кистень с литым железным ядром, прикованным короткой цепью к железному же держаку, – не пёрышко, поди, и не отворотишь удар. В следующий раз и задумаешься – бить или не бить? А в бою-то как? Коли задумался, так, считай, сам на вражье копьё накололся…
Вот Юрий со своей сотней как раз и оказался в самом коловороте бьющих, бессловесно ревущих, копошащихся подлогами коней человеческих тел.
– Бей! Бей! – в горячем задоре кричал Юрий, рубил мечом на стороны. Бил ненасытно, неутомимо. Побоище-то, коли сила на твоей стороне, как болотина, – увлекает, затягивает. Чем боле крови, тем безоглядней и яростней.
Бей! Пока самого не достали! Но трудно пробраться к Юрию, он в плотном окружении своих. Рядом скалится Гуслень, Аминь прикрывает спину, выглядывает опасность, юлой в седле вертится Костя Редегин.
– Хык-к! – падает меч на чужие плечи, на головы в плоских мисюрках[51]51
Мисюрка - воинская шапка с железной маковкой и сеткой.
[Закрыть], в шлемах, в заячьих шапках, с нашитыми поверху жестяными крестами.
Мужик с чёрной бородой, срубленный со спины, успел обернуть на Юрия удивлённый взгляд:
– Пошто, княжич?!
Но, не дождавшись ответа, заскучав на этом свете, подогнувшись в коленях, ткнулся бородой в снег. «Эко, не ладно-то! Своего зарубил!» Но некогда сожалеть. Да и мужика не воротишь.
– Вперёд! Вперёд! – кричит Юрий. Пятками подбадривая коня, будто рывками проталкивая его через густоту человечьих тел, к Юрию рвётся Редегин.
– Княжич! Юрий! Не ладно! Своих топчем! – кричит он, вспучивая синие жилы. – Назад надоть! Назад!
«Куда назад?! Сдурел! – думает Юрий. – Бей!»
Сердце полно дикой, весёлой злобы. Пот из-под войлочного подшлемника застилает глаза. Да пот-то можно ещё обтереть краем багряного княжеского плаща, а вот как согнать с глаз пелену жуткой кровавой радости.
«Вот она – слава! Вот – победа!»
Впервые с Юрием случилось то, что потом навязчиво повторялось чуть ли не в каждой битве: в предсмертных стонах и хрипах, в судорогах чужой агонии мнилось ему собственное величие. Точно рассудок терял. Или в самом деле и рождён был Юрий, и жил лишь на чужую кровь?
На чужую великую смерть?..
* * *
Несмотря на то что, как могли, чистили дорогу Юрию его свирепые окольные (и под меч-то ему доставались не шибко грозные противники), будто из-под земли поднялся вдруг перед Юрьевым конём дородный рязанский воин. Ловкий, видать, мужик. Левой рукой прикрывал он шею и низ лица круглым татарским щитом, с-под щита струился на ляжки длинный склёпанный из мелких стальных колец куя к. В правой руке держал он сулицу. Долгий гранёный наконечник её, крепкое древко красны от крови, над щитом в рыжих коротких ресницах выпученные, пустые от злобы глаза, тоже кровью налитые…
– Эх! – щитом наотмашь ударил он напирающего Юрьева коня по морде.
Юрий уже вознёс меч, чтобы срубить рязанца, но от внезапной боли конь под ним вскинулся на дыбы. Рязанец того и ждал – снизу ткнул сулицу навстречу падающему Юрию, Удар был нацеленный – самым кадыком должен был напороться Юрий на стальной наконечник. От таких ран не выживают. Однако Юрий каким-то неимоверным образом успел чуть-чуть отклониться в седле, чужое железо вскользь взошло под пластины кольчуги, вспороло меховую телогрейку и даже достало до плоти, но далее не пошло, зацепившись зазубриной жала о нагрудник.
Смерть была рядом. Смерть была близко. Юрий явственно ощутил её холод. Стыдный холодный пот страха каплями засочился по телу. Ан не до, стыда было Юрию, ужас сковал его. Надо б вновь поднять меч, да руки не слушались. Как тычут палкой в морду взъярившейся собаки, Юрий не ударил, а ткнул мечом в.направлении рязанца. Рязанец, будто играючи, легко отбил щитом Юрьев меч, дёрнул за древко сулицу. И снова Юрий услышал, как корябнуло железо по груди. Отбросив щит, обеими руками ухватив сулицу, мужик изготовился в другой раз ударить Юрия. Как острогой бьют рыбу на мелководье, так должен был ударить рязанец, но только не сверху вниз, а напротив..
Вряд ли бы Юрий в том положении, в каком он вдруг очутился, сумел увернуться от этого удара или отбить его. Он не хотел умирать, но понял, что умрёт, потому что не было у него силы на этого ражего рыжебородого мужика с плоским, будто стёртым лицом. Смерть безлика.
– А-а-а-а-а! – по-звериному не закричал, а завизжал Юрий, не в силах сдержать в себе ненависти и страха.
– А-а-а-а-а! – заревел мужик, криком подгоняя удар.
Но удара не последовало. Костя Редегин бросился с коня на рязанца, на острие его сулицы. Благо, чуть промахнулся, а то быть бы ему наколотым на ту сулицу. Намертво сцепленные тела покатились по снегу.
Могуч и тяжёл был рязанец против Кости Редегина, однако зол и увёртлив был Костя. Рязанец, запустив Косте в рот корявые, чёрные пальца, драл ему губы, бил в лицо железными налокотниками, пытался добраться до дыха, перехватить ручищами Костино горло. Костя бился, кусался, брыкался, вился ужом под рязанцем, бодался шишаком шлема… Ан всё одно до смерти заломал бы его матёрый рязанец, кабы какой-то мимоепешащий мужичонка из москвичей не подсобил ему ненароком. Беззлобно и делово, будто по ходу в лесу ветку срубил, тюкнул топориком рязанца сверху по темени и далее побежал по своей надобе.
Долго рассказывается, а всё это произошло в мгновение ока! Ни Гуслень, ни Аминь, ни Андрюха Конобей, не говоря уж про Юрия, не успели и с седел скатиться, чтобы помочь Редегину.
Редегин, выбравшись из-под рязанца, сплёвывая крошеные зубы, улыбался кровавым ртом:
– Жив, княжич!
А Юрий, как зачарованный, остановившимся взглядом глядел на тушу рязанца с неестественно вывернутой, заломленной за спину огромной ручищей.
Господи! Как близка и случайна смерть!
Все существо Юрия, от ногтей и до малой жилки, которая бьётся его горячей, молодой, сильной кровью, наполнилось ужасом:
«Не хочу умирать! Не хочу умирать!..»
И здесь от стана рязанцев донёсся нераздельный дикий, звериный рёв. Так скрежещуще, визгливо, гортанно кричат всполошённые гуси.
– Гу-ууу-га-ааа-гы-ыыы-ыы!.. – Не передать!
То князь Константин, расчётливый, искусный воитель, запустил в бой рязанскую конницу. Взмывая снежные вихри, глухим топотом сотрясая мёрзлую землю, летели конные, неся смерть москвичам, да что москвичам, неся смерть и самому Юрию, загнавшему себя в западню.
Юрий оглянулся безумным, затравленным взглядом на поле битвы. Конная его тысяча была рассеяна по всему полю. Одни, как Юрий и его ватажка, находились перед последним московским оплотом – у самого взгорка; другие застряли среди рязанцев там и сям посерёдке; третьи топтались по краю, так и не преодолев сплотившейся рязанской загороды; теперь эти крайние пытались спешно развернуться худым строем навстречу Константиновым конникам. А в спину их били пешцы.