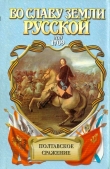Текст книги "След"
Автор книги: Андрей Косенкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
«Все!» – ясно и холодно подумал Юрий. И ещё подумал также ясно и холодно: «Не хочу умирать! Не хочу!»
И от этих простых мыслей, пролетевших в голове ледяным сквозняком, с него спало оцепенение, в котором он пребывал с той минуты, когда точно из-под земли вдруг возник перед ним тот злополучный рязанец. И пришло решение. Не из головы, а из самого Юрьева нутра, от самого тока горячей крови, которая взывала, кричала, молила лишь об одном:
«Жить! Жить! Жить!»
Невидящим взглядом Юрий оглянулся на своих ближних, что в растерянности жались к нему, ожидая хоть какого приказа, и крикнул:
– Вперёд!
Однако «вперёд» в данном случае означало как раз назад! Княжич пустил коня к взгорку, за которым скрывалась спасительная ложбина. Но перед взгорком пусть и жалкой стеной, а все ещё стояли московские слобожане. Да ведь не просто стояли – бились!
Но стоят ли все их жизни одной, однако же твоей собственной!
– Вперёд! – звал Юрий. И снова меч его безжалостно крушил на стороны, теперь уж и вовсе не разбирая ни чужих, ни своих.
Юрьевы молодцы, послушные его воле, ожесточённо прорубали средь тел дорогу к позору своему господину. Лишь Костя Редегин, с трудом державшийся в седле, хрипел в спину Юрию:
– Стой, княжич! Опомнись! Куда? Жив будешь, сам себя проклянёшь! Стой, Юрич!
Но что Юрию были его слова, когда только что в яви увидел он перед собой смерть, от которой лишь чудом упасся. И ведь впрямь: чудом спасся!
И ещё не единожды чудом спасётся, тогда, когда уж, кажется, никаких путей к спасению не останется! Знать, кто-то спасал его, знать, кому-то нужна была Юрьева жизнь?
* * *
Н-да, поди на века осрамился бы Юрий в той первой битве, кабы со стороны края поля не раздались вдруг новые звуки.
– Г-у-у-у-г-а-а-а-а-г-ы-ы-ы-ы! Ы-ы-ы-ы-и-и-й-й!!!
То навстречу крику конных рязанцев взмыл над полем крик конной тысячи Акинфа Великого, который по знаку тысяцкого погнал свой рукав наперерез рязанцам. Прежде чем столкнуться всадникам на земле, вперегон безумной скачке крик их столкнулся в небе.
– Бей! Руби! А-а-а-а-а-а-а-а-а!!! – будто чёрная туча повисла над полем.
А здесь ещё Редегин, рискуя быть срубленным слепым ударом, наконец нагнал, протиснулся к Юрию, своим коником заступил ход Юрьеву жеребцу:
– Там наши, Юрич! Там Ботря! Нельзя тебе так-то! Нельзя! – кривя губы, словно готов был заплакать, задышливо прокричал он, ловя ускользающий взгляд княжича. – Как на Москву придём?
Крепко встал на пути Редегин. Одно оставалось Юрию: срубить его. И мог бы! Однако от крика ли ботринцев, от слов ли старого друга княжич будто опамятовался. Так в бреду лихоманки вдруг возвращается сознание, так просыпаешься от злого кошмара…
«Акинф на выручку поспешил – знать, не все потеряно! Знать, можно биться ещё, знать… А я-то куда же? Господи, да что же это со мной? Как же это – я с поля хотел убечь?! Нет, не было того, не было!»
– Чего зенки-то пялишь? Чего встал на пути? Али думаешь, волю взял надо мной?! – прошипел Юрий в лицо Реде-гйну. И, наново выворачивая шею коню, уже в голос крикнул: – Сам ведаю, что творю! Али не на себя я рязанцев выманил Акинфу на славу? Так мне теперя ему и подсоблять надоть, чтоб не прогнулся! Ломи, б-е-е-й! – И как волна – то к берегу, то от берега – покатились Юрьевы всадники в обратную сторону.
И без того несуразная битва далее пошла совсем бестолково! Впрочем, толк в битвах всегда не враз виден, а лишь издали. Сблизи-то и не разберёшь, чья сторона верх берет. Там Акиифова тысяча сшиблась с рязанцами; за спинами ботринцев, не зная, куда приткнуться, мечутся разрозненные боярские дружины Юрьева рукава; их со спины достают копьями рязанские пешцы; тех пешцев рубит Юрьева сотня, малость замешкавшаяся у взгорка… Одно слово – битва!
Однако, чем далее она тянется, тем безнадёжней становится положением москвичей. Мало одной-то ботринской тысячи против разящей рязанской конницы – то в серёдке проломится, то с краёв прохудится. А Юрьевы всадники Ботре не в помощь, одни в чужой крови увязли, другие уж своей захлебнулись.
Да ведь с Константинова холма ещё татары не спущены. Немного их – всего сотни три, но как раз той силы и не хватает рязанцам, чтобы окончательно сломить москвичей. И не в числе дело, а в звании – татары! Кажется, одного их истошного визга достало бы для полного разгрома; ан отчего-то медлит князь Константин, не шлёт татар в бой.
Али сами они артачатся?
Первыми почему не пошли – то понятно. Исход битвы был ещё не ясен, а за ради чего им первым в русской распре головы подставлять? Ради сайгата? Так сайгат собирают с убитых, а не с живых. Так вот сейчас, когда на поле больше мёртвых, чем живых, самое татарское время пришло в битую Русь врезаться, Ио почему-то не катится с горы бешеная, неостановимая лава которую одни русские ждут с надеждой, а другие со страхом. Не идут татары!
А на холме суматоха. Что там – не разобрать, да ведь за рубкой и взглянуть неколи. И вдруг будто вздох прокатился по полю: уходят татары! Татары уходят!
И впрямь – вмиг пустеет на холме татарское становище.
Где грозные хвостатые татарские бунчуки?
Нет их!
Вздымая снежную пыль, с гиком, весело и белозубо скалясь, уходят от рязанского князя татары.
Так пошто приходили-то? А затем, знать, и приходили, чтобы верней обмануть. Капризна, увёртлива ханская милость, и слово его вероломно.
А ты, Константин, пошто на них понадеялся? Или неведомы тебе поганые обычаи? Не твоего ли отца отрубленную голову хан Менгу-Тимур приказал привезти в Рязань взоткнутой на копье в назидание православным, дабы не надеялись ни на татарское милосердие, ни на магумеданскую справедливость[52]52
Рязанский князь Роман Олегович был казнен в Орде.
[Закрыть]. Или забыл ты то поучение?
Сложившаяся уже битва повернулась иначе. Предательство татар сильно приободрило москвичей и удручило рязанцев, которым до полной победы чуть-чуть не хватило сил. Даже не столько сил, сколько времени.
Короток зимний день.
В ранней тьме, в волчьих сумерках, запалив смоляные факелы, рязанцы и москвичи бродили по мёртвому полю: искали раненых, обирали убитых. Столкнувшись, без слова, как немтыри, расходились в стороны. Задень напиталась кровью и злобой душа.
А в жарко натопленном просторном шатре московского князя лаялись меж собой воеводы. Большие бояре с сокрушением, но как о личном достоинстве докладывали об убытках в своих дружинах. Однако сильнее всех претерпел от рязанцев (да и от Юрьевых конников) Большой полк[53]53
Большой полк - главная часть войска, центр.
[Закрыть]. Из трёх тысяч пешцев менее половины откликнулось. Для одного дня потери были безмерны.
Тысяцкий Вельяминов почернел лицом, лишь борода бела. Акинф Великий к ночи хмелен и шумен. На правах так ли, иначе спасшего битву честит всех подряд. Особенно Юрия. Юрий огрызается.
– А ты пошто со мной не пошёл слобожан выручать? – кричит он.
– Дак ить коли пошёл, мы бы теперя, княжич, с тобой навряд здесь сидели! Потому и не пошёл! И тебе говорил: худо будет! Или не говорил?
Досадно Юрию слушать боярина. Но не та вина его грызёт, за которую виноватят, а та, что в сердце занозой застряла. Оттого и скалит Юрий зубы на Ботрю и на прочих глядит с вызовом: ну, кто ещё в чём упрекнуть его хочет? Отводят бояре глаза. Знать, и о той вине ведают, только сказать не смеют.
Да и как не ведать – чай, не все пешцы сгинули из тех, что видели, как Юрий с поля-то рвался.
«Вот что нехорошо-то!»
Но более речь о Юрии не идёт.
Льстиво потчуют славой Аль-Бугу, который и на коня не садился. Хвалят татар за хитрость, хана за мудрость. А про переяславского выскочку Акинфа Великого забывают, и он, отшумев, засыпает за столом от хмеля, усталости и обиды. И долго ещё по обычаю машут после драки руками. Причём шибче всех машут те, кто на драку со стороны глядел.
Потом начинают мыслить, как завтра рязанцев встретят. Сильны они, черти! Унылы становятся речи и тревожны взгляды.
Один Даниил Александрович странно спокоен и даже светел – худшего ожидал. Ан обошлось!
Знать, на его стороне Господь!
И татары ушли!
Знать, по-прежнему милостив к нему хан!
Так чего же теперь страшиться?
«Надо к завтрему молитвами приуготовиться. Бог к Москве милостив…» – не слушая воевод, думает князь.
А наутро коломенские бояре, учинив измену, перекинулись, как о том и было с ними договорено Фёдором Бяконтом, на Московскую сторону. Да как удачно перекинулись-то! Ночью, перебив окольных, врасплох взяли в плен рязанского князя Константина Романовича.
Что ж с пустыми руками-то итить, – гордо ухмылялись коломенцы. – Чать, мы не нищие!
Ништо – ещё обнищаете!
О таком счастливом исходе и хитрый Бяконт не загадывал.
А вот Даниил Александрович и этого свинства не исключал. И в худший миг не терял он надежды на Божью помощь, однако же просто на диво, как все складно-то обернулось!
Стали ладить переговоры. За свободу отца сыновья Константина Ярослав и Василий готовы были уплатить и Коломной. Но сам Константин Романович такой позорный торг отверг напрочь:
– Убей меня, Данила Лександрыч, а все одно не будет твоя Коломна!
– Да разве же я, Константин, убивец? Я стану Бога молить о твоём вразумлении. Покуда сам верного слова не скажешь, кто ж тебя тронет? – усмехнулся Даниил Александрович и вздохнул: – А пока ты слова не дашь, что честью отступаешься от Коломны, придётся тебе у меня на Москве погостить. Чтобы сыны твои лучше помнили: чей отныне сей город. На том и закончили кровопролитие.
Глава седьмая
Как сказал Даниил, так и сделал: женил Юрия. Причём не на девке женил, а на городе.
На Переяславле!
Ещё при Данииловом деде, Ярославе Всеволодовиче, жил в том Переяславле затейный монашек, речистый женоругатель, тоже по имени Данила. Так вот он в своих писаниях ко князю оставил такие слова:
«Блуд из блуда для того, кто поимеет жену ради прибытка или же ради тестя богатого! Лучше уж вола видеть в дому своём. Лучше уж мне трясцою болеть. Трясца потрясёт, да отпустит, а зла жена и до смерти сушит…» – писал причетник[54]54
Имеется в виду памятник древнерусской литературы XIII века «Моление Даниила Заточника».
[Закрыть].
Но кто же откажется прирастить своё имущество даже и блудом? Только глупый. Да ведь ещё как прирастить-то!
Москва Переяславлю и в подмётки не годилась. Ещё со времени Ярослава Всеволодовича Переяславль считался главной великокняжеской вотчиной. Потому и передавался он сыновьям строго по старшинству. Однако не только лестно было владеть этим городом, но, владея им, можно было быть уверенным – при любой каверзе и беде в самом центре Руси ждёт тебя почти неприступная крепость о двенадцати башнях, к тому же с одной стороны ограждённая непролазными болотами, с другой – большим Клещиным озером, а со всех остальных глубоким рвом и высоким валом, что тянется чуть ли не в три версты! Да и это, поди, не главное. Главное – переяславские воины, отменные кмети, опора победоносных дружин Александра Невского. Коли уж верны переяславцы своему князю, так верны до смерти. А прибыток каков! Меха, меды, воск, рыба…
Словом, зажитный город Переяславль!
Отнюдь не случайно по смерти князя Дмитрия Александровича этот лакомейший кусок стал средоточием алчных устремлений. Причём намного задолго до кончины его законного владетеля!
А правил Переяславлем в ту пору слабый волей и здоровьем сын Дмитрия Александровича князь Иван. Не о том речь, что не в батюшку уродился, а о том, что самому ему Господь детей не дал. Не на кого ему было оставить Переяславль!
Всем кругом было ясно: век Ивана не долог. Он страдал грудной немочью, кашлял и харкал кровью. А потому как ко всему прочему был неумён, переменчив, вздорен, капризен, то прежде, чем помереть, умудрился такую кашу заварить, что не сразу и разберёшь, чего в котёл натолкал!
Так как Иван был бездетен, после его смерти по древнему обычаю город должен был отойти к великому князю Андрею, а уж тот мог распорядиться им по-своему усмотрению. Однако, переяславцы сколь благоговейно по сю пору чтили память покойного князя Дмитрия, с которым не в один поход хаживали, столь же глубоко ненавидели теперешнего великого князя. Да и князь Иван мечтал напоследок если уж не поквитаться с дядькой, так досадить ему до зубовного скрежета.
Сначала, посоветовавшись с ближайшими боярами, решил Иван поступить по справедливости: согласно духовному завещанию отдать город во владение достойному. А кто достоин? И так рядили, и этак, а самым достойным оказался тверской князь Михаил. Ведь никто иной, а Михаил дал последний приют князю Дмитрию, ведь именно благодаря его заступничеству Андрей после Дюденева похода вынужден был вернуть из костромской ссылки Ивана и вновь вокняжить его в Переяславле, согнав оттуда своего вечного складника Федьку Чёрного. А кто как не Михаил в первую очередь встал со своими полками у Юрьева на пути Андреева войска?
Эта последняя стычка случилась три года назад, после того как на княжеском съезде во Владимире робкий Иван, доселе живший за стенами Переяславля тише, чем мышь в зимней норке, вдруг ни с того ни с сего возвысил свой голос до того, что прилюдно обозвал великого князя Каином, то бишь братоубийцей.
Слова, конечно же, справедливые, однако больно уж неожиданные в устах Ивана. Да даже и неуместные, потому как и съезд-то собрали ради русского мира, а не для новых обид. Куда там! Разлаялись до того, что там же, на съезде, на потеху ханскому послу-«миротворцу» беку Умуду за мечи схватились. Поди уже тогда потерял бы свою слабую головёнку переяславский Иван, кабы опять все тот же Михайло Тверской не встал на его защиту.
Кому был нужен тот разлад? Как ни верти, а одному лишь во всей Руси – загадливому московскому князю Даниле. Он, знать, и подбил Ивана против дяди выступить. Исподволь, тихонько готовил он Андрею врагов, себе союзников на будущую войну за великое княжение.
Андрей обиды от племянника не стерпел. Когда уже разъезжались, всегласно пообещал выбить Ваньку из переяславской отчины.
И выбил бы как нечего делать! Тем более что, видать, по уговору с Андреем ханский посол Умуд позвал Ивана с собой в Орду: мол, хан Тохта его хочет видеть. Пришлось Ивану прямо из Владимира отправляться в Сарай. Но перед тем упросил он Михаила Тверского и Данилу Московского взять Переяславль под их щит. Так сложился недолгий и непрочный союз Твери, Москвы и Переяславля. Да и послужил он лишь для того, чтобы под Юрьевым отвратить Андрея выполнить свою угрозу.
Как ни прельщал великого князя Переяславль, как ни жгла обида на ополоумевшего племянника, биться с мощной тверской дружиной, подкреплённой московскими полками, Андрей не рискнул. Постояли войска друг против друга да и разошлись по своим углам.
Ну чья как ни Михайлова заслуга, что не взял Андрей Переяславль на копьё?
К тому же и родня – не седьмая вода на киселе, и переяславцы всей душой на стороне тверича. Но…
Но ведь у московского-то дядьки Ивана Переяславского тоже, чай, на плечах голова, а не репа. Давно уж Даниил Александрович для себя наметил если уж не прибрать к рукам знатный Переяславль, потому как покуда руки коротки, так все сделать для того, чтобы обильная вотчина не досталась ни Михаилу, ни великому князю.
Кто б знал, сколь подарков Даниил Александрович переправил в Переяславль и самому Ивану, и боярам его, и попам: и пояса золотые, и кубки, и ткани камчатые, и потиры серебряные, и шкуры собольи!..
Да что рухлядь считать – сколь времени драгоценного потратил, гостюя у хворого племянника, выслушивая его вечное нытье, жалобы да обиды, глядя, как он в кашле заходится.
Кашляет, а все своё талдычит:
– Нет, дядя, то уж решено – отдам Переяславль Михаилу…
Слабый-то слабый, однако порода та же – коли уж зашла в башку блажь, так её оттуда и колом не вышибешь!
Упрям Иван, но не менее его упорист Данила. К тому же мало-помалу, по мере получения подарков, Данилову сторону берут и другие. Уж не он один уговаривает князя отдать переяславскую землю со стольным городом в московское пользование.
Но окончательно сломило Ивана то, что Даниил женил своего старшего сына на дочери ближайшего его советника – знатного из знатных, богатого из богатых, большого переяславского боярина Тимофея Всеволжского-Заболотского. Само прозвище боярина говорило о многом: Заболотьем называлась пространная плодоносная местность, лежавшая подле Переяславля меж Клещиным и Соминым озёрами, коей Местности был боярин владетель. Впрочем, как и многим другим угодьям…
Разумеется, князь Иван Дмитриевич на свадьбе Юрия и боярышни Ирины был посаженным отцом. Ну а уж после того как в ущерб иному родовитому браку Даниил женил сына на переяславской боярышне, и, считай, не только новобрачные, по и земли их кровными узами скрепились, более упрямствовать не хватило сил у Ивана. Наново переписал он духовное завещание.
И сдуру да в безлепом подражании благородному батюшке сей же миг объявил о том в Дмитрове, где в тот год как раз после Троицы (а Юрьеву свадьбу на Троицу сладили) в очередной раз собрались князья. Никто за язык его не тянул, да, видно, тяготился виной перед Михаилом. А может, просто перед смертью решил поглядеть, как после его слов позеленеет от злости дядька Андрей Александрович.
Ну и поднялся:
– А как Бог мне детей не дал, по смерти своей завещаю дедову и отцову отчину своему дяде Даниилу Московскому!
Ох, что там началось!
Андрей и впрямь с лица сошёл, позеленел, зубами клацает:
– Прокляну!
– Ха! – то ли кашляет, то ли смеётся Иван. – Сам проклят!
– С татарами приду – выгоню!
– Беги, пёс, за татарами, не впервой тебе Русь жечь! А тут и Михаил Ярославич Тверской вздыбился:
– Как то? Ты же мне обещал!
– Ну, дак прости меня, Михаил. Значит, переменился!
– Забыл, сколь я услуг тебе оказал? Или напомнить? – и за меч.
Михаил – князь горячий, нравный. Да только поглядел на Ивана, так с досады плюнул, а меч обратно в поножни кинул – с кем рубиться-то? Кого рубить? Ладящего, чай, не трогают.
А вот на Даниила Александровича Михаил нехорошо поглядел. Косо поглядел. И ухмыльнулся криво:
«Вот оно, значит, как Даниил Александрыч?!»
«Все в руце Божией, Михаил…» – светло и смиренно, аки агнец, улыбнулся в ответ московский князь.
Иван Дмитриевич недолго после Троицы протянул – к Успению и преставился.
А в Переяславле вокняжился Юрий.
* * *
Красива, но как-то не по-русски хрупка Ирина, боярская •дочка; точно золотая безделка фряжская, кою и в руки-то боязно брать – поломаешь. Да ведь и годов ей было всего шестнадцать – не набрала ещё бабьей стати. Юрий на неё как на бабу-то не больно и глядел. Впрочем, глядел ли, не глядел, а успел обрюхатить. Четвёртый месяц пошёл, как понесла княгиня.
Скучно Юрию в постели с женой. Грудки с кулачок, ключицы острые, как у мальчика… а беременна! Вот несуразица! Да и днём не больно весело глядеть на неё. На голове, точно у матушки взяла нарядиться на время, в жемчугах и каменьях, с серебряной обнизью тяжёлая бабья кика, в складках просторной ферязи смущённо прячет затяжелевший живот. И молчит. Не спросишь, так не ответит. Боится она, что ли, Юрия?
Да оно и понятно: всё же не княжьего роду. Однако же прав был батюшка – такого города, как Переяславль, ни одна княжна не стоит. А за этой птахой батюшка эвона какое приданое усмотрел! И вот ещё странность какая, прямо-таки удивительная и непривычная Юрию: чем далее, тем милей ему эта птаха. Одним взглядом безмолвным волю над ним берет! Вон что…
А Юрий-то поначалу было взбрыкнул:
«Да что ж ты, батюшка! Абы только с глаз долой меня хочешь спровадить?»
Но как проник в отцов замысел, так сам его ещё и подторапливать начал; больно уж захотелось ему на всей своей воле в славной дедовой вотчине вокняжиться. Да и Москва, надо сказать, после той битвы с рязанцами Юрию опостылела. Если раньше на княжича взгляды кидали пугливые, то теперь случалось ему поймать на себе и чей-то насмешливый взгляд.
Каждого-то плетью по глазам не отлупишь! А может быть, то лишь казалось Юрию, но все одно – тягомотно ему стало в Москве.
Да и сроду-то он её не шибко любил. Кой городище нелепый, разбросался ножищами-слободами по холмам, как сонная баба, то ли дело Великий Новгород или вон Переяславль! Хоть и длинные, обильные людом концы, а все кучно!
Сначала-то молодые жили в Москве. Юрий с соизволения батюшки неподалёку от своей Княж-слободки на низком берегу Москвы-реки велел заложить для жены обособленну слободу. Во-первых, сам он с женитьбой не собирался менять прежнего вольного образа жизни. Ан под одной крышей с женой венчанной жить да с другими девками путаться – все ж таки грех. Во-вторых, Юрию, который и брать любил, и щедро одаривать, хотелось на нищей Москве чем-то удивить переяславку да порадовать. Авось поразвеется, а то больно грустна да пуглива боярышня, то бишь в нынешнем звании княгиня!
В лето срубили двухъярусные хоромы. Таких-то затейливых да нарядных прежде и не видали на Москве. Со многими клетями в нижнем ярусе, с повалушками, горенкой, с просторными сенями во втором; а над всем этим громождением с галерейками да переходами высится бочковатая теремная башня, в коей, как и надлежит быть, самой княгини покои. По краям крыши, крытой тёсом, малые перильца с балясинками, высокое крыльцо под епанечной[55]55
Епанечная - от епанчи, то есть кровля в форме плаща.
[Закрыть] кровлей подпирают кувшинообразные столбы, вытесанные из цельного дуба, в оконцах стекло фряжское, а наличники у оконцев изукрашены резьбой. На каких травы вырезаны, на каких – единороги, на каких – ездецы конные… Не хоромы, а игрунька на загляденье!
Ну так по жене и хоромы! Пусть радуется…
Правда, пожить в тех хоромах Ирина не успела – в августе помер наконец-то Иван Бездетный. Юрий с отборной московской дружиной поспешил в Переяславль, пока туда не грянуЛ, как грозился, великий князь. Ну и Ирина за ним увязалась – мол, с родней повидаться. Да и понятно – одной-то ей в Москве хоть и в светлых хоромах темно было…
Переяславцы не сильно печалились о зыбком, как студень, женоподобном и слабом Иване. А Юрия заочно успели уже полюбить. И за юность, и за удаль, и за норов, и за то, что был внуком Невского, и за то, что не погнушался взять за себя их боярышню… Всяк городишко в ту пору мечтал о возвышении над прочими, ну и переяславцы не хуже иных о себе понимали. Князь бы не выдал их, а уж они своего князя не выдадут!
Встретили Юрия не как гостя, а как законного правителя – с колоколами, со всем подобающим событию почётом, с изъявлением преданности лично Юрию, но, однако же, не Москве. Мы, мол, не в сыновцы к Москве записались, мы тебя к нам позвали, дабы оградиться от воли великого князя, от коего добра никогда не знали…
Так, значит, так!
Вовремя прибыл Юрий. Потому как Андрей Александрович, узнав о смерти племянника и о том, что младший брат всё-таки осмелился заместить его своим сыном, взбеленился на Городце. Поднял владимирские полки и, надеясь управиться до осенней распутицы, двинул их на Переяславль. Да только переяславцы, воодушевлённые Юрием, как один поднялись на войну (давненько не воевали!), и Даниил Александрович в подмогу прислал московскую рать. Без битвы, одним грозным видом дали отпор Андрею.
Не тот стал! Кажется, не было более злонамеренного, дикого, мутноумного человека на всей земле, для которого, вот Уж истинно, кровь людская – водица, но и он поумерился. Не в злобе, но в силе. Душит злоба-то, а меч поднять уже силы нет. А коли силы нет, так и страха нет перед ним.
Ни с чем вернулся великий князь на Городец, а оттуда, сказывают, прямиком в Сарай полетел – у хана правды искать. Надеется, как встарь, вновь привести с собой татар, теперь уж на младшего брата. Только батюшка дал знать Юрию, чтобы тот не шибко забаивался: мол, хап нынче к Андрею неласков, хан ныне расположен к нему, Даниилу, – и про это у батюшки от самого Тохты есть верные сведения.
Что ж, так и должно быть – сильный сильного чтит. А московский князь вошёл в силу.
Ежели раньше – до Коломны, считай отошедшей к Москве, да мощного Переяславля, взявшего московскую сторону, Даниил Александрович в своём устремлении к великокняжеской власти уповал лишь на Божью помощь и время – авось сдохнет сам по себе старший брат и законным порядком решится дело, тем более нужные люди доносили из Городца, что плох великий князь, худ да зелен, и что, мол, вот-вот возьмёт его карачун, то теперь, войдя во вкус примысла, испробовав победы, а главное, почуяв силу в собственных руках, князь Данила вполне откровенно выказал свою ненависть Андрею, которую вынужден был скрывать долгие годы.
Видать, таков уж был род Александров. Как для Александра родной его брат Андрей был первым врагом, как для его сына Андрея брат Дмитрий всю жизнь был бельмом на глазу, так в свою очередь и Даниилу был ненавистен Андрей.
Так вот, если раньше Даниил Александрович готов был покорно ждать, когда грядёт его час, то теперь он поторапливал время – сама жизнь Андрея была главной помехой в достижении его цели. А потому жизнь ту следовало укоротить. Давно уж следовало, да силы не было. Теперь есть!
Русь притихла в ожидании новой братней свары, в ожидании нового кровавого передела…
Юрий ещё дивился: чего отец медлит? Пошла удача в руки, так лови её, не зевай. Коли хан на твоей стороне, так иди на Андрея, выбей его и из Городца, пусть сдохнет в поле – по жизни и смерть! А главное – утвердись во Владимире на великокняжеском столе! Тогда – и Москве твоей льгота, и сынам твоим, то бишь ему, Юрию, по жизни почёт и слава, и власть, власть! Потому как ведь не вечен и батюшка, помрёт он, кому великий стол достанется? Ему, Юрию! По старшинству среди братьев! А Юрий помрёт, кому власть отойдёт над всей Русью? Его, Юрьеву, сыну! Уж он, Юрий, все сделает для этого! Так и пойдёт на Руси – из века в век, и на века утвердится власть и слава Александрова рода! Во веки веков, аминь!
Так поспешай же, батюшка, вон она власть-то рядом!
Со всей страстью юной души жаждал Юрий той власти, как жаждал славы. И верил, знал, как знают и верят, что после ночи непременно настанет утро, что будет он и властен, и славен!
Да к славе-то он в Переяславле уже прикоснулся – полки самого великого князя спиной развернул! Жаль, что без битвы! Видать, мало учёный рязанцами, битв жаждал Юрий!
Сидя в Переяславле в ожидании Андреевой каверзы, так решил:
«Ежели и переменится хан в своей милости и даст дядьке татар под переяславские стены, так и им явлю силу, как когда-то Михайло Тверской явил силу Дюденю с тем же Андреем. Ить не убоялся же! А теперь и Тохта его жалует! А ему тогда годов-то, поди, не более, чем мне, было. Сколь времени с тех пор утекло, а о нём по сю пору во всех весях толкуют – доблестный чадолюбивый князь! Вон она слава-то!..»
Все так же дерзок, честолюбив в помыслах был Юрий, однако за те полгода, что прокняжил в Переяславле, вроде бы неприметно на первый взгляд, но изменился. По-прежнему был гневлив, но уж не беспричинно; по-прежнему был горяч, однако умел и смирить свой норов; бремя внезапной власти Над многими людьми будто пригасило безудержные порывы. Да и времени у него не осталось на лихие забавы – крепил Переяславль на войну!
Опять же, вместо во всём послушных, готовых на всякое озорство отпетых Юрьевых слобожан (хотя и их Юрий перетянул за собой из Москвы) явились в советчики седобородые, служившие ещё его деду переяславские бояре. Хочешь не хочешь, а выслушаешь. А они и польстить сумеют, мол, шибко ты, Юрий, и статью и норовом с Александром Ярославичем схож, но в то же время и удержат от какого поспешного, неверного шага.
И вот ещё что: женитьба, его близость с молодой, до умиления беззащитной, тихой, во всём покорной и искренно богобоязненной женой чудным и странным образом повлияли на Юрия. Не то чтобы стал он добрее и мягче – терпимее. Одним молчанием своим, одним взглядом, полным не упрёка, а боли за него, грешного, Ирина умела достать Юрия до души. Единственная во всём свете.
Любила ли она его? Во всяком случае хотела любить, потому что должна была любить того, с кем осоюзилась на супружество перед самим Господом.
А успел ли Юрий её полюбить? Вряд ли. Но что-то новое происходило, творилось в его душе, то, из чего, может быть, и должна была родиться любовь. К первой из всех, кого знал, к единственному существу на земле, он испытывал к Ирине какую-то болезненную, сладкую нежность. Тем более во чреве её (и это возвышало Юрия) уже билась иная жизнь, зачатая от его семени.
Ему не нравилось лишь её молчание, страх, затаённый в глазах. Чего боялась? Чего предчувствовала? Чего предвидела? В своей ли судьбе? В его?..
Пытаясь пробиться к ней, по ночам он ласкал её хрупкое тело, жалея её. Днями, как любимое, больное дите, осыпал дорогими подарками. И радовался, когда она улыбалась.
Тогда он вряд ли ещё любил, но ведь хотел любить…
А ещё Юрий в ту краткую пору, что и для него самого было удивительно (потому как никогда прежде не был он особенно-то боголюбивым и усердным христианином), зачастил в церковь. И не потому лишь, что князь и у всех на виду, но и по душевному устремлению.
Знать, на перепутье стоял Юрий.
Холодно и темно ранним мартовским утром в каменном храме Воздвижения Креста Господня. Малые огоньки лампад не разгоняют сумрак. Не празднично ныне в храме – печально, Великий пост на дворе.
Юрий напереди всей паствы пал на колени, не в лад с остальными бьёт земные поклоны – и во храме одинок и отличен. Не талдычит, как прочие, за священником с детства затверженные слова молитв, к которым так и остался глух, о своём просит Господа.
Просит, чтобы укрепил его на ратные подвиги; чтобы Ирина, легко разрешившись от бремени, принесла ему сына; молит у Бога за батюшку, чтобы дал ему волю и сил на великую власть; о многом просит, сердцем пытается проникнуть к Господу.
Но за чёрными ризами, что ниспадают по тусклому серебру оклада древней прокопчённой иконы, строг и неприступен Господь. Не слышит, глядит мимо Юрия. Или слова не те?..
«…От Господа пути наши!» – провозглашает отче.
«От Господа?! – будто слышит впервые, поражается Юрий. – От Господа? Так пошто я ту девку чудскую безвинно обезобразил? Пошто под Переяславлем-Рязанским своих мужиков рубил? Али и зло, и страх мой тоже от Господа? – И ужасается Юрий: – Нешто не любишь меня?! – И молит: – Так возлюби меня, Господи, и стану верным Твоим слугой! Наставь на путь истинный!..»
Строг, молчалив Господь.
А Юрий нетерпелив, ждёт ответа. До рези, до слёз в глазах вглядывается в лик Спасителя, и вдруг кажется Юрию, Иисус усмехается в тонкие печальные губы. И, не выдержав той мнимой усмешки, чуть ли не грозит Юрий Господу:
«Возлюби меня! Дай и мне путь! Оставлю след во славу Твою…»
Безответен Бог.
* * *
Впрочем (странное ли то совпадение?), ответ долго ждать себя не заставил. Приуготовлен уж был!
На следующий день ввечеру прибежали из Москвы бояре: помер батюшка! На середине пути, не достигши желанного, вроде бы как ни с того ни с сего, от внезапной сердечной немочи умер князь московский Даниил Александрович.