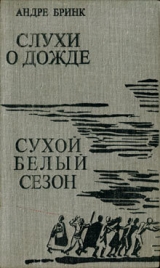
Текст книги "Слухи о дожде. Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
9
Мать рано легла спать. Мы немного поговорили, сидя на кухне и поджидая, пока закипит вода для грелки. Несмотря на послеобеденный отдых, мать выглядела усталой и изможденной. Я сидел у стола, а она машинально ворошила угли в печи.
– Что с тобой случилось? – спросила она чуть погодя. – На тебя напали шакалы?
– Я ходил в лес, в ущелье. А на обратном пути заблудился.
– В этой рощице невозможно заблудиться, – сухо усмехнулась она.
– Ну а я заблудился.
Она переставляла с места на место горшки.
– Я встретил там странное существо, – сказал я после секундного колебания. – Старый, весь высохший. В накидке из шкур.
– Наверное, Хлатикхулу. Он иногда забредает к нам.
– Кто он такой?
– Я слышала, он занимается обрезанием. А все остальное время просто ходит туда и сюда. То он здесь, то его снова нет.
– Он сказал, что пришел к больному ребенку.
– Вполне возможно.
– Но он уже откуда-то знал о смерти Токозили.
– Они как-то узнают такие вещи, – сказала мать, пожав плечами.
– Как?
– Какими-то своими путями. Откуда мне знать? Я здесь насмотрелась всяких странных вещей.
Вода закипела. Мать наполнила грелку и собиралась закрутить пробку.
– Мама, что ты решила насчет фермы? – осторожно спросил я.
– Утро вечера мудренее.
– Но утром мы уезжаем.
– Время еще есть. – Она взяла грелку под мышку. – Ладно, спокойной ночи, сынок. Не ложись слишком поздно, завтра у тебя трудный день. Ты даже не отдохнул как следует в этот уикенд.
Чуть погодя я прошел в гостиную и сел у камина. Луи лежал на полу, опершись о спинку кресла. Вокруг него в беспорядке были разбросаны газеты. Он, не отрываясь, глядел в огонь. Я надеялся, что его раздражение уже улеглось. Я слишком устал, у меня не было сил продолжать споры.
– Куда ты ходил? – спросил он, не отводя глаз от огня.
– Гулял.
– Почему ты не разбудил меня? Я бы пошел с тобой.
– Хотелось побыть одному.
Слава богу, подумал я, что он не видел моего бесславного бегства. Впрочем, если бы он был со мной, я бы не действовал столь безрассудно. Почти извиняясь, я сказал:
– Я не думал, что тебе захочется пойти со мной. В последнее время ты избегаешь нас.
– Ничего не могу поделать.
Он долго молча смотрел на решетку камина. В углях играли маленькие синие язычки пламени.
– Понимаешь, я просто не умею выразить это, – сказал он, повернувшись ко мне, – но внутри меня словно что-то сломалось или надорвалось. Из-за всего, что там случилось.
– А что, собственно, случилось?
– Да вроде бы ничего особенного. Просто вся эта тупость и бесчеловечность, возведенные в систему, вся эта ритуальная жестокость, кровавая вульгарность и хищность. Как мне жить с этим, отец?
– Надо научиться жить и с этим. Ничего не поделаешь.
– О господи!
– Мы ведь уже говорили сегодня об этом, – спокойно напомнил я.
– Но мы ни до чего не договорились. Ты просто ушел в кусты. Как всегда.
Я ничего не ответил.
– Знаешь, я все время вспоминаю те каникулы, которые проводил с Бернардом, – сказал он, пристально глядя на угли. – Конечно, еще до того, как все это случилось. Мы подолгу гуляли. Однажды он взял меня с собой на Кедровую гору. Мы пошли с двумя старыми цветными проводниками и носильщиками, – Он помолчал. Может быть, он даже не замечал, что разговаривает со мной, – А потом мы бродили по горам. Обследовали побережье. Одно место за другим.
– Наверное, он был бы для тебя лучшим отцом, чем я, – сказал я, не в силах скрыть напряжение в голосе.
– Ты собираешься что-нибудь предпринять?
– Что предпринять?
– Попытаться помочь ему. Человек с твоими связями…
– Он уже приговорен.
– Тем более.
– Это невозможно.
– Вы столько лет дружили.
– Он опорочил нашу дружбу.
Луи взял кочергу и принялся ворошить угли в камине, вздымая пучки искр. Потом снова поглядел на меня:
– А он не пытался связаться с тобой, когда находился в подполье?
Я почувствовал, как кровь отлила у меня от лица.
– Разумеется, нет, – поспешно ответил я.
– Странно.
– Что же тут странного? Зачем ему это было?
– Я просто спросил.
Во мне родилось чудовищное подозрение.
– Луи, а ты не видел его в это время?
– Я же был в лагере. Потом в Анголе.
– А после Анголы. Его ведь арестовали только в конце февраля.
Его спина налилась молчаливым сопротивлением.
– Бернард очень любил тебя, Луи. Он очень серьезно относился к тому, что он твой крестный.
Он не шелохнулся. Но я уже и так знал. И в приступе горечи и гнева я подумал: «Этого, Бернард, я тебе не прощу. Ты, разумеется, имел право надеяться, что я стану рисковать из-за тебя своей жизнью. Но ты не смел втягивать в это моего сына. Не смел. Он мой сын».
– Я получил от него записку, – сказал он наконец. – Записка была без подписи, но по ее содержанию я понял, что она от него. Бернард предлагал мне встретиться в городе на следующее утро. Он дал мне адрес. Одной лавки.
– И ты пошел?
– Да. Но его там не было. Я прождал почти час, а потом ушел. Затем меня остановила какая-то старуха. Она раздавала на улице брошюры. Сначала я не хотел брать. Но тут она шепнула, не глядя на меня: «Привет от Бернарда». Сунула мне в руки брошюру и пошла прочь. Там на полях был написан новый адрес и время встречи.
– А когда ты пришел, старуха уже ждала тебя? – спросил я.
Он быстро поглядел на меня:
– Почему ты думаешь, что опять была старуха?
Я понял, что выдал себя, но попытался выкрутиться:
– И в газетах, и на суде говорилось, что он обычно переодевался старухой.
Он долго молча и испытующе смотрел на меня. Потом отвернулся.
– Да, конечно, – сказал он, по-моему, разочарованно.
– И он говорил с тобой? – настаивал я.
Он провел меня по узкому переходу к лавке, где в первый раз была назначена встреча. На Диагональ-стрит.
(Разумеется.)
– Мы прошли на задний двор. Там стояла машина.
– Что он хотел тебе сообщить? – спросил я, чувствуя, как у меня участилось дыхание.
– Он просто хотел поговорить со мной. Спрашивал меня об Анголе. Ну, и о чем-то другом.
– Он, вероятно, сказал тебе еще что-нибудь! Мне нужно знать, Луи.
– Не помню. – Его притворство действовало мне на нервы. – Помню, он сказал, что дела его довольно плохи. Я пытался убедить его покинуть страну, но он не хотел и слышать об этом. Тогда я посоветовал ему обратиться к тебе. Я был убежден, что ты сможешь помочь ему. – Помолчав, он поглядел мне прямо в глаза. – Ты уверен, что он не пытался связаться с тобой?
– Конечно.
– Он был арестован в конце той же недели.
Было ясно, что я больше ничего из него не выжму. Но я знал, что за этим что-то скрывалось. Они о чем-то договорились. Дрожь пробежала у меня по спине. А если бы Луи тоже схватили? Опасность была так близка. Что тогда стало бы со мной?
– Попытайся что-нибудь сделать, отец, – повторил он еще более настойчиво. – Ты знаком со всеми министрами, кто-то из них сможет помочь ему. Пожизненное заключение для него хуже смерти. Судья сказал, что хочет быть милосердным, но пожизненное заключение – это худшее, что они могли для него придумать. И они это прекрасно знали.
– Ну вот, ты просишь, чтобы я вмешался, – сказал я спокойно. – А за все время не проронил ни слова. И даже когда начал говорить об Анголе, ты только нападал на меня. А теперь просишь, чтобы я помог.
– Я не нападал на тебя. – Он с трудом сдерживался. – Неужели ты не понял? Я просто хотел пробиться к тебе. Я вовсе не. хочу оскорбить тебя или задеть. Но я не могу, чтобы и дальше так продолжалось. Я же все время ищу чего-то. Неужели ты не видишь, как мне тяжело? Я хочу найти в тебе отца, которого смогу уважать.
В комнате стало совсем тихо. Лампа была погашена, горел только слабый огонь в камине. Свет мерцал на его лице. Но глаза были в тени. Я больше не мог смотреть на него. Ситуация была слишком откровенной и болезненной.
– Ладно, – хрипло сказал я. – Попробую.
Говоря это, я не имел ни малейшего представления, как за это взяться. Но я не мог снова оттолкнуть его.
– Посмотрю, что можно сделать.
– Обещаешь?
Я взглянул на свои руки. Они дрожали.
– Обещаю. Не знаю, почему ты так уверен, что у меня что-то получится.
– Главное, попробуй. – Тени прыгали на стене. – Иногда можно что-то сделать, что-то изменить. Но если упустишь случай, другого может и не быть.
– Что ты об этом знаешь? Ты еще так молод.
– Ну нет. Это я хорошо знаю. – В гнетущей тишине его голос упал почти до шепота. – Это было в Анголе. Кубинцы отступали. Мы наседали на них. Они пытались остановить нас, взрывая мосты и минируя дороги. В тех дебрях нам приходилось продвигаться по главной дороге. Иногда мы возвращались километров на шестьдесят, чтобы срубить деревья для новых мостов. Наконец, наша рота обошла противника по окружной дороге, остальные продолжали продвигаться по главной. Это был сущий ад. Целые дни в грязи. Беспрерывный дождь. По ночам приходилось идти в кромешной тьме; мы боялись, что нас могут обнаружить. Пока не добрались туда, куда было приказано: к маленькой речке, идеальному месту для засады. Кубинцы должны были попасть нам прямо в руки.
– И получилось? – спросил я, когда он замолчал.
Он кивнул.
– Да, в конце концов получилось. Но чуть было не сорвалось.
– Из-за чего?
– Мы лежали в окопах, поджидая их. Они были не более чем в получасе от нас. И тут на дороге появился мальчик, пастушок наверное. Он шел посвистывая. Ни о чем не подозревая, он шел прямо на нас.
– И что же?
Теперь мне приходилось выдавливать из него каждое слово.
– Мы знали, что, если он подорвется на мине, все пропало. Все эти дни в грязи окажутся бесполезными. Кубинцы будут предупреждены.
– И вам пришлось остановить его?
– Да. И не только остановить. Но и заткнуть ему рот.
Я не знал, хочется ли мне слушать дальше, но потом все же спросил:
– Что вы сделали?
Он не шевельнулся.
– Двое парней подкрались и накинулись на него. И утопили в речке.
У меня свело скулы. Во рту было горько.
– Они сказали, что нам не остается ничего другого. Или он, или все мы.
– А ты? – спросил я.
– Я ничего не сделал, чтобы остановить их. Может быть, у меня ничего бы и не вышло. У меня не было авторитета. Но вдруг? Вдруг, если бы хоть кто-то запротестовал, мы бы придумали что-то другое? Но никто не протестовал. И я тоже.
* * *
Позже Луи ушел спать, а я остался у тлеющих углей.
Может быть, сейчас, записывая это, мне удастся лучше разобраться во всем. Во мне тоже существует зазор между тем, кем я был, и тем, кем стал. Это изменение не объяснить каким-нибудь одним эпизодом в жизни. Даже тем, когда я использовал секретную информацию для того, чтобы опередить «Англо-Американ корпорейшн». Скорей всего, это постепенный процесс, которого сам не замечаешь. Просто однажды обнаруживаешь, что мир изменился и ты сам тоже изменился, и все, что тебе остается, – это смириться с таким изменением, поскольку от тебя уже ничего не зависит.
Вероятно, таков же и переход от невиновности к виновности в определенные исторические моменты. (Интересно, согласился бы с этим отец?) Когда-то в истории наступает день, когда в первый раз территорию захватывают не из-за нехватки земли, а просто потому, что нация привыкла к идее экспансии как таковой. Потом наступает день, когда в первый раз насилие применяется не потому, что оно неизбежно, а потому, что так проще. Потом в первый раз вождь ставит свои интересы выше общих просто потому, что он вождь. Потом в первый раз эксплуатирует слабого не случайно, а зная, что он не окажет сопротивления. Потом в первый раз приговор в суде выносят не на основе закона, а на основе того, что выгоднее. И так далее.
Впрочем, это довольно романтическое рассуждение. Не следует позволять испугу, пережитому мною в тот день, влиять на мои мысли. Надо быть рациональным и гибким. Что толку воздавать хвалы невиновности? И разве существует невиновность сама по себе? С рождения я был наследником долгой истории насилия, мятежей и крови. В исторически экстремальной ситуации, вроде нашей, возможно только полное соучастие.
Из физики узнаешь, что тепло – это позитивный феномен, существующий по своим собственным законам. И напротив, холод как таковой не существует, он просто означает отсутствие тепла и не может быть описан в терминах, исключающих понятие тепла. То же самое, на мой взгляд, можно сказать и о невиновности.
Она не есть позитивный или реальный феномен, она просто отрицание реального феномена, каким является вина. Вина – это часть нашей государственной системы, часть нашей религии, мы все виновны по определению. Мы всё отмеряем по вине. Противоположность вине, то есть невиновность, – это антиусловие, отсутствие, отрицание.
Бернард?
Может быть, именно он-то и сбил меня с толку. Открытие того, что в мире, по-видимому, есть люди, существующие вне моральных оценок, подобно тому как, например, вода и пламя не бывают виновны или невиновны. И мой опыт в ущелье в тот день не имел никакого отношения к проблемам вины и невиновности: это просто была моя субъективная реакция на то, что под конец стало совсем иным, нежели казалось вначале. А я должен во что бы то ни стало сохранить ориентацию. Мир нейтрален. И это успокаивает.
* * *
Снова поднялся ветер, налетавший бешеными порывами, заставлявший скрипеть и скрежетать вытяжную трубу над камином. Я решил пойти спать. Как сказала мать, мне предстоял трудный день. И позади был трудный день. Я на время утратил свою хватку. Со мной случились не поддающиеся объяснению вещи, и я действовал неведомыми мне еще путями. Я больше не был уверен в том, кто же я на самом деле. И потому не мог ни изменить то, что уже произошло, ни воспрепятствовать тому, что еще может произойти.
Понедельник
1
Это становится невыносимым. Беа. Что я могу сказать о ней сейчас, когда все зашло уже так далеко? А главное по-прежнему ускользает. Даже на бумаге. Но я должен пройти через это испытание. Нырнуть в собственный водоворот. Все эти ненужные пустяки, о которых я столько говорил. И все то, о чем я вообще предпочел бы не рассказывать. Что же теперь делать?
Запретить себе писать, хотя бы на день? Но я знаю, что не смогу остановиться, пока не проделаю весь путь в обратном направлении. Как бы опасно это ни было. А сейчас я уже не сомневаюсь, что это опасно.
Может быть, поиграть в туриста? Нет, просто попытаюсь отыскать то, что когда-то было мне хорошо знакомо. Автобус в Ламбет (специально поехал на автобусе в поисках реальности, которую когда-то знал, но утратил – иначе я взял бы такси). Хотелось взглянуть на дом, где я познакомился с Велкомом. Та вечеринка, та ночь. Но я не смог найти тот дом. Может быть, его вообще больше нет, ведь прошло двадцать лет.
Бельэтаж, где мы жили с Элизой. Тогда ветхий, теперь отремонтированный. Я быстро прошел мимо, даже не остановился, чтобы рассмотреть его как следует. Чувствовал себя полным идиотом: возвращение к прошлому не в моей натуре.
Решил походить по музеям. Зашел в Британский, потом в галерею Тейта и на несколько выставок. Но быстро соскучился. Купил билет в ночной клуб на сегодняшний вечер, но у дверей повернул назад. Часок послонялся по Сохо и вернулся в отель, озябший и раздраженный, вернулся в ставший привычным номер с серо-голубыми коврами и расшитыми золотом портьерами.
По телевизору ничего интересного. Я позвонил в агентство и заказал массажистку, надеясь, что это поможет мне расслабиться и заснуть. Поджидая ее, принял ванну и надел халат. Евразиатка. Прибежала, запыхавшись, чуть было не задержанная полицией. После формальностей массажа, я попросил ее раздеться, но, когда она голая вышла из ванной и опустилась подле меня на колени, я велел ей снова одеться. Бедняжка ужасно расстроилась. Решила, что я ею недоволен. Но, увидев, сколько я даю денег, заулыбалась. Когда она ушла, я, разумеется, пожалел об этом. Не могу понять, что со мной творится.
Пора наконец собраться с силами и завершить начатое. Завтра в полдень я должен лететь в Токио. Но дело не только в этом. Просто мое пребывание в аду близится к концу, а ему пора положить конец. И остановиться на полдороге уже не могу – слишком далеко зашел.
Но только нужно быть поосторожней. В последний части я несколько раз чересчур дал волю чувствам. Я должен следить за собой. Ведь право писать или не писать о чем-то по-прежнему за мной. «Когда любишь, – говорила Беа, – забываешь о себе. Не хочется быть собой, не хочется знать, кто ты». Но такое саморазрушение чуждо моей натуре. Мне нужно выжить, во что бы то ни стало выжить. Выжить даже на Страшном суде.
2
– Ну, ладно, – сказала мать. – Раз выбора нет, то продавай. Не хочу стоять у тебя на дороге.
– Пойми, так будет лучше для всех нас. И для тебя тоже. Особенно после этого убийства.
– Я ведь, кажется, все сказала. К чему переливать из пустого в порожнее?
– Но я вижу, что у тебя душа к этому не лежит.
– А я и не говорю, что лежит. Просто я не хочу стоять у тебя на дороге.
– Тебе будет хорошо у нас, мама. Сможешь немного отдохнуть, не будешь заниматься с утра до вечера делами.
Она молча пила кофе. Горела лампа. За окнами медленно занималась заря.
– Ты скоро заведешь новые знакомства. А тетушку Ринни ты уже знаешь. Ту пожилую даму, у которой я жил в Стелленбосе. Она всегда окружена людьми. Очень милая особа.
– А что будет с моими собаками? – перебила она меня.
– Посмотрим. – Избегая ее взгляда, я глядел на отблески света в чашке с кофе. Ветер настырно стучался в окна. Несколько раз за ночь он стихал, но теперь снова разыгрался; погода была неприветливой.
– Я тебе очень благодарен, мама. Я всегда знал, что могу положиться на тебя.
– Ты всю жизнь готов полагаться на кого угодно, лишь бы добиваться своего.
– Зачем ты меня обижаешь?
– Я не обижаю тебя, сынок. Я понимаю, что ты с этим и сам ничего не можешь поделать. А может, так для тебя и лучше.
– Что ты имеешь в виду?
– Может быть, для нашего народа было необходимо создать тип человека вроде тебя. Иначе бы мы пропали.
– А я думал, ты поймешь…
– По-моему, иногда я понимаю тебя лучше, сынок, чем ты сам.
– Ты просто сегодня не с той ноги встала.
– Еще кофе?
– Да, пожалуйста.
– Кристина!
Шаркая босыми ногами, вошла старая служанка.
– Еще кофе, Кристина.
– Хорошо, мадам.
Когда она вышла, мать вздохнула:
– Бедняжка Кристина. Что с ней теперь будет?
– Они ведь останутся на ферме и после продажи.
– Часть стоимости? Вроде домашнего скота?
– Все будет в порядке, мама. Как только землю присоединят к бантустану, они все станут свободными людьми в собственной свободной стране.
– А мы все подохнем от свободы в нашей собственной стране, – мрачно заметила она.
Я решил, что в таком настроении ее лучше оставить одну.
– Прислушайся к этому ветру, – с намеком сказал я.
– Погода меняется, – ответила мать. – Что-то надвигается.
* * *
Что-то надвигается – таков был лейтмотив недели в Понто-де-Оуро, самой удачной попытки бегства, предпринятой мною с Беа. Краткое мгновение в раю, полная отрешенность от мира – и все же нас не покидало ощущение неотвратимости каких-то грядущих событий. Может, из-за этого ощущения та поездка и кажется мне наиболее характерной для наших отношений. Каждый раз, когда я думаю о нас с Беа, мне в первую очередь вспоминается именно она.
Я приехал в Лоренсу-Маркиш, как он тогда назывался, чтобы заключить контракт с мозамбикским угольным концерном. После этого мне предстояло сопровождать группу португальских бизнесменов в Бейру для заключения еще одного соглашения. Но глава группы заболел, и поездка была отменена. Вместо того чтобы вернуться домой, я послал Беа телеграмму и перевод, предлагая ей присоединиться ко мне. Разумеется, отправляя телеграмму, я рисковал, но после нескольких месяцев нашей связи у меня была определенная уверенность в успехе. Хотя и не принято так говорить о себе, но я знаю, что умею обращаться с женщинами, и понимаю, что приказ, не оставляющий свободы выбора – вроде этой телеграммы, – где-то в глубине души им нравится.
С работой у нее не могло быть затруднений. После беспокойного периода временных работ (секретарь в юридической конторе, сотрудник женского журнала, преподаватель на вечернем отделении) она снова устроилась младшим преподавателем права в университете – пост, который она занимала пару лет назад, до отъезда за границу. Но приступить к работе ей предстояло только через несколько недель. В настоящее время она была свободна.
На следующий день в одиннадцать утра она прилетела на опоздавшем на час самолете. Раньше я никогда не бывал в Понто-де-Оуро. Это местечко было рекомендовано мне моим давним компаньоном из Лоренсу-Маркиша, неким Педро де Сузой. Нам с Беа пришлось пообедать с ним и с его супругой. Признаюсь, это было ошибкой с моей стороны, ибо они решили, что Беа моя жена, и соответственно к ней обращались. Не желая ранить их мещанскую мораль, я не разубеждал их, но Беа была крайне раздражена.
Еще только начался сентябрь, но день стоял очень жаркий, и в доме было полно мух; жена Педро знала по-английски всего несколько слов, да и сам он изъяснялся с большим трудом; от терпкого красного вина у нас заболела голова, хозяева же в своей утомительной гостеприимности никак не соглашались отпустить нас раньше трех, а к этому времени нервы и у нее, и у меня были уже на пределе. Так что, когда мы в конце концов отъехали на взятой напрокат машине, ситуация стала весьма напряженной. Первые километры дороги были заасфальтированы и вполне приличны, хотя мне приходилось следить за тем, как бы не сбить беспечных велосипедистов, детей, играющих на проезжей части, тощих собак и кур. Но после того, как мы свернули к Бела-Вишта, дорога превратилась в две песчаные колеи с опасным наносом посередине. Вокруг почти ничего не было. Лишь иногда нам попадались одинокие фермы с запущенными садами, хижины да свиньи. Дорога была совершенно безлюдной. Еще через несколько километров я начал беспокоиться, правильно ли еду, так как все дорожные знаки были либо совершенно неразборчивы, либо вовсе сорваны. А по обе стороны простиралась земля, нерадушная, угрюмая и даже враждебная.
Беа неподвижно сидела рядом со мной и лишь иногда бросала взгляд на карту, лежавшую у нее на коленях. Чувствовалось, что она не в духе. Когда я поглядывал на нее, она не обращала на это внимания, продолжая с каменным лицом смотреть вперед. Но в какой-то момент, повернув голову, я заметил, что она наблюдает за мной. Это не предвещало ничего хорошего.
– Зачем ты вызвал меня сюда? – неожиданно спросила она со своей обычной раздражающей прямотой.
– Потому что вдруг выпала свободная неделя. Я же говорил тебе в аэропорту. Не знаю, когда еще нам представится такой шанс.
– А ты, разумеется, своего шанса никогда не упустишь.
– О чем ты?
Она не ответила. Затем снова перешла в наступление:
– Зачем ты сказал им, что я твоя жена?
– Я не говорил. Они сами так решили. Да и какая разница?
– Какая разница? Для тебя никакой. Но ты подумал, каково было мне?
– А что, так унизительно быть госпожой Мейнхардт?
– Нет. Просто унизительно выдавать себя за другого.
– Но это же в самом деле не имеет значения. К тому же все уже позади. Теперь мы на целую неделю предоставлены самим себе.
Ее губы задрожали. Упрямый мускул заходил на правой щеке.
– Зачем ты вызвал меня? – повторила она.
– Но я же уже объяснил.
– Нет. Я хочу знать настоящую причину.
– Мне тебя недоставало.
Я положил руку ей на колено. Она не стряхнула ее, но и никак не отреагировала.
– А если бы я не приехала?
– Я был бы очень огорчен.
– И телеграфировал бы кому-нибудь другому?
– Кому?
– Не знаю. Но у тебя наверняка есть и другие.
– Почему ты так думаешь?
– Человек вроде тебя все предусматривает. На всякий случай.
– Беа, что с тобой сегодня? Зачем мне нужен кто-то другой?
– А зачем тебе я?
– Потому что…
– Только смотри не скажи «потому что ты – это ты». Я могу и заплакать.
– Ты не веришь, что нужна мне?
– Нет.
– Постарайся поверить.
– Ты просто не любишь быть один, вот и все.
– С чего ты взяла?
– Мне кажется, Мартин, ты ужасно боишься одиночества.
– Одиночества боятся люди с нечистой совестью.
– А у тебя чистая?
– Разумеется.
– А если твоя жена узнает про эту поездку?
– Она не узнает.
– Почему ты послал телеграмму? – спросила она, помолчав. Щека у нее все еще подрагивала. – Почему не позвонил, чтобы мы могли все обсудить?
– Хотел удивить тебя.
– Может, боялся, что я откажусь?
Я смущенно улыбнулся:
– Ты права, боялся. А мне так хотелось, чтобы ты приехала. Вот я и решил не давать тебе никакой лазейки.
– Я могла и не приехать.
– Но ты же приехала.
– Знаешь, когда объявили, что рейс откладывается на час, я повернулась и вышла из аэровокзала. Я чувствовала облегчение. Казалось, все это случилось как раз для того, чтобы я успела одуматься.
– Но ведь потом ты вернулась. И это главное.
– Ты так думаешь? А если я скажу, что стыжусь этого? А если скажу, что никогда в жизни не чувствовала себя такой униженной?
Я не ответил. Но затем, протащившись еще ярдов сто по глубокому песку, остановил машину.
– Если хочешь, я отвезу тебя обратно.
Я знал, что это на нее подействует. Такое всегда действует.
– Но ведь этим уже ничего не изменишь… – растерянно сказала она. – Я ведь уже приехала. Стоит ли теперь возвращаться.
– Славно мы начинаем наши каникулы, – горько заметил я.
– Прости. Я не хотела обидеть тебя. Я думала, что сумею с собой справиться. Но этот обед у этих ужасных людей! Там было слишком много времени для мрачных мыслей. А теперь мне будто отмыться нужно.
– Наверняка ты не в первый раз решаешься на такое, – процедил я, понимая, что все рухнет, если я не буду тверд и даже резок.
К моему удивлению, она медленно согласилась.
– Конечно, – мягко ответила она, – и думаю, не в последний. Однажды, когда у нас с тобой все будет позади, кто-нибудь другой…
– Беа, ради бога! – воскликнул я. – Почему ты говоришь «позади»? Мы едва узнали друг друга.
– Ну, нам вряд ли предстоит совместная старость.
– Беа, – на мгновение я почувствовал себя беспомощным, – нельзя же думать о конце в самом начале.
– Нет, можно. И нужно, если хочешь быть честен с собой.
– Но, пока мы вместе…
– Я не могу обманывать себя, Мартин. Хотела бы, да не могу. – Она разгладила карту на коленях. – В один прекрасный день ты меня бросишь.
– Чепуха.
Она улыбнулась:
– Ты ведь не хочешь ни во что быть втянутым серьезно. Ни со мной, ни с кем другим. И когда я буду отчаянно нуждаться в тебе, ты меня бросишь. Потому что испугаешься меня. Или себя самого.
– Как ты можешь говорить такое!
– Я просто хочу, чтобы ты понял, что я ни о чем не прошу. И ничего не жду.
– Ты же знаешь, Беа, как много ты для меня значишь. С той первой ночи. И пожалуйста…
– Не пытайся унять меня своим воркованием. И не бойся меня обидеть. Просто скажи мне: что я для тебя? – И поскольку я не ответил сразу же, она продолжала:
– Вот видишь? Мы просто проводим время, и не более. И нечего делать вид, что тут что-то другое. А может, только этого и стоит ожидать друг от друга, а все остальное приводит к завоеванию и подчинению.
В приступе беспричинного раздражения я сказал:
– Ну, ладно, если все это так грязно, бесчувственно и грешно, так почему же ты тогда приехала?
– Господи, – сказала она так тихо, что я едва расслышал, – да потому, что я одинока. Или ты не знал?
Я обнял ее за плечи и прижал к себе, понимая, что нужно ее успокоить, пока она не зашла слишком далеко. Секунду она упиралась, потом опустила голову мне на плечо. Другая женщина заплакала бы, но не эта. Она почти никогда не плакала. При мне всего один раз. Казалось, что слезы слишком мелкое выражение для ее чувств, что глубинные движения ее души подчиняются каким-то более суровым законам. Мне это даже нравилось, потому что я не выношу женских слез.
Держа ее в объятиях и лаская, я случайно смахнул ее темные очки, и мы оба рассмеялись. Пропасть между нами затянулась. Можно было ехать дальше. Мы ничего не выяснили и не решили, мы лишь заключили молчаливое соглашение, хотя бы временно к этому не возвращаться. И потому стали более терпимы друг к другу, научились особому мягкому состраданию.
За Бела-Вишта, городком с широкими пыльными улицами и старинными колониального стиля особняками, окружавшими пыльную центральную площадь, буш по обе стороны дороги стал гуще. Ощущение оторванности от мира еще более усилилось. А переехав на пароме через широкую реку, мы словно оборвали с ним последнюю связь.
Я слегка нервничал из-за надвигающейся темноты: в Мозамбике почти не бывает сумерек, ночь наступает мгновенно и внезапно. Но вот прямо перед нами в лучах заходящего солнца показалась высокая ограда кемпинга, и у ворот появился сторож в военной форме.
После того как я заполнил формуляры в маленькой конторе у ворот, сторож засеменил перед нашей машиной, показывая нам дорогу к красному коттеджу вдали, отделенному от пляжа только рядом тенистых деревьев.
Была пятница. Возле некоторых коттеджей стояли машины, на площадке играли дети, а на террасе ресторана несколько отдыхающих пили пиво. На следующий день машин прибавилось. Но в воскресенье к вечеру все уехали, ибо сезон был не каникулярный и приезжали сюда только на уикенд. В понедельник в кемпинге не осталось никого, кроме старого пенсионера в конторке у ворот, сторожа, нескольких мусорщиков, да супружеской пары, обслуживавшей ресторан – мужчины с деревянной ногой и его толстой жены, коротавшей время за вязанием.
Было так пусто, что Беа выходила иногда на пляж совершенно голая. Меня это чуть шокировало, но я ничего ей не говорил, понимая, что обижу или просто удивлю ее. Она не из тех, кто относится к своему телу по-эксгибиционистски, и если она время от времени появлялась нагишом, то лишь потому, что в тот момент ей было на это наплевать. В каком-то смысле такое поведение вполне соответствовало обстановке, ибо если позволить себе некоторый романтизм, то можно сказать, что Понто-де-Оуро был нашим маленьким раем, уголком, где мы принадлежали только друг другу, местом исследования души и первооткрытий.
Кроме необходимости обедать в ресторане, мы больше ничем не были связаны. Раз в два дня в кемпинг привозили на большом зеленом грузовике мясо и овощи, но не газеты. Новости, громко звучавшие по-португальски из ресторанного репродуктора, были нам непонятны, а приемник в нашей машине оказался не способен поймать что-нибудь на известном нам языке. Целую неделю мы буквально ничего не знали о том, что происходит в мире, и в то же время, может быть, именно неестественность подобного неведения заставляла нас ни на секунду не забывать о нем. Хотя бы из-за присутствия солдат.
За оградой кемпинга в буше располагалась рота португальских солдат. По утрам мы слышали их джипы и грузовики, с ревом отъезжавшие из лагеря и редко возвращавшиеся раньше вечера. Солдаты иногда выходили поиграть в мяч на берегу или попить пива на террасе, вокруг которой кружили стаи птиц-носорогов и голубовато-стальных скворцов. Вот и все, что мы знали о них. Но они всегда были здесь, даже уезжая. Иногда они передвигались в густых зеленых зарослях буша и по ночам, совершая свои таинственные маневры. Было и еще одно обстоятельство, из-за которого мы навсегда запомнили этих солдат: при них был маленький чернокожий мальчик. В долгом путаном монологе толстая рестораторша как-то раз попыталась объяснить нам на своем неподражаемом английском, что солдаты подобрали его год или два назад в сожженной ими деревне и с тех пор держат при себе в качестве талисмана. Он присутствовал при их играх, приносил слишком далеко залетевший мяч, а когда они возвращались в лагерь, кто-нибудь из солдат нес его на плечах, Как обезьянку. С ним, кажется, обращались хорошо. Но ни разу за все время мы не слышали его смеха и не видели даже тени улыбки на его старческом, морщинистом личике.







