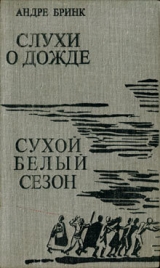
Текст книги "Слухи о дожде. Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
– А чтобы ты прислуживала этому?
– Не я его приглашала.
– И не я. Это была затея Бернарда.
– За что тут меня распекают? – воскликнул Бернард, появляясь в дверях.
– Тебе следовало предупредить нас, – сказал я.
– О чем?
– А куда он запропастился? – спросила Элиза.
– Чарли? Я зашел поздороваться с детьми, а Ильза захотела сказку, и она не отпускает его. Про Луну и жука-богомола. Знаете такую? Его мать часто рассказывала нам ее в детстве.
– Но как ты допустил его… гм… я хочу сказать, как ты допустил, чтобы Чарли остался там, когда мы уже садимся за стол?
– Ничего, он не задержится. Он умеет обращаться с детьми.
Бернард невозмутимо развернул салфетку.
Спустя пять минут, после неоднократных толчков Элизы, я извинился и пошел взглянуть, как дела. Чарли сидел на постели Ильзы, девочка заходилась от хохота.
– Ужин стынет, – сказал я, боюсь, чуть резче, чем следовало.
Он сразу вскочил:
– Доскажу в другой раз, ладно? – и взял девочку за руку.
Она лежала под цветным одеялом в своей белокурой невинности и восторженно смотрела на него.
– Приходите поскорее, – потребовала она.
– Ладно, обещаю.
Когда мы уже выходили, она вдруг спросила:
– Папа, а как мне его называть: дядя Чарли или аута[9]9
Обращение к чернокожему слуге.
[Закрыть] Чарли?
На мгновение я лишился дара речи.
Чарли расхохотался и вытер набежавшие от смеха слезы.
Вот ведь проблема, правда? – сказал он, – Я думаю, лучше всего называть меня просто Чарли? Договорились?
– Ладно, – согласилась она, послав нам обоим воздушный поцелуй.
Он сам пересказал за столом эту историю. Элиза потупилась. Бернард быстро взглянул на меня, потом оглушительно захохотал.
– Когда я впервые пожал руку чернокожему, – сказал он, – мне казалось, что я не смогу брать этой рукой пищу.
– Не волнуйся, – ответил Чарли. – Аналогичный случай. В Кембридже, после того как белый первый раз пожал мне руку, я купил флакон «деттола»[10]10
Дезинфицирующее средство.
[Закрыть] и долго тер ее.
– А вот когда мы голозадыми купались и дрались у запруды, мы даже не знали, что есть такая штука, как «деттол», – заметил Бернард.
Напряжение каким-то образом спало. Вскоре мы уже разговаривали и смеялись так громко и весело, что Луи пришел узнать, в чем дело. С ним было не так просто, как с Ильзой, но к полуночи они с Чарли уже стали закадычными друзьями.
В тот вечер мы не только смеялись и дурачились.
– Почему же вы вернулись в Южную Африку, если у вас все так хорошо складывалось за границей? – задал я ему вопрос, который в последующие годы мне пришлось задавать очень часто и очень многим.
– Потому что здесь осталась часть меня. – Он засмеялся, но его глаза за толстыми стеклами очков были серьезны. – Понимаете, с тех пор как я пошел в школу, вся моя жизнь была своего рода отказом: от моего народа, от моей культуры, от моего языка и так далее. Мне хотелось обрести способность взглянуть на себя как бы глазами белого. Ваша цивилизация превратила меня в нечто иное, чем я был по рождению. Даже по сравнению с тем, чем я был в университете. Но раньше или позже я должен был вернуться. Чтобы найти и вернуть ту часть самого себя, от которой я отказывался все эти годы.
– И вы думаете, что вам удастся ее вернуть?
– О, я знаю, это не легко. Но я добьюсь своего, будьте уверены. Я должен добиться – иначе к чему тянуть всю эту канитель?
– Мы все тянем канитель, – сказал я. – Если вдуматься, Сизиф – это символ нашего века.
– Но не забывайте – для черных Сизиф означает нечто другое.
– Не в экзистенциальном смысле.
– Именно в экзистенциальном. Скажем так: белый Сизиф – это нечто метафизическое. Черный – нечто социальное.
– Боюсь, я вас не понял.
– Социальные причины обусловили наше нынешнее положение, выбрали нам камень. Спускаясь вниз, чтобы потом снова толкать в гору этот абсурдный камень, я ощущаю не метафизический, а социальный гнет… Вы можете размышлять в категориях самоубийства, если принимать толкование мифа о Сизифе, данное Камю. А я мыслю в совершенно других. Мне надо перейти от самоубийства к убийству. Думаю, что песня неведения уже спета. К черту Уильяма Блейка.
– Папа, а что значит «в экзистенциальном смысле»? – спросил Луи.
– Тебе давно пора спать, – угрюмо ответил я.
Когда он ушел, Чарли сказал:
– Вы не сможете всю жизнь удерживать его в стороне от таких проблем.
– Разве я его от чего-то удерживаю?
– Вы не ответили на его вопрос.
– Господи, да ему всего четырнадцать. Что он может понять в экзистенциализме?
– А что можем понять я или вы?
Я с улыбкой прервал наш спор:
– По-моему, нам просто необходимо еще выпить.
– Именно, – согласился Чарли. – Поскольку мы сейчас совершаем Великое отступление, – он улыбнулся, – новейший вариант Великого исхода.
– Ну, ты опять полез в метафизику, – осадил его Бернард. Он подмигнул мне: – Такое неизбежно в полночь. Как визит Франкенштейна.
– Но вы ведь не собираетесь убивать нас в наших постелях? – спросила Элиза.
Уже светало, когда мы вышли проводить их. Я пожал руку Чарли. Бернард с шутливой пылкостью обнял и поцеловал Элизу. Затем, словно это было совершенно естественно, Чарли тоже подошел, чтобы поцеловать ее на прощание. Я заметил, как она напряглась, и затаил дыхание. Но она спокойно подставила ему щеку, и вот уже Чарли с Бернардом сели в машину. Хлопнула дверца, заметался свет фар. В ночи исчезли и задние огни машины. Все смолкло, кроме стука тяжелых, больших капель, медленно падавших с веток деревьев. Элиза первой направилась к дому. Вокруг крыльца, в свете из окон, дрожали мелкие капельки дождя. Я пошел закрыть ворота. Положив руки на холодный металл, я постоял там некоторое время, угрюмо глядя вдаль и чувствуя себя более усталым, чем предполагал.
Даже сейчас весь тот вечер кажется мне балансированием на краю пропасти, на волне возбуждения. Но сейчас все размыто временем, и кругом лишь плещет черная вода.
Было холодно, зябко и очень тихо. Я чувствовал себя подавленно, так бывало со мной много лет назад, когда на меня обрушивалось одиночество после долгой и бессмысленной атаки на выбранную девушку, когда, победив ее сопротивление и затащив в постель, потом возвращаешься домой, чтобы хоть немного поспать, идешь один, в темноте, глубоко засунув руки в карманы и посвистывая, как на кладбище. Я «победил». Я «добился цели». Но добился ли? Или просто приглушил нечто непереносимое, нечто, что опять нужно подавлять в себе, как можно скорее отыскивая новую девушку, начиная атаку на нее, ломая и ее сопротивление?
Кто упомянул о Сизифе? А кто сказал: ничто не вызывает такой жизненной усталости, как повторение любовной страсти.
Пора было идти в дом. Становилось все холоднее и промозглее. В полутьме холла Элиза сказала:
– А он оказался очень милым, правда?
– Выходит, он тебе понравился?
– А тебе?
– Конечно.
Мне хотелось, чтобы она сказала что-то другое. Мне самому хотелось сказать что-то другое. Но, собственно, что?
– Ты, знаешь сказку о Луне и жуке-богомоле?
– Нет. А что?
– Просто спросил. Я тоже не знаю.
Она засмеялась:
– Какую чепуху ты иногда говоришь! – Она пошла по темному коридору в спальню.
Я захлопнул тяжелую входную дверь, словно пытаясь прогнать эту ночь.
8
Куинстаун. Огни вдоль улиц, лишь подчеркивающие пустынность города в этот час. Гаражи, витрины, то тут, то там еще открытые кафе, группа людей, выходящих из отеля и прощающихся на тротуаре. Широкий мост на другом конце города. Теперь огней чуть меньше. По пути они мерцали на лице у Луи, как блестки чешуи у змеи, меняющей кожу. Он сидел нога на ногу, по-прежнему глядя прямо перед собой. Промелькнули огоньки поезда и исчезли у нас за спиной. Дорога была дрянной. Один раз нам пришлось проехать несколько сот метров по песку. Черный водитель впереди не уступал дорогу. Подонок. Наверное, рад хоть как-то показать свое превосходство над белым. В конце концов, дав внезапно полный газ и круто вырулив, я обогнал его. Настала моя очередь помаячить у него перед носом, прежде чем оставить далеко позади.
– Теперь еще только проехать Каткарт.
Луи не ответил.
Местность, очень красивая и днем – широкие желтые равнины и в отдалении синие плоские холмы, – в лунном свете казалась фантастической. Пожалуй, в темноте она даже красивее – не так заметны следы засухи. В последнем письме мать писала: «У нас еще не бывало такой засухи, даже алоэ стали вянуть, никогда не думала, что господь так накажет нас». Она писала мне каждую неделю, из года в год, даже когда она болела – правда, такое случалось не часто: у матери крепкий организм, да к тому же несгибаемая воля, унаследованная от французских и голландских предков.
Если она вбила себе в голову помешать продаже фермы, будет очень хлопотно. Но я постарался успокоить себя: раньше мне всегда удавалось добиться от нее того, чего я хотел, может быть, потому, что мы с ней похожи. Тео был совсем другим – слабак вроде отца. Конечно, если бы отец был жив, вопрос о продаже фермы решился бы гораздо проще. Он был бы только рад от нее избавиться. Рад? Ведь когда незадолго до его смерти об этом зашла речь, он вдруг проявил неожиданную и бессмысленную привязанность к этим местам и настаивал, чтобы его похоронили именно здесь.
Родителей Бернарда уже давно нет на свете. Его мать мирно умерла во сне лет десять назад. А отец, этот могучий старик, хозяин фермы, не побежденный ни засухой, ни холодами, не смог пережить смерти своей хрупкой супруги и через полгода последовал за ней – с разбитым сердцем, как сказал врач.
Наверное, и к лучшему, что они не дожили до этого суда. Едва ли они смогли бы пережить такое. Но их тоже нельзя недооценивать. Бернард часто высказывал мысли и совершал поступки, пугавшие их, но они никогда не упрекали его, не теряли веры в него и любви к нему – они и теперь бы молились за него, но не осуждали. И все же суд был бы для них непосилен.
Бессмысленные рассуждения. Столь же бессмысленные, как и мои размышления о том, мог ли я изменить ход событий.
Правда, был один странный вечер во время суда над «террористами» в тысяча девятьсот семьдесят третьем году (когда, как выяснилось потом, он защищал своих же сообщников и подчиненных). Я не понял тогда, что в нашей беседе прозвучало нечто особенное, а он объяснил мне все лишь гораздо позже, слишком поздно.
Во время своей болезни в детстве – в ту ночь с абажуром, позвякивающим о стену, и словами врача «кризис миновал» – я тоже не подозревал, в какой опасности находился. А когда понял, все было позади. Наверное, так бывает всегда. В таком случае и ночь семьдесят третьего года тоже можно назвать кризисной.
То, что случилось, было предопределено цепочкой совершенно незначительных обстоятельств. Например, все было бы иначе, если бы Бернард жил у нас, как он обычно и делал. Но в это время у нас гостили родители Элизы. Хватило бы места и для него, но он не хотел никого стеснять, и поэтому я поселил его в своей городской квартирке.
Или же – если бы в ту роковую ночь я не пошел на день рождения к тетушке Ринни. Или – если бы Бернард пошел со мной, как и собирался вначале. Или – если бы там не оказалось Беа. Столько всяких «или» и «если».
Это было вскоре после начала суда, и виделись мы не часто. В тот понедельник я до вечера задержался в конторе (у меня шла ревизия), устал и был не в настроении сразу отправляться на вечеринку. Итак, я решил сперва заглянуть к Бернарду и распить с ним по рюмочке. Может быть, мне удастся уговорить его поехать со мной. Он хорошо относился к этой старушке еще с тех пор, как на последнем курсе я снимал комнату в ее доме восемнадцатого столетия на Дорп-стрит. Тетушка Ринни была не только родом, но и корнями из Стелленбоса: пять поколений ее предков жили в том же доме, никто не мог даже представить себе, что она уедет оттуда. Но обе ее дочери обосновались в Йоханнесбурге, и, чтобы быть поближе к внукам, ей пришлось продать старый дом и переехать на север. В небольшой квартирке одного из старинных зданий в Парктауне она всеми силами старалась занять себя тем, что называла жизнью: музыкой, людьми, шутками, стихами. Медленно дряхлея в тоске по горам, по дубам, по шуму воды в каналах и смеху молодежи, она пыталась организовать нечто вроде салона. Пожалуй, не было случая, чтобы, придя к ней, я не застал там кого-то совершенно незнакомого: кого-нибудь из людей, которых она подцепляла в автобусе, в музее, на выставке или в ресторане и приводила к себе, чтобы окружить заботой и вниманием. Скромная и деликатная, она порой бывала чрезвычайно требовательной. Она обожала сводничать и женить друг на друге своих молодых друзей. Бернард был единственным, кто не поддавался, хотя его искушали сильней, чем кого бы то ни было.
Апогеем ее светской жизни было ежегодное торжество в апреле по случаю дня рождения. Все друзья и знакомые собирались в ее небольшой квартирке, чтобы повеселиться, попьянствовать, и побуянить до рассвета, и на протяжении всей этой оргии она неизменно восседала в центре комнаты с тщательно уложенными седыми волосами, с жемчугами в ушах и на жилистой шее, глядя на гостей живыми и яркими, как васильки, глазами и читая им время от времени какие-нибудь стихи.
Именно в такой день я и поехал вечером к себе на квартиру, чтобы повидать Бернарда. Тихая и мирная квартира в современном здании, обставленная по моему вкусу, где по ночам можно было лежать на широкой, двуспальной кровати и слушать шелест платановых листьев за окном. Город чувствовался и здесь – со своим движением, динамикой, трепещущим присутствием на пороге сознания, – но не как угроза или назойливое вторжение, а родной и близкий, будто сама жизнь.
Когда я позвонил, Бернард только что принял душ и вышел ко мне голый, с полотенцем, обмотанным вокруг бедер.
– Я не вовремя? Ты куда-нибудь собираешься?
– Да нет. Заходи.
По пути в спальню он снял полотенце и стал вытираться им. Я, помнится, подумал, что хотя он на пять лет старше меня, но сохранился лучше.
– Как тебе удается поддерживать форму? – спросил я не без зависти.
– Играю в теннис. Раз в неделю хожу в гимнастический зал. Вот и все, – Он бросил полотенце и начал одеваться. – Если не следить за своим механизмом, – добавил он со знакомой мне улыбкой, – можно потерять самоуважение и уважение других, так ведь?
– Я заехал пригласить тебя на вечеринку.
– Хорошо. Куда?
– К тетушке Ринни на день рождения.
– О господи, я и забыл.
– Она знает, что ты в городе, и требует, чтобы я тебя привел.
– Наверное, нашла для меня несравненную невесту.
– Откуда ты знаешь?
– Она каждый год находит девушку, «самой судьбой предназначенную для меня». Бедная старушка, я ее уже столько раз разочаровывал, но она не отчаивается, – Взяв башмаки и носки, он направился к двери. – Давай сперва выпьем. Время у нас еще есть.
– Безусловно, есть. Не стоит появляться там раньше восьми. Все равно гости не разойдутся до утра.
– Сам нальешь или я? – Он стоял возле старинного шкафчика, который я приспособил под бар.
– Наливай. Ты же здесь дома.
– Богатый выбор. – Он открыл бутылку. – Ты просто Гарун-аль-Рашид.
– Пока не совсем.
– Ну, не скромничай. Ты заставляешь своих девиц рассказывать сказки?
– Нет, обычно я сам плету всякие байки.
Он передал мне стакан с виски и сел на стул, все еще босой.
– За твое.
– За твое.
– Я хотел бы, чтобы ты снова начал рассказывать сказки, – неожиданно сказал он. – Я еще помню ту вещь, которую ты показал мне много лет назад.
– Ты же спустил ее в унитаз.
– Ну и что? Все равно у тебя есть талант.
– Но теперь, когда я стал солидным человеком – как это говорится, – я оставил детские забавы.
– Детские забавы вроде веры, надежды, любви?
– Нет, о любви я пока еще не забыл.
– Я не говорю о твоих шлюхах.
– Что это ты сегодня изображаешь из себя такого проповедника? Можно подумать, что не у меня тесть священник, а у тебя.
Не смейся над ним, он хороший человек.
– Грустишь? – спросил я с наигранной легкостью. – О прошлогоднем снеге?
– Нет, не о снеге. Скорее, о засухе. – Внезапно он стал очень серьезен. – Эти дивные, ужасающие засухи, когда поля обнажены до самой кости земной. Как овечий скелет. Пока не достигнешь предела отчаяния и страха и не очутишься в тишине, какой до тех пор не ведал. Я хорошо помню это ясное и чистое чувство. И только тогда, помнится, начинал идти дождь.
– Ты сегодня сентиментально настроен.
– Да, пожалуй.
За окном смеркалось. В комнате становилось темно, очертания мебели и картин на стенах расплывались. Ни один из нас не пошевелился, чтобы зажечь свет. Спустя некоторое время Бернард поднялся, наполнил наши стаканы, потом подошел к проигрывателю и включил его. Пластинка там уже стояла. Разумеется, Моцарт.
Мы вновь вступили в одну из наших безмолвных бесед, когда слова заменяются музыкальными метафорами, ясными и точными звуками рояля, не страшащимися изрекать простейшие из истин.
Минувших лет как не бывало. Я отбросил на время заботы солидного человека. Очищенный музыкой, я испытывал чувство, подобное тому, о котором недавно говорил Бернард, упомянув о засухе. Музыка действовала более мягко и деликатно, но в конечном счете не менее неумолимо. Она возвращала к вере, надежде, любви, к истине о солнце и камне в той стране, где дождь – это не более чем слух или символ бренности. Те каникулы на ферме. Элиза. («Никогда не видел девушек?») Ночи в комнате, во тьме, пропитанной запахом воска после того, как мы гасили свечи, и защищенной от звуков, просачивающихся с улицы: кваканья, стрекота, уханья, пофыркивания или лая пса, жуткого воя и смеха шакалов, голосов из хижин, шума ветряных мельниц и скрипа цепей на ветру.
– Извини, – сказал Бернард, когда музыка кончилась. – По-видимому, дело, в котором я участвую, угнетает меня.
– Не понимаю, зачем ты ввязываешься в дела такого рода.
– Какого?
– Защищаешь людей, таких как эти.
– А что ты знаешь о «людях таких как эти»?
– Зато я хорошо знаю тебя.
– Ой ли? – Он поглядел на меня из полутьмы.
– Даже слишком хорошо, – настаивал я. – Я знаю, что ты стараешься освободиться от бремени африканер-ства, но это тебе никак не удается.
– Думаешь?
– Ты ведь движим именно этими мотивами.
– Что ты имеешь в виду?
– Видишь ли, ты часто говорил о «мазохистском экстазе» африканерства, о способности африканера вдохновляться чувством собственного героизма в одиночном противостоянии всему миру. Но разве тебе самому это не свойственно? Ты одиночкой выступаешь против миропорядка, в котором существуешь. Тот же самый «экстаз». И тот же «мазохизм». Твоя позиция предопределена той самой группой людей, с которой ты стремишься порвать. И своими действиями ты лишь доказываешь свою связь с тем, от чего стремишься убежать.
– Это что, диагноз?
– Да. Все остальные симптомы тоже подтверждают его.
– Назовите же мне их, доктор.
– Я не шучу, Бернард. Тебя уже давно привлекает роль мятежника. Очень хорошо. Но кое-что ты упустил из виду: мятежники, добивавшиеся успеха, всегда были, если верить истории, молодыми людьми. Юнцу, примкнувшему к мятежникам, нечего терять, он может идти до конца. Но в нашей стране большинству мятежников за тридцать, если не за сорок. Эти люди рискуют многим. А значит, никогда не зайдут слишком далеко. Понимаешь, о чем я?
– Согласен. Но если, предположим, ты встретишь человека за тридцать или за сорок, готового пожертвовать многим? Вроде одного из тех, кого я сейчас защищаю: человека, готового рискнуть всем, что обычно называется хорошей жизнью.
– Этого просто не может быть. Это противоестественно.
– Думаешь, не может быть?
– Если такое и бывает, то это абсурд. Или извращение.
Чуть погодя он встал. В комнате было уже совсем темно. Я видел лишь его силуэт на фоне окна, озаренного городскими огнями.
– Мартин, люди, о которых я говорю, тоже не прочь расслабиться в такой вот квартирке за выпивкой. У некоторых из них есть жена и дети.
– Значит, они крайне безответственны.
– Неужели ты не можешь представить себе человека, очень умного и тонко чувствующего, доведенного до той грани, за которой единственным средством решения проблемы, которое он может принять, становится насилие?
– Это еще не оправдание для того, чтобы становиться таким, как те, кого ты защищаешь. Твой герой должен бы предвидеть и ответную реакцию противника. А это уже базис для терроризма. Цель оправдывает средства, так что ли? Как может революция победить без крайнего террора, без насилия ради насилия? И как можно принимать такое «во имя гуманности»? Ты славишь неблагородное дело, Бернард.
– А еще говоришь, что хорошо знаешь меня, – сказал он, стоя у окна. Он смотрел на меня, но было слишком темно, и я не мог разглядеть выражение его глаз. – Мартин, мне нужно поговорить с тобой. Я уже давно собирался, но мы так редко бываем одни.
– Что случилось?
– Хорошо бы нам проговорить всю ночь, как в былые времена, – Его голос вдруг зазвучал грустно, плечи поникли. Он поднял голову и посмотрел на меня. – Оказывается, ты мне очень нужен. Чтобы вернуть трезвость взгляда. Чтобы восстановить веру. В какой-то момент наступает период…
Я хотел было подойти к нему, но его отчаяние удержало меня. Я не знал, чем ему помочь. В былые времена в помощи всегда нуждался я – и шел к нему. Я даже почувствовал какое-то беспокойство оттого, что теперь ему понадобилась моя помощь.
– Не унывай, – сказал я. – Поедем к тетушке Ринни. Ты отвлечешься немного.
– Я не могу являться на вечеринку в таком настроении.
– Но ты же собирался.
– Да, когда ты только пришел. – Он отошел от окна и приблизился ко мне, – Останься и давай поговорим. Пожалуйста, Мартин.
– Но она ждет меня. – Я двинулся к двери: – Поедем вместе.
– Нет, я останусь. Может быть, так и лучше: остаться и обдумать все как следует самому.
Я открыл дверь. Слепящий свет с лестничной площадки озарил комнату. Бернард вздрогнул и поднял голову.
– Пожалуйста, возвращайся поскорее. Скажи тетушке Ринни, что я ее обожаю, развлекись немного и возвращайся. Я буду ждать тебя.
– Ладно. – Я улыбнулся. – Поговорим, когда вернусь. И не расклеивайся. Мы во всем разберемся.
Но разумеется, тогда все сорвалось, этот разговор так никогда и не состоялся. Бессмысленно, повторяю, вздыхать обо всех этих «если бы да кабы». Все бывает лишь так, как бывает, потому что и должно быть именно так. И если мы начнем противиться этому, то неизбежно кончим жизнь с синим кругом, нарисованным вокруг пупка.
Я хочу добавить, что есть некоторые вещи, кажущиеся противоестественными, то есть противоречащими естественному стремлению каждого человека жить в безопасности, продвигаться по службе, иметь дом, жену, детей. Но если ты вдруг сделал для себя открытие, что миллионы других людей в твоей стране живут, дискриминируемые в тех же правах законами, созданными твоим народом, твой образ жизни перестает казаться тебе правильным. И тебе приходится вырываться из этой безопасности и блаженного неведения. В моем случае, если в последний раз прибегнуть к моему примеру, пришлось пожертвовать даже браком, прежде чем он превратился в нерасторжимые узы для меня и женщины, которую я люблю, и который мог бы существовать лишь за счет жизни и счастья других людей.
Мне все это было непонятно, как я ни старался разобраться, и мое непонимание еще более усугублялось тем, что я никогда не видел его жены; я не мог себе представить Бернарда женатым. Не было зрительного контекста, в который можно было бы ввести этот образ для уяснения ситуации. Вероятно, поэтому ни его брак, ни развод не задели меня. До того дня, когда она появилась у меня в конторе.
Они поженились, никого не поставив в известность. Как и следовало ожидать от Бернарда, я узнал об этом, лишь когда он позвонил мне по телефону и сказал:
– Думаю, тебе будет приятно узнать, что сегодня утром я женился.
– Да что ты! Не может быть!
– Я вполне нормальный самец.
– Нисколько не сомневаюсь. Но так вдруг?
– Я никогда не любил проволочек. Пришел, увидел, победил. Но только на этот раз не победил, а побежден. Так или иначе, мы оба чрезвычайно счастливы и твердо решили прожить вдвоем до старости.
Но уже через несколько месяцев, незадолго до его приезда в Йоханнесбург по делу «заговорщиков», они развелись. Он явно не хотел распространяться на эту тему, и я при встрече не стал лезть ему в душу. И все же меня не покидало ощущение, что теперь впервые между нами возникло отчуждение: в его жизни произошло нечто, чего он не стал делить со мной и доступа к чему у меня не было. Не этот ли случай положил начало и последующим его умолчаниям о том, как и чем он живет?
В моей конторе она появилась лишь более года спустя, когда процесс уже подходил к концу. Имя, Реньета Франкен, ничего не сказало мне, но ее отказ назвать секретарше цель своего визита заинтриговал меня. Она сразу же произвела на меня сильное впечатление, не только потому, что была по-настоящему красива – высокая, стройная, белокурая, загорелая, с огромными синими глазами, – но и из-за своей явной витальности. Ей было не больше двадцати – двадцати одного года, но ничто в ней не наводило на мысль о девичестве и невинности: она, несомненно, была женщиной в полном смысле слова.
– Добрый день, – сказал я. – Садитесь, пожалуйста.
Она чуть помедлила.
– Вы Мартин Мейнхардт?
– Разумеется. Чем могу служить?
– А разве Бернард…
– Бернард?
– Вы ведь тот Мейнхардт, с которым он дружил в университете. Он много рассказывал о вас.
– Да, это я. Но… – Внезапно меня как током ударило. – Господи, так вы его жена?
– Бывшая жена, – печально улыбнулась она уголками рта.
– Извините.
– За что? Вы тут ни при чем.
– Мы с ним всегда были так дружны, и я страшно обрадовался, узнав, что он женился. А потом вдруг…
– Вы очень заняты?
– Нет, нет. Мне приятно наконец познакомиться с вами. Не хотите ли чаю?
– Спасибо, не надо.
Теперь, когда я узнал, кто она, она словно потеряла уверенность в себе. С явной растерянностью она объявила мне, что пришла поговорить о нем. Все это произошло так неожиданно. Может быть, он еще передумает. Может, им еще удастся… Но она ни в коем случае не хочет быть назойливой. Сначала она хотела просто приехать к нему, но потом подумала, что такой сюрприз будет слишком детским. Поэтому она решила посоветоваться со мной.
– Извините меня, пожалуйста, – сказала она. – Я не стану больше вам надоедать. Я уже поняла, сколь глупо с моей стороны было думать, что кто-то третий…
– Я не кто-то третий. У нас с Бернардом нет тайн друг от друга.
– Он вам что-нибудь рассказывал? Сейчас, в Йоханнесбурге?
– Нет. Ваш брак – единственное, что он со мной не обсуждал.
– Значит, я его сильно обидела, – сказала она без всяких эмоций, просто констатируя факт.
Она достала сигарету. Я щелкнул зажигалкой.
– Спасибо.
В том, как она повернула голову, выпуская дым, было что-то чрезвычайно знакомое, словно я знал ее уже многие годы.
– Он никогда ни в чем вас не обвинял.
– Хотелось бы в это верить. – Она затянулась и задержала дым во рту. – Понимаете, мне казалось, что мы были счастливы. Он никогда не выглядел несчастным. Он был весел и полон жизни. И вдруг совершенно неожиданно он просто сказал… – Она вновь овладела собой и продолжала с твердостью, тоже показавшейся мне крайне знакомой: – Я не хочу обременять вас всем этим. Если б вы могли просто честно сказать мне: стоит ли мне, на ваш взгляд, пойти к нему и поговорить или же это будет слишком тяжело для него? Сейчас, после стольких месяцев этого процесса. Как вы думаете?
– Если бы я знал, что вам ответить! Вы застали меня врасплох.
– Я не спешу. – И затем со спокойным и холодным нажимом в голосе: – У меня ведь вся жизнь впереди, верно? Не хотелось бы пустить ее псу под хвост из-за дурацкой спешки.
Грубое выражение резануло меня – как то, другое, много лет назад. И вдруг я понял, почему кое-что в ней кажется мне знакомым. Она была похожа на Элизу. Не на нынешнюю Элизу, а на ту дерзкую и самоуверенную девицу былых времен, которая могла в воскресный полдень спокойно снять с себя шляпу, перчатки и все остальное и голой купаться у плотины вместе с незнакомым человеком. От этого открытия у меня перехватило дыхание.
– Я позвоню вам завтра, – сказала она. – Или когда вы скажете.
– А почему бы нам не поужинать вместе сегодня? – спросил я, гадая, заметила ли она во мне что-нибудь, – Мы могли бы спокойно все обсудить.
Она немного помедлила.
– Хорошо. Когда?
– В восемь. Где вы остановились?
– В «Карлтоне»
– Я заеду за вами.
– Большое спасибо, Мартин.
– Это я должен сказать вам спасибо.
– За что?
– Ну, просто, – я взял ее за руку, – за то, что вы пришли.
– До свидания.
– До вечера, Реньета.
Закрыв за ней дверь, я обнаружил, что у меня вспотели руки. Не чувствуя ни малейшего желания работать, я подошел к окну и стал смотреть на дымный город.
* * *
– Единственное, чего я хотела, – сказала она после ужина, когда около полуночи мы пили по последней на террасе ресторана, – это сделать все, чтобы он почувствовал, что у него есть дом, покой. Ну а потом, конечно, и дети… Он такой беспокойный, вечно ищет чего-то. И мне казалось…
– Может, он слишком затянул с женитьбой. Слишком привык быть один. Быть самому себе хозяином.
– Многие вступают в брак еще позже, и все же счастливы.
– Бернард алчет большей независимости, чем другие.
(Мне хотелось сказать: «Если бы вы были меньше похожи на Элизу, может быть, все было бы и лучше». Но я сдержался.)
– Значит, вы думаете, что мне нужно вернуться домой, даже не повидавшись с ним?
– Почему вы ждете от меня столь категорического ответа? Почему вы думаете, что я имею право решать вашу судьбу?
Она сидела потупясь.
– Может быть, я с самого начала совершила ошибку, позволив ему взять на себя ответственность за нас обоих.
– Давайте я поговорю с ним. Я не скажу, что вы здесь. Просто попытаюсь выяснить, как он на самом деле на все это смотрит.
– Вы это сделаете?
Когда мы прощались, она импульсивно поцеловала меня.
Но я все откладывал и откладывал беседу с ним.
хотя мы и виделись каждый вечер. В те последние недели процесса он был слишком издерган, и я не хотел губить дело, выбрав неподходящий момент для разговора. Я решился заговорить с ним об этом только через неделю. В тот день он очень устал. И может быть, поэтому был более беззащитен и более откровенен.
– Ты не уставал бы так, если бы за тобой приглядывала жена, – начал я, стараясь, чтобы это прозвучало как бы невзначай.
– Наверно, уставал бы еще больше. Воевать на два фронта куда тяжелее.
– Мне кажется, что ты даже не успел разобраться, что такое брак.
– С чего ты это взял? – мгновенно отозвался он.
– Просто доверяюсь собственному опыту. Год слишком малый срок, чтобы проверить, удачен ли брак.
– Не думаю, что это зависит от срока. Достаточно вовремя сообразить, что совершил ошибку. У одних на это уходит вся жизнь, другие понимают быстрее.







