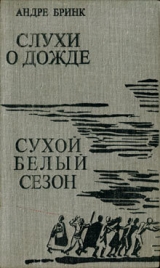
Текст книги "Слухи о дожде. Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Только на следующий день я осмелился спросить:
– Зачем он его так пинал, папа? Он же не мог убежать.
– Когда имеешь дело с кафром, ни в чем нельзя быть уверенным, мой мальчик. – Его добрые глаза беспомощно голубели за стеклами очков. – Этот человек преступник, он хотел бежать. А если ты обратишься к истории…
Это было его ответом на любой вопрос. Если ты обратишься к истории. Разумеется, история была его профессией, и он был одним из немногих известных мне людей, по-настоящему удовлетворенных своей работой. Хотя трудно понять, что за радость из года в год твердить одно и то же сменяющимся поколениям школьников. Ученики считали его занудой и побаивались указки, с помощью которой он пытался укрепить свой авторитет среди подростков – черта, выпадавшая из всего его облика и всегда оставлявшая меня в сильном недоумении. В некотором смысле отец был для меня источником вдохновения, впрочем, точно не знаю, он сам или его история. Он был далек от нас – отрешенный вид, отсутствующее выражение глаз, словно он смотрел мимо тебя на давние битвы и на титанов прошлого, словно именно они открывали ему подлинный смысл жизни, причины и значение войн, традиции цивилизаций, которые благодаря своей временной удаленности казались ему более упорядоченными и разумными, чем неразбериха сегодняшних дней. Контуры прошлого представлялись ему столь же определенными, как, скажем, очертания рыбы, настоящее, напротив, оставалось диким, бесформенным и непредсказуемым. И только через историю мне удавалось иногда пробиться к нему, понять кое-что в его молчании и отчужденности, и тогда слово «отец» вновь ненадолго обретало утраченный смысл. Полагаю, что история стала для него убежищем от всего, что он был не в силах понять из творившегося вокруг. И в тот день, когда ему пришлось стать фермером, что-то в нем угасло. Он продолжал много читать, каждую неделю привозил в свою пристройку новые пачки книг, а то, чего не находил в библиотеке, выписывал из столиц. Но все в нем словно начало приходить в запустение. Ему больше нечего было делать с благоприобретенными фактами, не стало учеников, с которыми он мог бы ими поделиться. В конце концов он умер от рака. Но, думаю, дело тут не в раке. Болезнь могла называться как угодно. На самом деле его убила ферма – плодородный холмистый участок в Восточном Капе, с его темно-зелеными кущами и кроваво-красной землей. Даже странно, насколько однозначным представляется мне все это столько времени спустя.
Ферма. Наша ферма. Теперь уже не наша. Теперь у меня вместо нее красивый сад, обнесенный трехметровой каменной оградой с бутылочными осколками наверху. Железные ворота с острыми пиками. И конечно, две собаки, две восточно-европейские овчарки, кроткие как ягнята с моими детьми, но готовые волками накинуться на каждого, кто попытается проникнуть в дом. Мать их терпеть не может. А все потому, что она хотела привезти с собой трех больших дворняг, которых мне после ее отъезда с фермы пришлось усыпить.
* * *
Когда я сейчас мысленно обращаюсь к прошлому – из этого роскошного отеля с плюшем и бархатом, сероголубого с золотом, с викторианскими гравюрами на стенах, включая даже «Век невинности» сэра Джошуа, – то мне кажется, сколь бы странным и маловероятным это ни представлялось в такой обстановке, что я всю жизнь был окружен насилием. Не так, конечно, как мои предки Мейнхардты, проложившие свой кровавый путь через историю: восстание в Храфф-Рейнет, пограничная война, Великое переселение, Освободительная война, подпольное движение Оссева-Брандваг. Все они без исключения были сознательными участниками тех событий, их виновниками и нередко неизбежными жертвами – людьми, попадавшими в тюрьмы, погибавшими под туземными стрелами и английскими пулями, находившими, возвращаясь из странствий, свои дома сожженными, а фермы разграбленными, начинавшими все сначала и не расстававшимися разве что с Библией. Со мной все не так. Я окружен насилием, но не затронут им. И в отличие от наших предков, прошедших по «пути страданий», о котором так любил рассуждать отец, я с уверенностью могу сказать, что всегда оставался невредим. Кроме того единственного раза с Беа, когда меня царапнуло по-настоящему.
Это тем более странно, что я постоянно оказывался свидетелем насилия. Или, говоря несколько цинично, катализатором насилия. Да, такое свойство у меня, несомненно, есть. Мать назвала бы его «даром».
Может быть, тому заключенному удалось бы бежать, не стой я в дверях кухни? Нелепая мысль, разумеется, но ведь это не единственный случай. Увы, не единственный. Мы с Тео залезли на дерево, играя в Тарзана, я спрыгнул вниз и позвал его – он прыгнул и сломал ногу. Мы с ребятами купались возле запруды, плавали, ныряли в воду с ивы на берегу. Все, кроме Вильхельма. «Давай, не будь бабой», – крикнул я ему. Он нырнул и не выплыл. Под водой в тине оказался пень. Мы вытащили его, он был жив, но на всю жизнь остался частично парализован. Самый страшный и в своей кошмарности самый курьезный случай: на третьем курсе университета я, добираясь на попутках до Кейптауна, стоял как-то на дороге за Белвиллом. По шоссе шел грузовик, груженный булыжником, с одной стороны из кузова торчали листы рифленого железа. Какой-то мотоциклист решил обогнать грузовик – бедняга не заметил опасности. Я понял, что произошло, лишь в тот момент, когда мимо меня промчался на мотоцикле человек без головы с красным фонтаном, бившим из шеи.
Грета, моя университетская подружка, ехала на велосипеде по направлению к деревне. Вскоре после нашего разрыва. Заметив меня, она резко обернулась – может быть, хотела что-то крикнуть, – махнула мне рукой и попала под трактор с прицепом, груженный ящиками с виноградом.
Шарль Кампфер, блистательный преподаватель (история искусств), остроумный и циничный, с педерастическими наклонностями. Однажды вечером я по какому-то «необъяснимому побуждению» позвонил ему и спросил, можно ли к нему зайти. Когда я пришел, все комнаты были залиты светом, двери и окна настежь, но в доме стояла мертвая тишина: Кампфер лежал в гостиной на ковре, голый, с перерезанными венами и аккуратным синим кружком, нарисованным вокруг пупка.
На Парковой станции какая-то женщина спросила у меня, который час, и сразу вслед за тем бросилась под приближающийся поезд.
После волнений на руднике куски человеческих тел смывали с асфальта струями воды из брандспойтов, как смывают комаров с ветрового стекла машины или как дождь смывает следы засухи (но что-то всегда остается).
И вероятно, еще убийство в тот уикенд на ферме. И разумеется, в какой-то мере Бернард. И Беа. Или тут уж я возвожу на себя напраслину?
В определенном смысле тот уикенд протекал под знаком насилия. Может быть, мне уже в самом его начале следовало разглядеть апокалипсические письмена? Впрочем, лучше я опишу его. Ведь это вполне романная ситуация.
Накануне поездки я почти не спал. Обычно я отправляюсь в дорогу затемно – до фермы довольно далеко, почти восемьсот километров. На этот раз к тому же я знал, что не смогу не побывать на судебном заседании. В начале процесса у меня еще хватало выдержки не ездить туда, но к концу это оказалось свыше моих сил (кроме тех дней, когда волнения в Вестонарии заставили меня пропустить несколько заседаний). В пятницу процесс заканчивался. Я сказал Элизе, что у меня в Претории дела – почему-то я не мог назвать ей истинную причину. С Луи мы договорились встретиться в Претории на автостоянке. Он отправился туда накануне. Я даже не пытался выяснить зачем, мы начали понемногу привыкать к его угрюмой отчужденности после возвращения из Анголы в феврале этого года. Уже сам тот факт, что он согласился поехать на ферму, был приятным сюрпризом. Я-то предпочел бы поехать один, но Элизе казалось, что (в моем состоянии) мне надо быть осторожным. Кроме того, на мне лежали вполне определенные отцовские обязанности.
В такую рань мир похож на неведомые джунгли. Словно находишься на другом континенте или на другой планете. Было еще далеко до восхода и довольно холодно, порой то там, то здесь что-нибудь проглядывало из тумана: здание, светофор, ряд чахлых деревьев. А затем снова лишь широкое шоссе в густой пелене тумана, скрывавшей желтый холмистый ландшафт, да время от времени слабый свет фар, бесшумно набегающий справа и вновь исчезающий. Поворот у памятника при въезде в Преторию, Университет Южной Африки, похожий на нос гигантского черного корабля Летучего Голландца, на мгновенье вынырнувший из темноты и вновь потерявшийся во мраке. Хмурое присутствие города вокруг. Светофоры, монотонно переключающие свет на перекрестках: зеленый, желтый, красный, зеленый, желтый, красный. Грузовики. Автобусы, изрыгающие из своего чрева сотни черных фигур, шум, возгласы и сразу же снова тишина. Рано открывающиеся кафе, куда вносили ящики с провизией. Шум и бряцанье молочных тележек. Резкий чад рыбы и чипсов. Обрывки газет на обочинах.
Я остановил машину на Фермолен-стрит. Сторож на стоянке узнал меня и приковылял в своем пальто защитного цвета, чтобы подать мне карточку для отметки и поприветствовать подобострастным, но ленивым жестом. Я направился в сторону Керк-плейн к зданию Верховного суда. Ноги ныли от холода, лицо горело. По дороге купил несколько газет у старика, сидевшего возле барабана с тлеющими углями и дувшего себе на руки. Он молча уставился на меня – конечно, вчера вечером не обошлось без скокиана[1]1
Крепкий алкогольный напиток, изготовляемый банту. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть]. Дыхание его отлетало легкими белыми облачками. Кофе в маленьком кафе, грек с грязными ногтями за стойкой.
В кафе уже были посетители: бродяга, обросший щетиной, бледный юноша в неуместном здесь вечернем костюме с галстуком-бабочкой (интересно, где он провел ночь?), несколько рабочих в синих комбинезонах, с банками консервов под мышкой, чернокожий, попытавшийся было купить булку, но получивший от грека отпор:
– Откуда, ублюдок, мне взять столько сдачи?
– Из кассы.
Грек вышел из-за стойки, волосатая грудь нараспашку.
– Нарываешься на неприятности?
– Просто хочу купить хлеб.
– Раздобудь сначала подходящие деньги. А теперь проваливай.
Увидев, что тот не уходит, грек неловко рванулся вперед, потерял равновесие и грохнулся на стойку, смахнув на пол круглую бутылку с сиропом. Когда он выпрямился, чернокожий уже стоял перед ним, выжидательно пригнувшись, с ножом в руке.
Люди в синих комбинезонах мгновенно оказались рядом, словно только того и ждали. Один скрутил греку руки за спиной, двое других бросились на чернокожего. Короткая злая схватка, вовремя которой разбили несколько стаканов и высадили стекло стойки. Затем чернокожий резким неожиданным движением вырвался и пустился бежать. Грек и все остальные бросились за ним, но, когда выбежали на улицу, его уже и след простыл.
– Позвоню в полицию, – сказал грек, дыша как сердечник и размахивая татуированными руками.
– Брось, приятель, – посоветовал один из рабочих. – Тебя же и арестуют. Слово белого нынче ни в грош не ставят.
Грек начал набирать номер, скорее всего неправильно, так как от бешенства не замечал, в какие отверстия на диске сует свой толстый палец.
– Вы все видели, – бросил он через плечо. – Будете свидетелями.
– Я ухожу, – сказал я, отсчитал деньги за кофе и положил их в треснутое блюдце возле кассы.
Свидетелей и без меня было более чем достаточно. К тому же происшествие было вполне заурядным, а я предпочитаю не встревать в подобные истории.
Но настроение было испорчено. А потом еще заключительное заседание в Верховном суде.
Бернард, изможденный и бледный, каким я его еще никогда не видел (непроизвольно мне вспомнилось: мускулистая загорелая спина в каноэ прямо передо мной в пенящихся брызгах воды), но сохраняющий абсолютное спокойствие. Атмосфера в зале суда чем-то напоминала церковную: когда заговорил судья, воцарилась прямо-таки благоговейная тишина. Лишь поскрипывали перья журналистов да затрещала дверная рама, когда, переменив ногу, к ней привалился полицейский, который, скрестив руки на груди, надзирал за порядком в зале.
Но после оглашения приговора все черные, присутствовавшие в зале, внезапно поднялись с мест и как один затянули: Nkosi sikelel’ iAfrika. Их пение было прервано молотком судьи и криком судебного исполнителя:
– Очистить зал суда! Очистить зал суда!
И полицейские прыгнули в зал через перила.
Я не пошел попрощаться с ним. Наверное, мне бы и не разрешили. Да и о чем нам было говорить? И тем не менее это угнетает меня до сих пор. Может быть, все-таки следовало попытаться получить свидание? Но слова песни еще звучали у меня в ушах, я был слишком подавлен, чтобы встречаться с ним, хотя и знал, что это было последней возможностью увидеть его.
Бредя по улицам, теперь уже переполненным машинами и спешащими куда-то пешеходами, я никак не мог сосредоточиться и то и дело натыкался на кого-нибудь. Один раз даже выбил из рук какой-то женщины свертки и смущенно нагнулся, подбирая их. «Не видишь, куда прешь?..» Поэтому я не сразу сообразил, что происходит, когда был вдруг остановлен толпой, загородившей проход на стоянку. Только отчаявшись пробиться через нее, я поглядел вокруг, услышал рев полицейских машин, крики людей и понял, что происходит что-то необычное.
На девятом или десятом этаже нового здания на узком карнизе сидел чернокожий, спустив ноги вниз. Из окон сверху гроздьями свешивались люди, следившие за ним. Внизу толпа сгрудилась вокруг небольшого пустого участка, очерченного цепочкой полицейских.
– Что он там делает? – спросил я у кого-то.
– Сидит часов с одиннадцати. Вроде бы собирается броситься вниз.
Из окна прямо над карнизом высунулся офицер полиции и попытался что-то втолковать чернокожему. Снизу не было слышно, о чем они говорили. Но чернокожий подтянул ноги и встал, готовясь к прыжку.
И тут толпа, стоявшая на мостовой и на тротуаре перед зданием, заорала:
– Прыгай! А ну, прыгай!
Я видел, как он дрожал, балансируя над бездной. А затем снова отклонился назад и вжался в стену. Даже на таком расстоянии я разглядел белки его глаз, сверкающие как у испуганного животного. Должно быть, у него закружилась голова.
Полицейский снова обратился к нему, но он не отреагировал.
– Прыгай! – ревела толпа, как на стадионе. – Прыгай! Прыгай! Прыгай!
Он вновь зашевелился. Шагнул на фут или на два влево, ближе к углу здания. А под ним ревела толпа, тоже переместившаяся влево. Он высунул одну ногу за край карниза, будто пробуя воду перед купанием. Несколько девиц исступленно завизжали. Он убрал ногу.
– Прыгай! – бесновалась толпа.
Теперь он присел на корточки. Я не смог разглядеть, открыты ли у него глаза. Новый вопль толпы взметнулся кверху. Слов уже нельзя было разобрать, просто дикий рев.
И тут он прыгнул. Прямо в беснующуюся толпу, лишь несколько мгновений спустя уразумевшую, что все уже кончено. Шум тут же начал стихать, наконец все смолкло, и стал слышен крик продавца с соседней улицы:
– Бананы! Бананы!
Я стал пробираться сквозь толпу. Вдруг кто-то взял меня за руку:
– Луи? Как ты сюда попал?
Странный вопрос, ведь мы договорились встретиться именно здесь.
– Папа, ты видел?
– Да… я как раз подошел, когда…
Я посмотрел ему в глаза, словно ища в них что-то. В тот день у бассейна, когда мы поймали друг друга на подглядывании за девочками, я понял, что он стал мне чужим. Не мой сын, не ребенок, которого я вырастил, а некто, кого мне не понять и к кому мне не пробиться, противник, оппонент. С тех пор между нами пролегли месяцы отчуждения, засуха, несколько смертей. И вот вдруг мы снова стали близки, прикоснувшись к одному и тому же, отмеченные тем, что мы оба сейчас увидели. Неожиданно я почувствовал, что более всего мне хотелось бы, чтобы его здесь не было, чтобы он ничего этого не видел. (Что уж совсем нелепо, ведь он побывал на войне.) Ну а раз он все-таки видел, то чтобы видел это без меня. Чтобы я со старомодной сентиментальностью мог и дальше думать, что хоть один из нас по-прежнему невиновен и не запятнан присутствием в этой толпе.
* * *
К вопросу о невиновности мне еще придется вернуться впоследствии. В связи с Бернардом. Не так-то просто это сформулировать, но хочу сказать, что Бернард, несмотря на острый ум, бескомпромиссность мышления, заставлявшую вас в споре с ним сдавать одну позицию за другой, несмотря на то, что я назвал бы его «окультуренностью», производил впечатление прямо-таки первородное и стихийное, как, скажем, ветер или вода. (Не возвращаюсь ли я вновь к романтическим словесам юности? Похоже, что мои записки против моей воли вновь и вновь приходят к одному и тому же. Ну, что ж. Выскажем все, что рвется наружу. Даже если по временам это будет уводить меня в сторону от основной темы – не зря же я решил поиграть в писателя.)
В сером костюме и синем галстуке, он выглядел утонченным джентльменом, пожалуй, даже дипломатом; в адвокатской мантии, с копной белокурых волос, он был исполнен достоинства, заставлявшего вспомнить о величии былых эпох вроде Флоренции времен Медичи. Но и тогда в его облике сохранялось нечто дикарское. Особенно это было заметно, когда он занимался спортом или веселился: в то путешествие на каноэ, столь много определившее для нас, на теннисном корте, в бассейне, где угодно. Дикарское мальчишество. Скорее, все-таки мальчишество.
На женщин это действовало интригующе. Даже Беа, почти не придававшая значения сексу, говорила: «Не знаю, как объяснить, но, когда он смотрит на меня, внутри что-то сжимается и ноги словно становятся ватными». Бернард мог соблазнить любую. И соблазнял. Но при этом не казался дамским угодником или ловеласом, перепрыгивающим из одной постели в другую. Он никогда не хвастал своими победами. Лишь иногда, случайно, когда речь заходила о какой-нибудь женщине, вдруг становилось ясно, что он с ней уже, как говорится, «ознакомился». Врожденная учтивость была для него чем-то вроде верительной грамоты на данном поприще. К тому же он мог внушить любому – и мужчине и женщине, – что этот человек ему чрезвычайно важен и интересен и им вдвоем предстоит совершить нечто необычайное. И несмотря на это – и вопреки всему этому, – казалось, будто он навсегда остался подростком. И отнюдь не из-за его ребячливости. Просто он сохранил что-то от свободы, от необузданности подростка. Даже в зрелом возрасте он оставался enfant terrible. И прекрасно сознавал это, заявляя, например, следующее: «Единственное, чего я хочу от жизни, это никогда не стать настолько старым, чтобы побояться дать хорошего пинка священной корове».
Учитывал ли я все это, когда девятнадцать лет назад попросил Бернарда стать крестным отцом Луи? Уже с первого курса в университете он был моим героем. Тогда я благоговел перед ним, он преподавал у нас римское и голландское право. И именно он ободрил меня, едва узнав о моем желании писать. Ему, а не преподавателю литературы, например Джону Пинару, я давал на отзыв мои первые литературные опыты. Его критика бывала убийственной, но неизменно доброжелательной. Хотя однажды он и спустил в унитаз единственный экземпляр моего рассказа.
Его кредо было таково (мне не придумать сейчас соответствующего диалога): если хотите делать дело, то делайте его хорошо или не делайте вообще. Пока вы еще обучаетесь ремеслу и познаете себя, но если будете относиться к делу серьезно, то, несомненно, когда-нибудь напишете нечто стоящее.
Но я не написал. Ближе всего я подошел к этому (если не считать вороха рассказов), когда набросал ряд заметок после нашего путешествия на каноэ. Мне казалось, что в них я прикоснулся к чему-то важному о нем и о себе, о самой природе человека и творчества. Но что-то все же ускользало от меня. Я отпечатал страниц тридцать и уничтожил их. Год спустя начал снова и дошел до пятидесяти. Тут я остановился и решил передохнуть. Сделался бизнесменом. И так далее (и вот теперь, неожиданно!).
Я и сейчас не вполне уверен, что разобрался в истории с нашим путешествием. Все было так давно, а с годами теряешь и себя былого. Вероятно, лучше было бы оставить ту поездку в покое. Я и не стал бы возвращаться к ней, не выдайся мне эти свободные девять дней, сулящие возможность (не стала ли она необходимостью) все рассортировать и классифицировать. Ведь после злополучного уикенда ничто больше не кажется мне ни само собой разумеющимся, ни простым. Впрочем, я повторяюсь. (Уже поздно, я устал, даже старания массажистки стали всего лишь воспоминанием.)
Мы задумали это путешествие еще в университете, но тогда оно не состоялось. Затем Бернард уехал и завел адвокатскую практику, а меня послали за границу. Наша переписка была нерегулярной. В первый год я отправлял ему литературно безупречные письма (и сохранял копии для потомков). Потом перешел на поздравительные открытки.
Через несколько месяцев после моего возвращения из Лондона он без предупреждения приехал ко мне. С годами такие неожиданные визиты вошли у него в привычку, обычно они совпадали с его деловыми поездками в Трансвааль. Но удивительно было то, что каждый раз мы возобновляли наше общение без всяких усилий, словно расстались только вчера. Собственно, Бернард был моим единственным настоящим другом.
К его приезду мы с Элизой еще только приживались на новом месте, и с ней было непросто. Беременная (у нее случился выкидыш за год до рождения Луи), она капризничала и настаивала, чтобы я находился при ней неотлучно. А то, что предложил Бернард, и вообще выходило из ряду вон. Он начал примерно так:
– Ты еще помнишь о путешествии на каноэ?
– Конечно, – ответил я, скорее, по привычке. – Когда-нибудь мы непременно…
– Не когда-нибудь, а теперь. Ты берешь недельный отпуск, и завтра мы едем на Аливал.
– Ты спятил.
– Допустим. А ты? Стал лежебокой?
– Разумеется, нет. Но нельзя же бросаться очертя голову…
– Почему нельзя? Это единственный способ… Решить и сделать. А если начать обдумывать, да взвешивать, да рассчитывать…
– Но мне нужно сначала переговорить с Элизой.
– Скажи, ты сам хочешь поехать?
– Конечно, если бы это зависело только от меня…
– Значит, решено. Мы едем.
– Но послушай, Бернард…
– Ну вот что, Мартин, – он тряхнул головой, откинув волосы со лба; его глаза искрились веселой многозначительностью, столь хорошо мне знакомой, – через год мне тридцать. А ты скоро станешь совсем ручным. И нам обоим будет уже поздно. Или сейчас, или никогда.
Я понимал, что он прав. Мы говорили до глубокой ночи, а затем мне предстояло еще и объяснение с Элизой. На следующий день, когда мы отправились в путь, она не пожелала даже попрощаться. В последний момент я, по правде говоря, чуть не отказался от поездки. Почему же все-таки не отказался? Если пытаться найти ответ, то поневоле нужно признать следующее: и я, и Бернард жили слишком спокойно. Разумеется, он обладал едва ли не уникальной способностью превращать в приключение все, что бы он ни начинал, но если разобраться, то все события в его жизни были вполне предсказуемы и заурядны. Мы не прошли через войну. Мы знали о ней только из радиосводок и разговоров взрослых: «Германия», «Россия», «Черчилль», «бомбежки». Да еще флаги на улицах в день победы. (В тот день меня выпороли дома за то, что я бегал по улицам с маленьким английским флажком.) В нашей жизни не было необычайных событий, были лишь слухи о них. Вероятно, у человека есть врожденная потребность испытать хоть однажды свои силы (и свое ничтожество), поставив их на карту в поединке с реальной и грозной силой. Другие люди в других обстоятельствах бывают обречены на это вопреки собственному желанию. Мы же знали все из вторых рук, и нам пришлось самим пуститься на поиски этой противоборствующей действительности. В моих тогдашних записках я трактовал это как стремление к героизму, как необходимость познать нечто великое и ужасающее. Сейчас же мне кажется куда более важным другое: не наш героизм, не упоение собственным мужеством, а осознание нами нашей чудовищной ничтожности.
На пятый день путешествия нам встретилась стремнина: на расстоянии примерно в сто ярдов река из широкого медлительного потока превратилась в узкий проход между отвесными багровыми скалами, вспенивающийся белыми вихреворотами. Еще издалека мы услышали странный грохот, но сперва не поняли, что это такое. А когда поняли, нас уже несло в стремнину. И тут я впервые подумал: это не приключение, не просто опасность, здесь нам грозит смерть. Раздумывать дольше не было ни времени, ни сил. Мысли взметнулись и застыли. Страх? Разумеется. Ну и чувство, куда более похожее на упоение смертью. Упоение смертью, но не мужество. Отнюдь. Вообще было глупо и совершенно излишне бросаться в эту расселину. Мы еще могли направить каноэ к берегу, вытащить их на сушу и обойти стремнину, но ни один из нас даже не подумал об этом. Не знаю, как Бернард, а я чуть ли не желал несчастья, чтобы потом о нас говорили: господи, что за идиотская смерть!
Ярдов через пятьдесят стремнина делала крутой поворот. Бернард был впереди меня. Я успел только заметить, как его каноэ понеслось, будто подхваченное гигантской рукой. Волны поднимались футов на семь-восемь. Бернард исчез в их оранжевой массе. Наверное, я запомнил эту картину на всю жизнь и всегда буду вспоминать ее куда ярче, чем сцену в зале суда: мускулистая загорелая спина, мокрые белокурые волосы, все тело напряглось в стремлении сохранить равновесие.
Когда он исчез за поворотом, я понял: теперь моя очередь.
И тут меня тоже понесло. Ослепленный брызгами, я ничего не видел, оглушенный грохотом, ничего не слышал. А за поворотом поток выбросил нас во впадину, где мы завертелись меж скал, таких высоких, что солнечный свет не доходил сюда. Наверху закричал орел, его крик как осколок впился в барабанную перепонку.
Бернард снова был передо мной, его каноэ вертелось юлой, но вот он наконец подчинил его себе. Чуть впереди него плыла ива, с корнями вывороченная из земли. Мы увидели, как она медленно повернулась, устремилась к центру водоворота и исчезла в нем.
Я что-то кричал Бернарду, он – мне. Мы неистово гребли. Напрасные усилия. В бушующей воде наши каноэ были двумя ореховыми скорлупками. Каким-то чудом мы миновали водоворот по самому его краю. И даже не заметив, что произошло, снова попали в широкое спокойное речное русло, и само течение вынесло нас на берег. Мы сбросили с себя мокрую одежду и, дрожа, улеглись на солнце. Ни один из нас не произнес ни слова. Через полчаса мы разожгли костер, сварили сосиски и поели. Но и потом продолжали молчать: мы чувствовали, что пережитое нами невозможно выразить словами. Единственное, что мы могли делать, – сидеть молча и есть сосиски.
И вот я сейчас лежу в этой голубой с золотом комнате наедине со всей своей жизнью, попавшей в водоворот, полетевшей в ущелье тех дней, когда все было поставлено на карту. Я еще не знаю, как справлюсь с этим. Но должен справиться.
И все же, Бернард, я не могу понять, почему ты не оставляешь меня в покое? Я не имею никакого отношения к тому, что произошло. Никто не вправе возложить на меня такую ответственность.
* * *
Чарли Мофокенг:
– Конечно, на вас лежит такая ответственность. На вас и на любом белом в этой стране.
– Вы несправедливы, Чарли. Я, так же как и вы, лишь унаследовал определенный порядок вещей. Нельзя же упрекать человека за то, что делали его предки.
– Я упрекаю не за это. А за то, что история вас ничему не научила.
– История научила меня, как выжить в этой стране.
– Вы полагаете? История научила вас никому не доверять, вот и все. Вы так и не научились уживаться с другими людьми. Когда дела становятся плохи, вы грузите вещи и уезжаете или, заслонившись Библией, прицеливаетесь и стреляете. На свободных пространствах вы разбиваете лагеря, окружаете их заборами. А когда вам становится мало своей земли, забираете чужую. С оговоркой об аренде или без оной.
Столь ярая предубежденность характерна для Чарли. Я никогда не относился к его выпадам чересчур серьезно, да. и он, полагаю, не утрачивал по отношению ко мне чувства юмора. Такие перепалки стали для нас своего рода интеллектуальной разминкой. Толковый парень. Из тех, кого называют – в одних кругах с уважением, в других с досадой – башковитым кафром. Один диплом Форт Хейра, второй – Кембриджа. Маленький хрупкий человечек, с причудливым телосложением, похожий на деревце, приостановленное в росте морозами и лишь через некоторое время начавшее расти опять. С вечно голодным взглядом за слишком большими для его лица очками. С улыбкой, похожей на открытую рану.
Возможно, познакомься мы за границей, мы стали бы друзьями. Как в свое время с Велкомом Ниалузой, та дружба была обусловлена не только отсутствием социальных рогаток и препон, но и обоюдной симпатией, которая вспыхнула мгновенно – так частички железа вытягиваются из песка магнитом. Нас объединяла нелюбовь к англичанам (которую разделяет и Чарли). Но не только это (придется снова прибегнуть к романтическим словесам): в той, нордической атмосфере мы хранили друг для друга и друг в друге тепло южного мира. Там, вдали от дома, мы были прочно связаны с этой страной и в то же время, как ни странно, свободны от нее. Глубоко в нас, в генах жила память о горьковатом кустарнике Кару, нестерпимой жаре в горах, кровавых закатах и ночах, полных звезд, о садах, виноградниках и открытых всем ветрам маисовых полях, об изъеденных тысячелетиями скалах, о муравейниках больших городов, о пыльных улицах поселков, голубых фонарях возле полицейских участков, о щелканье цесарок в сухой траве, семенящих следах песчанок и дыме костров – мы оба тосковали по всему этому и часами предавались воспоминаниям, сидя ночами на тротуаре и потягивая молоко из пакетов.
Что-то от своего отношения к Велкому я перенес и на Чарли. Не знаю, потому ли, что его низкий голос был похож на голос Велкома, или просто потому, что тот был единственным чернокожим, которого я более или менее знал, так что, общаясь с Чарли, мне приходилось опираться лишь на свой скудный опыт. Но с Чарли мы по-настоящему так никогда и не сблизились. Ничего удивительного. Мы работали рука об руку, у нас бывали споры, случались и добродушные перепалки. Правда, не надо забывать и ту поездку в Соуэто. Время от времени я приглашал его к себе, когда мы принимали иностранцев, но тут всякий раз возникали сложности с прислугой.
В общем, мы с Чарли неплохо ладили. Не без оснований отмечу, что я, африканер, умел обращаться со своим чернокожим. У нас было много общего: история страны, происхождение из сельской местности; несколько столетий и его, и мои предки были один на один со здешним диким краем, осваивали его, боролись с ним, а не пришли на готовое, как англичане, – мы оба, как бы ни атрофировалось у нас племенное чувство (аргумент Чарли), не забывали о своих корнях. В каком-то смысле мы с Чарли уважали друг друга.







