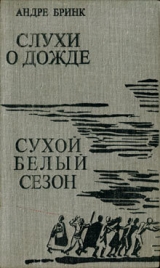
Текст книги "Слухи о дожде. Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
– Ты любил ее?
– Конечно, любил.
– Ты тогда сказал, что хочешь прожить с ней до старости.
Он поглядел на меня.
– Мне и сейчас ничего не хотелось бы так сильно, как этого, – ответил он, – Но для человека в моем положении, уже сделавшего свой выбор, брак – это эгоизм. Это бегство. На меня нашло временное затмение. Господи, неужели мне не хочется иметь дом и вести нормальную семейную жизнь? Но я не могу думать только о себе.
– А ты когда-нибудь думал о Реньете?
Он снова поглядел на меня.
– Я о ней в основном и думал.
Я не мог больше мучить его. Было видно, как расстроил его этот разговор. Мне хотелось все узнать поподробнее, но я был не в силах причинять ему страдание.
Не менее тяжело было сообщить о нашем разговоре Реньете. (Да и что тут было сообщать? Что я мог сказать ей? Разве я был вправе решать их судьбы?)
Я старался говорить как можно уклончивей.
– Давайте повременим, – предложил я в конце разговора. – Он сейчас очень издерган.
– Вы что-то скрываете от меня. Вы меня жалеете.
– Не в том дело, Реньета.
Я налил ей еще рюмку из заказанной ранее бутылки. Мы сидели у нее в номере. После ужина мы пошли прогуляться, но было слишком холодно, она устала и не протестовала, когда я поднялся вместе с ней. К этому времени между нами возникла странная, даже несколько опасная интимность, словно Бернард самим своим отсутствием пропустил сквозь нас электрический ток. И потом эти жесты, интонации, столь напоминающие Элизины, но исходившие от другой женщины, оказывали на меня чрезвычайно сильное воздействие. Будто я снова ухаживал за собственной женой, будто чудом испарились куда-то почти пятнадцать лет и я вернулся к кому-то, кого давно утратил, – к девушке, в тот жаркий полдень купавшейся в холодной воде.
Вдруг она начала плакать. Это произошло неожиданно, она казалась совершенно потерянной, ее отрешенный вид пугал меня. Я не мог видеть, как она плачет. Я сел рядом и обнял ее, успокаивая как маленького ребенка, как Ильзу. Обнимая ее крепче и крепче, утешая и лаская, я почувствовал нарастание желания, все более и более бесконтрольного. Раскачиваясь из стороны в сторону и в отчаянии прижимаясь ко мне, она тоже как-то переменилась. Наше объятие стало мучительной судорогой любви. Казалось, мы готовы задушить, разорвать на части, убить друг друга в нашем безудержном стремлении уничтожить самих себя.
Были мгновения, когда все у меня в голове мешалось, когда я в самом деле думал, что сжимаю в объятиях Элизу первых дней нашей любви, еще до женитьбы. Но со странным чувством – словно не я обладаю ею более полно, но она более полно принадлежит мне.
Поздно ночью, помню, я сидел на краю постели, уронив голову на руки. Реньета лежала неподвижно, ее смятое и разорванное платье задралось.
Хотелось сказать: мне очень жаль. Но чего? Мы никого не обидели. Мы согрешили, и оба несли за это ответственность. Мы совершили это вместе. И все же я был подавлен непоправимостью происшедшего.
Я прикрыл ее простыней. Она не пошевелилась. Вдруг я с ужасом подумал: господи, а если она умерла?
Но она открыла глаза и спросила:
– Собираешься уходить?
– Уже очень поздно.
– Да, конечно.
– Реньета, завтра я непременно…
Она помотала головой и закрыла глаза.
– Нет, не надо.
– Я имею в виду…
– Я поняла. Но это уже не нужно. Завтра я уеду домой.
– Но, Реньета, ведь ты еще…
На ее губах с размазавшейся помадой появилась усталая усмешка.
– Может, ты мне в самом деле помог. Так или иначе, теперь все кончено.
Я хотел возразить, но, поглядев на ее закрытые глаза, промолчал. Выключив свет, словно надеясь вычеркнуть эту картину из своего сознания, я вышел и пешком спустился с пятого этажа, по какой-то маловразумительной причине не воспользовавшись лифтом.
Может быть, так и в самом деле лучше, думал я на обратном пути в машине. Я уберег Бернарда от лишнего тура объяснений и необходимости принимать решение, ее – тоже. Действительно, так лучше для нас всех. И ни о какой вине не может быть и речи. Разве я несу хоть какую-то ответственность за них?
Самым странным было, выйдя из ванной, увидеть Элизу, мирно спящую в постели. Было нечто необъяснимое в том, какой нетронутой и непорочной она казалась. Лишь засыпая, я понял в чем дело: все в порядке. Никто не насиловал моей жены. Даже я сам.
9
Позади нас, отражаясь в зеркале заднего обзора, вспыхнули огни Каткарта. Над шоссе поплыл, сгущаясь, туман. Выехав на прямую за несколько миль до Статтерхайма, я сбавил скорость до сорока миль. Время от времени, когда мы поднимались на вершину холма, из тумана выплывал участок голой дороги, а внизу под нами ползли серебристые облака в невероятном, магическом освещении. Но я не был расположен любоваться пейзажем. Моими мыслями владела ферма, навязывая воспоминания.
Я остановился у ворот, за которыми начиналась территория фермы. Луи вышел из машины, растаял в темноте и некоторое время провозился с воротами. Ему пришлось открывать их вручную, приводного механизма почему-то не было. Скорее всего, украден черномазыми мальчишками. Только не уследи, растащат все.
Когда Луи наконец справился с воротами, послышался собачий лай и голоса из хижин, расположенных за домом. Кое-где виднелись огни костров. Два года назад они спалили своими кострами все сено. Нам пришлось покупать корм для скота. Кроме того, во время пожара сгорел ребенок. Дорога к дому была в жалком состоянии, сплошные рытвины и камни. Я вздрогнул и забеспокоился, когда в тело «мерседеса» врезался здоровенный камень. Что бы ни говорила мать, но на ферме без мужской руки не обойтись. Там, где дорога круто сворачивала вправо, огни терялись в темноте. Оттуда слышались голоса. Расселина, прорезавшая кишки земли задолго до появления здесь человека. Возможно, этот сдвиг обнажил более глубокие и плодородные слои почвы, а может быть, края расселины обвалились, открыв дорогу для воды. Ибо в былые дни долина была воистину цветущей и райской, заросшей девственным лесом, с родниками и источниками: здесь росли даже пальмы и папоротник, хлебное дерево и дикие фиговые деревья, кустарник и неприхотливые алоэ.
У ограды, увитой зеленью, я остановился и хотел снова послать Луи открыть ворота, но кто-то уже открыл их. Три огромные дворняги мчались к машине, заливисто лая и размахивая хвостами, в свете фар они казались молодыми львами. Я проехал мимо сарая, в котором стояли разбитый фургон и трактор. Рядом валялась сломанная борона, под деревом пара старых шин, чуть подальше виднелись птичник и низкая стена свинарника.
Выключив фары, я увидел мать, поджидавшую нас у дверей кухни, возле цистерны с водой: высокая, прямая, жилистая, седые волосы собраны в тугой узел. На ней был грязный белый передник поверх рабочего комбинезона. Спокойная, практичная, не управляемая другими женщина, какой я знал ее всегда, женщина, никогда не делавшая скидок на свой возраст, даже теперь, в семьдесят лет. И все же, лишь темным силуэтом просматриваясь сейчас на фоне освещенной кухни, она казалась очень одинокой – тем одиночеством, которое присуще людям, никому не позволяющим заглянуть себе в душу, за деятельный или гордый фасад, и о котором, может быть, они сами не подозревают.
В руках у нее было что-то похожее на младенца. Подойдя ближе, я разглядел, что это и в самом деле был ребенок, спокойно и уютно лежавший у нее на руках. Так она меня и поджидала.
Я поцеловал ее. Одной рукой – в другой у нее был ребенок – она обняла меня и прижала к себе с порывистостью, сильно контрастирующей с ее гордой осанкой. Когда она отпустила меня, на глазах у нее были слезы. Чтобы не смущать ее, я сделал вид, будто ничего не заметил.
– Ты поздно, сынок. – Даже в шестьдесят я останусь для нее сынком. – Что-нибудь случилось?
– Да нет. Просто не смогли выехать раньше из Претории.
– А что ты делал в Претории?
– Были дела, – коротко ответил я и позвал Луи: – Принесешь вещи, хорошо?
– С тобой только Луи? Ты ничего не сообщил в телеграмме, и я все гадала.
Я не понял, разочарована она или обрадована.
– Приехать всем семейством не удалось.
– Элиза не захотела? – подозрительно спросила она.
– Ильзе нужно в школу, мама.
Она отвернулась и поглядела на подошедшего Луи.
– Боже мой, ты стал настоящим мужчиной за то время, пока мы не виделись.
Он нахмурился и, проходя в дом, наклонился, чтобы она могла поцеловать его.
– С ним стало трудновато после Анголы, – сказал я, понизив голос.
– Его дед гордился бы им. Они ведь задали перцу этим террористам, правда? Он помогал делать историю.
– Я не очень уверен в этом. – Я прошел следом за нею на кухню. – А чей это ребенок?
Она повернулась ко мне и откинула край одеяльца, приоткрыв черную головку с огромными глазами.
– Мать принесла его сегодня днем. Желудочный грипп. Пытаюсь подлечить его. Эти люди, знаешь, всегда ждут до последнего.
– Добрый вечер, баас, – послышалось из угла кухни.
Я увидел чернокожую старуху.
– Добрый вечер, Кристина. Как живешь-можешь?
– Хорошо, баас. Спасибо, баас.
– Давай, поторапливайся, – сказала ей мать. – Ставь ужин на стол. Нечего стоять, будто на тебя столбняк нашел.
В кухне была еще одна чернокожая женщина. Я разглядел лишь молодое лицо с высокими скулами и блеск глаз. Она опустила голову, когда заметила, что я смотрю на нее.
Мать отдала ей ребенка.
– Держи его, Токозиль. – Она говорила на коса. – Если проснется ночью, дай ему лекарство. Утром можешь снова принести его ко мне.
Она прошла вслед за мной через столовую в комнату для гостей.
– Я приготовила постель в моей комнате, думая, что ты приедешь с Элизой. Но вам с Луи, наверное, будет лучше здесь.
Белые, туго накрахмаленные покрывала на постелях, тусклое поблескивание медных шариков на спинках кроватей. В комнате пахло мастикой и мылом. Около умывальника висели чистые полотенца.
– Располагайся, сынок. А потом приходите ужинать.
– Я не хочу есть, – сказал Луи, когда она вышла.
– Ну что-нибудь проглотить тебе придется. Ты же знаешь бабушку.
Он все же пошел ужинать. В столовой, освещаемой газовой лампой, нас ожидал обильно уставленный стол.
– Вы долго ехали, нужно подкрепиться, – сказала мать. – Помолимся, сынок?
Я машинально прочел молитву:
– «Хлеб наш насущный…»
Мать принесла копченую баранью ногу, копчением она занималась еще при жизни отца. Потом стала наполнять наши тарелки. Жареный картофель, сладкий картофель, рис с изюмом, компот из персиков, всевозможные овощи. Одному богу известно, где она раздобыла все это среди зимы.
В кухне заплакал ребенок.
– Закрой среднюю дверь, Кристина, – громко крикнула мать, не отрываясь от своего занятия.
Тускло горела газовая лампа.
– Что с генератором? – спросил я. – Ты сидишь без электричества?
– Вышел из строя позавчера. А этот Мандизи когда хочет, тогда и делает. Говорить с ним бесполезно, он просто смотрит на тебя и молчит.
– Я завтра разберусь.
Она засмеялась:
– А что ты в этом понимаешь? Пусть уж лучше Луи попробует. У него руки ловкие.
– Я разберусь с Мандизи.
– Если он тебя послушает.
– Как ты можешь жить здесь одна, полагаясь только на свои силы? Так долго не может продолжаться.
– А, не начинай все сначала, сынок. Здесь могила твоего отца, здесь должны похоронить и меня.
Сейчас мне не хотелось углубляться в эту тему. Мы ели в молчании. Луи только ковырял еду на тарелке.
– Ты так и не сказал, зачем приехал, – обратилась ко мне мать, когда Кристина унесла посуду. – Так вдруг, всего на несколько дней.
В коридоре часы пробили половину чего-то. Должно быть, половину двенадцатого.
– Поговорим завтра. Сегодня мы все устали.
– С твоим сердцем опасно ездить так далеко.
– Я прекрасно себя чувствую.
– По-моему, ты похудел.
Кристина принесла кофейник, три большие белые чашки и сахарницу.
– Мне без сахара. Спасибо, мама.
Ночь тяжело навалилась на нас. За дверью снова заплакал ребенок. Мать вышла. Я попытался разглядеть выражение лица Луи.
– Устал, Луи?
– Не слишком.
– Пора спать. Завтра будет трудный день.
– Что я должен делать?
– На ферме дел достаточно. А начать можно с хорошей прогулки.
– Зачем ты привез меня сюда?
– Я думал, тебе будет полезно развеяться.
Он не ответил.
Спустя несколько минут я встал, прошел по коридору и вышел во двор. Черные очертания холмов, отчетливо видимые в свете луны, обступали меня со всех сторон. Там, где долина переходила в темное узкое ущелье между двумя рядами холмов, серебристый туман смягчал очертания. Завыл шакал. Слушая пение цикад, я расстегнул брюки и стал смотреть на игру лунного света в тонкой струе. Луи вышел из дому и, остановившись неподалеку, последовал моему примеру. В темноте благодаря такой вот ерунде мы вдруг снова сделались союзниками.
За маслобойней находилось наше фамильное кладбище. Чувствуя странный порыв спуститься туда, я подавил его и направился вместе с Луи к дому. Дом смотрел на нас черными, слепыми окнами.
– Я принесла вам лампу, – объяснила мать, поджидавшая нас в комнате.
– Я предпочитаю свечи, – сказал я. – С ними как-то уютней.
– Как хочешь. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, мама. Спи и ни о чем не беспокойся.
– О чем мне беспокоиться? – невозмутимо возразила она.
Высоко держа седую голову, она пошла по коридору к себе; ее тень двигалась впереди нее. Мы погасили свечи, и в комнате остался знакомый тяжелый запах воска. Ночь постепенно овладевала домом, словно огромный черный мужчина, овладевающий покорной женщиной.
Я слишком переутомился, чтобы заснуть. Слишком много воспоминаний нахлынуло на меня. Всего, что связано с запахом воска. Каникулы на ферме у моего друга детства Гейса, каникулы здесь, на этой ферме, куда мы приезжали с отцом, матерью и Тео, чтобы навестить дедушку с бабушкой. Тогда я спал в этой самой комнате или же на веранде; а иногда, если дом был переполнен гостями, тетушками, дядюшками, двоюродными братьями и сестрами, я спал на матрасе, набитом сухими листьями, на полу в углу дедушкиной комнаты. Уютный шорох, когда повернешься с боку на бок в волнующей, безопасной темноте. Свечи возле постели с балдахином, две фигуры, коленопреклоненные в молитве, словно две опары, прикрытые сверху и поставленные на ночь возле огня.
Комната Бернарда в пристройке и наши бесконечные разговоры. Воскресная ночь после визита Элизы. А если я скажу тебе, что решил жениться на Элизе? – Эта крошка – дикарка. – Надеюсь, я в силах укротить ее. Молодой преподаватель, спасший нас с Гретой от исключения после уикенда в горах просто потому, что он не мог устоять перед искушением вмешаться в чужие дела. Так же как он затеял спор из-за мужа служанки на заднем дворе. Разговор о самоубийце с синим кругом вокруг пупка (и толстый ковер, залитый кровью). Музыка: Моцарт, ларгетто, Шнабель. Настойчивость в его голосе, когда он говорил на прощание: Пожалуйста, возвращайся поскорее. Скажи тетушке Ринни, что я ее обожаю. Развлекись немного и возвращайся. Я буду ждать тебя.
Загорелая мускулистая спина и белокурая шевелюра в каноэ передо мной, медленно затягивающее кружение водоворота, костер на берегу, дымок, поднимающийся вверх в прозрачном воздухе. Выстрелы разъяренного фермера, маленькое кафе, разбитная официантка, телефон на стойке.
Глубокой ночью мужчина и женщина в полутемной комнате, символическое соприкосновение рук вокруг рюмки, обращенные друг к другу лица, выражение невосполнимой потери. Воспоминания длиной в полжизни. Человек, преследующий меня как совесть, даже на этой глухой, далекой ферме, где я надеялся спастись от него. Умываешь руки? – Вовсе нет. Я сжимаю кулаки.
Потеря, утрата, растрата. Все постепенно уменьшается, сжимается, съеживается. (А сколько, собственно, длится пожизненное заключение?)
Перебирая воспоминания, я просто отодвигал неизбежное – то, что мне не хотелось вспоминать, но сопротивляться чему в моем усталом беззащитном состоянии не было сил.
Было бы легче, если бы он не произнес тех слов в суде. Но он хотел сказать, что мне тоже придется разобраться во всем. Вероятно, еще некоторое время можно было избежать повторного ареста. Но так легко ошибиться в оценке ситуации, обстоятельств или друга.
В ту ночь, когда на моем столе зазвонил телефон – это был приватный номер, известный лишь Элизе, Беа и нескольким моим подчиненным, – я был занят закупочным контрактом. Потянувшись за трубкой, я машинально взглянул на часы. Двадцать минут двенадцатого.
– Мартин? Слава богу, что ты еще здесь. Я пыталась найти тебя дома.
– Что случилось, Беа?
– Не заедешь ли за мной к шаману?
– К шаману?
– Забыл? Я водила тебя туда однажды.
– А что ты там делаешь в такое время?
– Приезжай немедленно, ладно?
Не дожидаясь ответа, она повесила трубку.
За все годы жизни в Йоханнесбурге я ни разу не ходил пешком по Диагональ-стрит, пока Беа не повела меня туда. Это было на нее похоже. Лавка шамана с яйцами грифов, шкурами, мехом, когтями, рогами и экскрементами животных, бесполезными благовониями и хозяином-индийцем, взиравшим на пришельцев с невозмутимостью темной деревянной маски; снаружи крики уличных торговцев, жутковатые типы, дремлющие, прислонившись к столбам, покрытым исцарапанной и облупившейся краской. Все выглядело довольно скверно даже при свете дня. Ночью же это означало скорую и верную смерть.
Раздраженный и озабоченный, я отложил работу – еще полчаса, и я бы с ней управился – и спустился в гараж на первом этаже. Выйдя как тень из-за колонны, ночной сторож скинул с двери цепь.
– Спасибо, Георг. Я, возможно, еще вернусь.
Улицы были теплые и сырые. Не тот дождь, которым кончается засуха, а грязная морось, от которой чувствуешь себя зябко и неуютно. Заплесневелая февральская жара прилипла к темным домам, вокруг фонарей висело мрачное шарообразное сияние.
Диагональ-стрит. Я затормозил, проверяя, заперты ли дверцы машины. На другой стороне улицы стояли под чехлами несколько пустых тележек для фруктов. Все витрины закрыты решетками и ставнями, за которыми виднелись груды таинственных и наверняка дурно пахнущих товаров. Слава богу, что вскоре всю улицу будут сносить.
Я остановился на некотором расстоянии от тротуара, не решаясь выйти из машины. Что-то шевельнулось за колонной. Я держал ногу на акселераторе, чтобы при необходимости рвануться с места. Из тумана вынырнула фигура. Женщина, слегка прихрамывающая. Не Беа, незнакомка была старой и приземистой.
Неужели ловушка? Не сымитировал ли кто-то голос Беа по телефону? Нет, ошибиться я не мог: в нем была ее итальянская округленность гласных, легкий нажим на двойных согласных. По крайней мере в том, что звонила именно она, сомнений не было.
Опустив стекло на несколько дюймов, я спросил:
– Где Беа?
– Я отведу вас к ней, – ответила женщина странным фальцетом.
Я еще больше насторожился. Но беспокойство за Беа заставило меня открыть дверцу. От женщины пахло мокрыми тряпками.
– Может, вы все-таки скажете мне…
– Сначала уберемся отсюда, – раздался мужской голос.
Я онемел.
– Не пугайся, Мартин, – сказал незнакомец. – Все в порядке.
Я отказывался верить своим ушам. В такое время, в таком месте можно ожидать чего угодно, хоть колдовства.
– Ты что, и вправду не узнал меня?
Мы уже проехали несколько кварталов, женщина сняла шляпу, а потом и парик.
– Бернард!
Его смех я не спутаю ни с чьим.
– Сначала выедем за город.
Ничего не понимая, я проезжал улицу за улицей, пока не пришел немного в себя. Мы ехали по старой заброшенной дороге к шахте. По обеим сторонам стояли деревья, потрепанные и жалкие в ночном тумане. Дворники ходили туда-сюда, размеренно и монотонно. Наконец мы остановились. Капли дождя, стекавшие по стеклам, отделяли нас от внешнего мира, словно рыб в аквариуме.
– Откуда ты, Бернард? Где ты был все это время? Где Беа?
– Беа у себя дома. Она не хотела объяснять тебе все по телефону. Ее телефон может прослушиваться. Ты должен мне помочь.
– Как? Чем?
– Для начала дай-ка сигарету.
– Ты раньше не курил.
– Дурные привычки приходят с годами.
Он взял сигарету, я щелкнул зажигалкой и подождал, пока он прикурит.
– А теперь рассказывай все по порядку.
– Ну, не все. – Он подержал дым во рту и, не затягиваясь, выпустил его.
– Почему ты бежал из тюрьмы?
– У меня не было выхода. Надо было закончить то, что начал.
– А что ты начал?
– Так, одно дело. – В темноте мне показалось, что он улыбнулся. – Не задавай ненужных вопросов, Мартин. Лучше просто выслушай меня. Я не хочу лишать тебя сна на всю ночь.
– Ну ладно, давай о деле.
– Ты должен помочь мне скрыться на некоторое время. Они за мной гонятся.
– Не понимаю.
– Тайная полиция внедрила своего человека в нашу организацию.
– Значит, организация все-таки существует?
– Разумеется. – Он снова сунул в рот сигарету. – Я никогда не доверял этому подлецу, но придраться было не к чему. А в прошлом месяце мы получили неопровержимые доказательства, что он агент. Но я сделал вид, что ничего не подозреваю. Понимаешь? Он считал, что мы работаем в определенном направлении, а мы работали в прямо противоположном. Но это война нервов. И теперь, мне кажется, он все понял. Они взяли на заметку нашу явку в Претории. Я и близко не могу туда подойти. Но если я исчезну на неделю-другую, я собью их со следа. Жизненно важно запутать их.
– Но как я…
– Тебе не надо ничего знать. Я не хочу втягивать тебя в это дело. Ты просто дашь мне ключ от своей квартиры, и я поживу там две недели. После этого, обещаю, я исчезну с лица земли.
– Но почему ты просишь меня?
– А кого же еще?
– Господи, Бернард! – Я не знал, что сказать.
– Помнишь тот вечер, три года назад, во время суда над «террористами»? – неожиданно спросил он. – Когда мы начали разговор у тебя на квартире, а потом ты уехал на вечеринку к тетушке Ринни?
– Да, и что же?
– Что-то было в нашей беседе в тот вечер, может, я и ошибался, но мне хотелось поговорить с тобой. Я хотел рассказать тебе все начистоту, чтобы ты помог мне. У меня тогда возникли сомнения. Казалось, все пошло псу под хвост. Я боялся, не совершил ли я ошибку. – Он запнулся. – Впрочем, это не важно. К чему обременять тебя ненужными воспоминаниями.
– Потому ты так и просил меня поскорее вернуться с вечеринки?
– Да.
Я сразу все вспомнил. Мне стало тошно.
– Ладно, забудь, столько времени прошло. Тот факт, что мы оказались не в состоянии поговорить откровенно, помог мне собраться с мыслями. На счастье или на горе. В конце концов, той ночью у меня хватило времени, чтобы разобраться во всем самому.
– А теперь ты просишь…
– Ключ, и ничего более. Тебе даже не нужно там появляться. Если что, я просто взломал дверь.
– Почему же ты не сделал этого?
– Кажется, это слишком опасно. А кроме того, – из темноты на меня снова смотрела незнакомая старуха, – кроме того, я хочу быть честным с тобой. Ты сам должен принять решение, я не хочу морочить тебе голову.
– Лучше бы ты мне ничего не говорил.
– Я сказал тебе не более, чем нужно для того, чтобы принять решение.
– А если я откажусь?
Он пожал плечами.
– Бернард, ты не представляешь, на какой риск я пойду, если…
– У каждого в жизни бывает момент, когда нужно решать все самому и с открытыми глазами. А потом наступает день или ночь, когда уже поздно. – В своем прежнем задиристом тоне он спросил: – Ну, так как?
– Бернард, если бы я был свободен, как ты…
– Разве каждый не сам отмеряет меру своей свободы?
– Я женат. У меня дети. У меня ответственная работа. Неужели ты не понимаешь…
Он ничего не ответил.
– Господи, дружище, ты же знаешь, если я действительно могу для тебя что-то сделать…
– Ты можешь дать мне ключ и забыть об этом. Больше я ничего не прошу.
– А если они тебя выследят?
– Ты будешь отрицать свою причастность к этому. Всю ответственность я беру на себя.
– Ввязываясь в такое дело, ты должен был предполагать, что рано или поздно тебя поймают.
– Не читай мне мораль. Я пришел сюда не для того, чтобы на коленях просить у тебя прощения.
– Зато я на коленях прошу тебя. Ну подумай, Бернард, почему бы тебе не бросить всю эту дурацкую затею?
– Не будь наивным.
– Если ты сдашься сам, ты сможешь уломать присяжных, я уверен.
– Хорошего же ты обо мне мнения, Мартин. И это после всего, что мы вместе пережили.
– Ну, если такова твоя позиция, ты не вправе требовать, чтобы и я тоже…
– Больше я от тебя ничего не требую. – Он опустил стекло, в машине стало прохладнее. Выбросив окурок, он снова закрыл окно. – Поехали.
– Я не могу просто отвезти тебя обратно.
– Тогда я выйду здесь.
– Не будь идиотом, я не это имел в виду.
– Мне плевать, что ты имел в виду. Поехали.
Никогда в жизни я не испытывал столь настоятельного желания говорить и говорить, но сказать было нечего.
На подъезде к городу он сказал, чтобы я остановился.
– Я могу еще тебя подвезти.
– Нет, не хочу, чтобы ты рисковал.
Я не понял, издевается он или говорит серьезно. Я остановился и помимо воли сунул руку в карман, где тотчас же нащупал холодный металл ключей. Но он уже хлопнул дверцей и вышел, не сказав ни слова. В зеркале заднего обзора я увидел его в последний раз: усталая старая женщина с понурыми плечами, в широкополой шляпе, идущая под изморосью, падающей на гнусный мир.
Два дня спустя его арестовали.
Во всяком случае, я ни на кого не сержусь и никого не обвиняю: ни друга, ни полицейского. Каждый из них поступил так, как подсказало ему его чувство долга. Это его собственные слова. Так почему же я продолжаю думать об этом? Все уже позади. Никто не вправе был ожидать, что я позволю втянуть себя в такое. У меня своя жизнь и свои обязательства. Смешно даже предполагать, что я хоть в малейшей степени ответствен за то, что произошло. Когда-то давно он сам сделал свой выбор. Меня он тогда не спрашивал.
* * *
Еще о многом нужно написать. Мне предстоит рассказать, как было дело с отцом, с Луи, с Беа. Но с Бернардом я наконец разобрался. Слава богу. Теперь с этим покончено. Отныне его имя не должно больше всплывать в моей рукописи.
* * *
Ночь стояла холодная, но под пуховым одеялом было тепло и уютно. Я слышал, как скребутся мыши на чердаке, за тяжелыми сводами потолка. На пороге, рыча и храпя, спала собака. Время от времени стрекотали сверчки. А снаружи доносился знакомый с детства таинственный звук: что-то вроде поскребывания черпаком по камню. Ночная птица или какое-то животное? Я никогда не мог узнать. Что-то было в нем странное, ночное.
Я снова на ферме, в окружении знакомых с детства, удобных и добротных вещей; мои родичи спят; одни на кровати, другие на кладбище – целая история. Я должен чувствовать себя в безопасности и под защитой. И все же я знал – или, вернее, знаю сейчас, задним числом, когда пишу эти строки в Лондоне, – что подобно тому, как все двери и окна дома были беззащитно открыты ночи, я был слишком встревожен и уязвим, чтобы убежать от всего ожидавшего меня. И погружение в сон напоминало погружение в воду и тину – и я беззвучно звал на помощь, но никто не бросался с берега, чтобы помочь мне.







