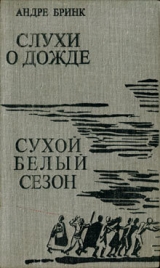
Текст книги "Слухи о дожде. Сухой белый сезон"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
* * *
Я ехал обратно, сощурив глаза, чтобы лучше видеть; маленький фургон подпрыгивал и плясал по паршивой дороге, оставляя позади облака пыли. Наконец я въехал на плато и затормозил у ворот. Оборванцы уже готовы были подбежать, но, разглядев меня, в нерешительности остановились, хорошо помня, что в прошлый раз я не дал им денег. Я громко просигналил. Они продолжали о чем-то совещаться. Наконец я открыл дверцу, и это решило их сомнения.
Миссис Лоренс права, подумал я. Они чересчур обнаглели, даже такие маленькие сорванцы. Я бросил им горсть монет и с улыбкой глядел, как они дерутся и катаются в пыли, деля добычу. Я не подал им милостыню, а просто поблагодарил за маленькую услугу, оказанную на этот раз без всякого требования награды.
Напрягая зрение, я разглядывал глубокие, ржавого цвета трещины по обе стороны дороги. Если засуха продлится, у матери не останется другого выхода, как уехать отсюда. Не только у нее, но и у всех здешних фермеров. Казалось, засуха взялась избавить землю от нас. Кроме купли и продажи, экономики и политики, белой и черной расы есть еще сама земля, и в такие времена, как нынче, становится ясно, что она терпит нас только из-за своей снисходительности.
Неприятно было думать о том, как просто с нами управиться. Когда, завершив учение в Стелленбосе, я покидал дом тетушки Ринни, мне понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать вещи и привести в порядок комнату. Тот, кто поселился в этой комнате после меня, наверняка так никогда и не узнал о моем существовании – настолько тщательно я уничтожил все следы своего пребывания там. То же самое было в Лондоне, когда мы с Элизой покинули квартиру, отправляясь домой после Двухлетнего пребывания в Англии. Два года нашей жизни протекли в этой крошечной квартирке, но уже в день отъезда, когда вещи были собраны и унесены, от нас там буквально ничего не осталось. Насколько же страшнее все это будет, когда однажды сама земля возьмется стирать следы нашего присутствия на ней. Никто не знает, когда это может случиться. Самое неприятное в том, что все это, возможно, уже давным-давно, миллионы лет назад, предопределено в самой земной коре. Ведь, к примеру, падучую звезду мы видим лишь вечность спустя, после того как она сгорела.
Два года назад на шахте возле Карлтонвилла случилась авария: во время работ затронули какой-то пласт и рухнула скала; ошибка геологов всего, может быть, на микрон привела к катастрофе, уничтожившей всю шахту. Катаклизм, предуготованный миллионы лет назад, который, разумеется, нельзя было предугадать (эту мысль высказывал еще Кальвин). Когда мы поняли, что, собственно, произошло, земля уже тряслась, опоры рушились, своды в штольнях обваливались. Было погребено заживо более двухсот человек, четверо из них – белые. Никогда не забуду этого зрелища. Толпа в туче красной пыли, четыре белые женщины, коленопреклоненные в молитве, сотни черных женщин, стоящих с другой стороны, сперва в гробовом молчании, а затем с горестными завываниями, не смолкавшими всю ночь. Прожекторы, бульдозеры и краны, женщины, разносящие кофе. Прибыла даже Армия спасения и организовала два молитвенных собрания – для белых и для черных отдельно. Маленький хор мужественно пел на пронизывающем ветру, щеки стариков, дувших в трубы, покраснели от холода. И журналисты. Бесчисленные интервью с четырьмя белыми женщинами. Когда из земли наконец были извлечены около тридцати трупов – все чернокожие, – работы по спасению прекратили. Остальные остались лежать под тоннами камня и праха. Продолжать раскопки было бессмысленно и чрезвычайно опасно. Шахту пришлось списать в расход. Потеря нескольких сотен тысяч.
Подъезжая к дому, я подумал: когда это повторится снова, теперь уже с нами со всеми? Когда земля решит окончательно избавиться от нас, подобно собаке, стряхивающей с себя блох?
Я расстроился. Пора было образумить мать. Ферма уже ни на что не годилась.
Сколько времени уйдет на сборы? Самое большее неделя. И останутся только могилы.
На заднем дворе я увидел старого водоискателя и его помощника, грузившего в пикап свой сундучок. К несчастью, я прибыл как раз вовремя, чтобы еще раз пожать вялую липкую руку мистера Шольца.
– Нашли воду? – насмешливо спросил я.
– Да, – ответил он по-прежнему угрюмо, словно упрекая меня. – Да, как я и думал. Течет как раз здесь, под домом. – На секунду в его безжизненных глазах вспыхнули злорадные огоньки. – Но очень глубоко. И твердый камень. Почти невозможно к ней пробиться.
8
Обед начался довольно мирно, даже с некоторым дружелюбным юмором. Но подводные течения ощущались весьма отчетливо. Мы доплыли уже до середины субботы, а мать все еще упрямилась. Вероятно, мне следовало надавить на нее раньше и посильнее. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы церемониться. И все же нужно выбрать подходящий момент, иначе все будет проиграно.
Я заметил, что Луи сел за стол с перепачканными маслом руками, но, встретившись с молчаливым предостережением в глазах матери, ничего не сказал ему, хотя не сомневался, что он сделал это нарочно. То ли на него подействовало мое молчание, то ли он чувствовал себя виноватым за утреннюю сцену, а может, возня с движком успокоила его, но, так или иначе, он был расслаблен и дружелюбен, таким я его уже давно не видел.
– Как ты думаешь, Луи, тебе удастся починить движок? – спросила мать, передавая ему полную тарелку.
– Не знаю, бабушка. Его придется полностью перебрать. Но думаю, все будет в порядке. Просто нужно хорошенько смазать.
– А не прислать ли тебе кого-нибудь в помощь?
– Хорошо бы.
– Я скажу Мандизи. Сегодня суббота и до вечернего доения он не занят.
– А разве у него это не свободное время?
– Да, но приработок ему будет весьма кстати.
Она позвала Кристину и передала ей распоряжение Для Мандизи.
– Я заметил, что некоторые мальчишки разгуливают совсем нагишом, – сказал я, когда Кристина вышла.
– Ничего не могу с ними поделать, – вздохнула мать. – Я раздаю их родителям старые вещи, а они выменивают их на выпивку. Что тут скажешь? Я делаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить их мясной пищей и одеждой, но буквально каждый месяц неизвестно откуда появляются новые бродяги, и их становится все больше.
Этого момента я и ждал.
– А стоит ли тратить на них силы? Дела с каждым днем идут все хуже и хуже. Скажи честно, не лучше ли расстаться с фермой, пока это еще можно сделать, не роняя собственного достоинства?
– Разве бегством можно решить проблему?
– Это не бегство. Просто разумная оценка обстоятельств.
– Ты сегодня настырен, сынок.
– А ты не хочешь ничего понимать.
– Я все прекрасно понимаю, но я не хочу продавать ферму.
– Что это за разговоры о продаже фермы? – спросил Луи.
– Твой отец хочет продать нашу ферму.
– В первый раз слышу, – с удивлением сказал он.
– Если бы ты чаще бывал дома, то давно бы уже услышал, – холодно заметил я, раздосадованный его вмешательством. – Тебя целыми днями не видно.
– А когда видно, то ты велишь, чтобы меня не было слышно.
Я не желал вновь попадаться на его удочку. И, обращаясь только к матери, спросил:
– Ну, а ты можешь привести хоть один разумный довод против продажи?
– Я тебе уже говорила. Здесь похоронен твой отец.
– Послушай, мама. – Я знал, что сейчас нужно выбирать слова особенно осторожно, но говорить следует весьма жестко. – Отец мертв. А нам нужно жить, вернее, выжить. Что такое могила, если подумать серьезно? Яма и горсть костей.
На мгновение стало совсем тихо. Было слышно, как на кухне моют посуду.
– Нельзя же перемолоть все кости на удобрение, – сказала мать. Она подняла на меня глаза: – В кого мы превратимся, если будем бросать кости наших ближних? Это все равно, что отказаться от своей родины. Это гордыня того рода, за которую господь низвергает в ад.
– Оставь в покое господа!
– Не начинай все сначала, сынок. – Ее голос был спокоен, но я чувствовал, как в ней закипает гнев. – Что станет с этой фермой, если мы отсюда уедем?!
– Мы говорим, словно двое глухих. Дело не в том, что будет с фермой после продажи, а в том, что будет с нами, если мы ее не продадим.
– Да нет. Тебе просто хочется огрести побольше денег.
– А не кажется тебе, что я имею на это право? Сколько я вкладывал сюда все эти годы, чтобы вы с отцом не разорились! И что же? Да эта ферма просто бездонная яма, куда я попусту все время кидаю деньги.
Она побелела.
– Значит, для тебя это всего лишь яма?
– Какой смысл продолжать держаться за ферму, если здесь все разваливается?
– Я не прошу у тебя помощи. Я прошу только, чтобы меня оставили в покое. Я вполне в силах справиться сама.
Я понял, что пришло время поставить ее перед свершившимся фактом.
– Я, как мог, старался убедить тебя. Но ты не хочешь понять. Ладно, хватит разговоров. Скажу тебе прямо – документы о продаже уже подписаны.
Нарочито медленно она взяла нож и поскребла им по дну своей пустой тарелки, потом вытерла рот большой салфеткой.
– Что ж, тогда тебе придется все переиграть. Я остаюсь здесь. А без моего письменного согласия, ты не сможешь продать ферму.
Настало время для решительной атаки. Резко встав, я оттолкнул кресло с такой силой, что оно с грохотом отъехало назад.
– Хватит! – закричал я. – Глупое мелкое себялюбие, и ничего больше. Тебе наплевать на то, сколько я помогал вам. Ты не хочешь наконец освободить меня от этого бремени. Обо мне подумать ты не желаешь. Я знаю, отец понял бы, а вот ты не хочешь.
– Подожди, еще будет кофе, – мягко сказала мать, когда я направился к двери.
Но я решил больше не церемониться. Это опять привело бы нас к тому, с чего мы начали, а пора было решить вопрос окончательно. Я хлопнул дверью. На кухне я заметил настороженный вопросительный взгляд Кристины, стоящей у раковины, но ничего не сказал ей. Выйдя во двор, я постоял немного под фиговым деревом. Было очень холодно.
Некоторое время спустя я вернулся в дом через парадный вход и снял с крючка в коридоре связку ключей. Распахнув двойную дверь с проволочной сеткой, я пошел в сторону маслобойни, к отцовской пристройке. К святилищу. Дверь была тугой, словно ее не открывали многие месяцы, мне пришлось надавить на нее плечом.
На пороге я секунду помедлил. Здесь был затхлый запах, все вещи покрыты толстым слоем пыли. Было ясно, что сюда давно уже никто не входил. Я отодвинул занавески, чтобы впустить в комнату зимнее водянистое солнце. Комната выглядела нежилой и запущенной. На стене висел календарь двухлетней давности. То тут, то там какие-то картинки. Занавески, обивка кресел, мохеровое покрывало на диване, когда-то связанное Элизой, – все выцвело и поблекло.
Шаткие полки были заставлены книгами вперемежку с глиняными горшками Элизы, из одного торчало несколько засохших травинок. Небольшая коллекция полудрагоценных камней с юго-запада. Полки у двери выглядели прочнее: их отец делал с Элизой. Все вещи в комнате утратили всякую связь между собой – набор случайных предметов, следы жизни, не имевшей к моей никакого отношения. Вроде связки старых ключей, ни один из которых уже не подходит ни к какому замку.
Когда отец еще учительствовал, полки для него делал наш деревенский плотник. Старый дядюшка Хенни, в мешковатых шортах и клетчатой кепке, с щетинистыми усиками и яркими бусинками глаз. Ему помогал чернокожий Фредди, седой и высохший от старости. Я мог часами следить за их работой, мне нравился запах стружки, звук пилы и вгрызающейся в дерево дрели. Хенни был жалким человечком, которого все презирали за угодничество. Но работая с деревом, он совершенно преображался. Он любовно поглаживал каждую доску, словно хорошо знал и уважал ее. Я в жизни не видел, чтобы планки подгоняли друг к другу плотнее – ногтя не засунешь. Как только он принимался строгать, пилить или забивать гвозди, он, казалось, становился выше, спина распрямлялась, а глаза горели, будто им открывалось в древесине нечто сокровенное. Его грубые руки с черными ногтями нежно прикасались к дереву, как бы лаская его. И дерево слушалось его, покоряясь магическому действию его инструментов.
У них с Фредди была отличная бригада. Работая в четыре руки, они никогда не мешали друг другу. Каждый предугадывал движения другого и подлаживался к ним без малейших усилий. Хенни был весьма заурядный старый бур. Когда он на несколько минут откладывал инструмент, чтобы выпить с родителями чашку чаю, он сразу же принимался нудно жаловаться на бестолковость и ненадежность черномазых. Но за работой они с Фредди казались близнецами.
Незадолго до окончания работы у нас Фредди упал со стремянки и сильно повредил спину. Родители помогли дядюшке Хенни посадить его в машину, чтобы отвезти к доктору. Фредди предписали месяц в постели. И каждый день дядюшка Хенни навещал его, приносил еду и подолгу болтал с ним. При нас он, разумеется, по-прежнему последними словами ругал проклятого черномазого, но сколь беспомощным выглядел он без своего помощника! И когда они наконец вернулись, чтобы закончить полки, было просто приятно смотреть на них, словно оба они родились заново.
То было много лет назад. Их обоих уже давно нет на свете, и вот сейчас, в субботний день, я стою в отцовском кабинете, глядя на уродливые полки его собственного изготовления, сделанные с великим тщанием, но без малейшего умения. Он гордился этими шаткими детищами. Они поддерживали его в крошечном мирке.
Сам не зная, чего ищу, я подошел поближе, чтобы рассмотреть названия. Все книги были основательно зачитаны. Тил, Кори, Уокер, Преллер, архивные ежегодники, собрание сочинений Ван Рибека. Далее история Европы: Фишер, Робинсон, Тойнби. И более старые книги в кожаных переплетах. «Французская революция» Карлейля в трех черных томиках. Темно-коричневые тома Гиббона. Без особого интереса я принялся перебирать и листать книги, Поля были сплошь исписаны изящным мелким отцовским почерком. Поднеся книгу поближе к глазам, я попытался разобрать написанное – он вел с авторами живую беседу: соглашался, протестовал, спрашивал, спорил. И вновь, как во время застольной молитвы, у меня вдруг возникло чувство, что он здесь, что я слышу его голос. Если вы обратитесь к истории… Но даже это не помогло мне понять его.
Ставя на место томик Гиббона, я услышал, как что-то свалилось в щель у стены и упало на нижнюю полку. Присев на корточки, я отодвинул несколько книг и извлек старую коричневую папку с поблекшими зелеными тесемками. И старую запыленную указку со стершимся концом. Должно быть, ту самую, которой отец наказывал своих учеников. И учениц. Они получали удары по рукам и по голым ногам, тогда как мальчикам приходилось ложиться на скамью. Один удар за каждый невыученный вопрос. Я никогда не понимал, как он мог быть с ними таким жестоким, ни разу не выпоров дома собственных детей. (Это было обязанностью матери, и она отлично справлялась с ней.) И как эта указка оказалась здесь, на ферме? Сувенир? В память о чем?
Я положил указку на стол и сдул пыль с папки, прежде чем открыть ее. Старые документы организации Оссева-Брандваг. Тысяча девятьсот сороковой год. Заинтересовавшись, я начал перелистывать пожелтевшие страницы, но не нашел ничего действительно интересного. Циркуляры. Скучные ходатайства. Повестки дня заседаний. Присяга.
Когда наступаю, ступай за мной.
Когда отступаю, стреляй в меня.
Когда умираю, мсти за меня.
И да поможет мне бог.
С чувством непонятного сожаления я отложил папку и снова взял старую указку. Она интриговала меня куда больше, чем напыщенное содержимое папки. Как она попала за книги на полку? Случайно свалилась, или отец умышленно спрятал ее туда? Мысль была довольно нелепой. А если он чувствовал в связи с ней какую-то вину? Но какую? Что с ней было связано? Призрачное ощущение власти, которое ему удавалось получать благодаря ей? Некое извращенное удовольствие? Угнетающее чувство «греховности» из-за того, что она приносила ему радость? Наше кальвинистское наследие?
В дверь постучали. Я замер, словно застигнутый на месте преступления.
– Баас! – окликнули снаружи.
Я быстро спрятал указку за томик Гиббона. Это был отцовский секрет, и его надлежало сохранить. Полки задрожали от моего неловкого прикосновения, несколько шурупов отошли от стены, на пол посыпалась штукатурка.
– Баас!
Сейчас я испытал, по-видимому, то же чувство, что и отец, когда ему здесь мешали. Раздраженно открыв дверь, я увидел Кристину с чашкой кофе на подносе.
– Госпожа прислала меня, баас.
– Я не просил кофе.
Она растерянно глядела на меня.
– Ладно, давай сюда.
Взяв у нее чашку, я захлопнул дверь, вернулся к столу и сел в красивое кресло ручной работы, которое наш предок когда-то починил для своей Мелани. Оно прошло долгий путь, это старое кресло, в нем когда-то сидели многие мои предки. И прежде всего отец.
Я рассеянно посмотрел на книги у задней стены, слишком далекой, чтобы я мог разобрать названия. И вдруг подумал: а сколь близорук был отец? Не в буквальном смысле, а в своем истолковании всего, что читал. История страны, людей, нашей нации. Что из всего этого ему удалось передать мне и что мне предстоит передать когда-нибудь Луи? И что отцу на самом деле удалось понять и ухватить?
И смогу ли я когда-нибудь понять его самого?
У отца были постоянные нелады с совестью. Не из-за указки (хотя и из-за нее тоже), а куда более существенные, некие приступы, повторявшиеся через определенные интервалы. Вполне определенные. Нечто вроде духовных менструаций.
В детстве я не мог, да и не пытался этого понять, но много позже, когда я спросил об этом у матери, она ответила удивительно просто:
– Это все «Брудербонд», сынок, Союз братьев, тайная организация, о которой все всё знают.
– А при чем здесь «Брудербонд»?
– О, это длится уже многие годы. Ты ведь знаешь, кроме того короткого периода во время войны, отец никогда почти не общался с людьми. Предпочитал собственное общество. Таким уж он уродился. Ну а тут этот «Брудербонд» с их ежемесячными конгрессами. И каждый месяц с того дня, как приходит повестка, и до окончания конгресса он просто невменяем. Всем недоволен. Мы-де плохие африканеры, мы предаем Дело и прочая ерунда. Как только конгресс заканчивается, он снова приходит в себя, и так до следующей повестки.
Я вполне понимал весь юмор ситуации и, подобно матери, научился спокойно принимать его. (Милый старый болтун.) И мы знали, что прежде, чем заговорить с ним о чем-то важном, следовало посоветоваться с матерью. Если она говорила: «Нет, сынок, у отца дурные деньки», – разговор лучше было отложить. Одна из его милых причуд.
Но было ли все действительно столь просто? Я сидел за кофе в кресле в его комнате, где он прятал указку, и чувствовал, что сейчас он ближе мне, чем когда-либо прежде. Впервые я, кажется, понял, вернее, догадался о его страхе оказаться вне общего русла, в стороне от своих соплеменников. При нормальных условиях это его вполне устраивало. Но через регулярные интервалы приходило напоминание о том, что далеко не все так хорошо. Он не мог понять, что именно. Не зря же он потратил всю жизнь на поиск – чего? Но он знал, что где-то существует нечто, оно есть и оно может оказаться чрезвычайно важным.
Машинально я снова принялся листать старые документы. Они относились к тому короткому периоду во время войны, о котором говорила мать. Я никак не мог поверить, что он был втянут во что-то действительно серьезное, его ни разу не арестовывали, а ведь в войну учителя были под особым надзором. Самое большее, вероятно, что он делал, это составлял документы вроде этих лежавших в папке да переводил что-нибудь с немецкого. Он довольно скоро вышел из организации, так как стал активно поддерживать Малана, а Малан, конечно, не одобрял подпольной деятельности.
Но может быть, тогда у него и возникло чувство утраты. Будучи членом организации, он, по-видимому, ощущал себя сопричастным чему-то великому: он, Вим Мейнхардт, оказался в силах подняться над собственной заурядностью во имя благородного общенационального дела. А затем, отойдя от этого, он вернулся к своему блеклому одинокому существованию, и только эта папка напоминала ему о том, что могло бы свершиться. И его страсть к истории была лишь суррогатом политической деятельности.
Пожалуй, эту мысль стоит развить. Может быть, хотя бы раз в месяц у отца бывало предчувствие некоего апокалипсиса, грандиозной всеобщей гибели, во время которой он опять окажется вместе со своим народом? Всеобъемлющая жажда смерти? И эта всеобщая гибель, должно быть, предуготована роком на протяжении всех предшествующих поколений, подобно землетрясениям, предопределенным в земной коре тысячелетия назад. Гибель и торжество одновременно. Торжество именно в силу самой гибели, ибо это будет всеобщий, коллективный опыт, сплавляющий все отдельные и ничего не значащие частицы в великую массу – кусок глины в гневливой руке творца.
Тогда понятна и его одержимость в занятиях историей, его усилия разобраться в том, что случалось в прошлом и что может произойти в будущем. Чтобы быть готовым к грядущему Суду. Он не раз говорил мне о том, как порой целые нации внезапно исчезали с лица земли, не оставив никаких следов. Например, авары. И что такое может случиться вновь.
Странная и устрашающая мысль: если такой апокалипсис действительно неизбежен и предопределен, то каждый день, каждое незначительное деяние все ближе и ближе подводит нас к нему. И значит, пока я бродил по ферме, поднимался на вершину холма, пил с матерью кофе, болтал с хозяйкой лавки, вспоминал маленькую Кэти, повторял в темноте слова из Библии А любви не имею… или сидел в отцовском кресле, все это время вокруг меня, подо мной и в глубине меня существовало сильное и мощное течение, влекущее в определенном направлении. Столь же неизбежное, как ливень, который рано или поздно придет на смену засухе. И внезапно даже позвякивание ложечки о пустую чашку показалось мне сакральным звуком.
* * *
Во всех нас есть нечто болезненно угрюмое. Не только в нашей семье, но и во всей нации. Даже наш государственный гимн звучит как похоронный. Дядюшка Коот, деревенский парикмахер и гробовщик, так изложил мне однажды свою жизненную философию:
– Знаешь, Мартин, на свете все непрерывно меняется: дома, повозки, церкви – все. Не к чему по-настоящему прилепиться. Кроме смерти. Смерть – самое надежное, что дано человеку, она приближает его к господу. Вот почему я и занимаюсь похоронами.
Полагаю, что эта мысль приходила в голову не только ему. Недаром такие непохожие друг на друга женщины, как мать и Элиза, были одинаково потрясены моим отсутствием при кончине отца. Но какая, собственно, разница? Я простился с ним гораздо раньше, еще до того, как болезнь увела его из реальной жизни. А теперь я слишком хорошо понимаю, каким благом оказалась для него смерть. Не только избавлением от страданий, но и примирением с самим собой. В смерти одного человека он был готов увидеть гибель всего рода.
На похороны съехалась вся семья. Я с Элизой, Тео с женой, отцовские сестры с мужьями и брат матери из Сандфельда. Подобные съезды бывали и прежде, когда умерли старший брат отца и дедушка Мейнхардт. Только смерть сводила нас всех вместе. Старый родовой дом опять, как в дни моего детства, наполнился людьми. Тогда по праздникам многочисленные родственники спали во всех комнатах, даже в столовой и на веранде. Только на этот раз все было мрачно и без ребячьей веселой возни.
Прибыл пастор и множество знакомых из деревни. С полудня накануне лил дождь, земля напилась, трава была зелена, как в разгар лета, а глина красна как кровь. В черных одеждах под черными зонтиками мы собрались на грязном кладбище на последнюю молитву и опускание гроба. От имени семьи говорил я, а от имени друзей и соседей – старый Лоренс. Затем вперед неожиданно протиснулся старик Данциле – долгие годы он был вроде управляющего на ферме, пока его не сменил Мандизи, – и пустился в пространнейшие рассуждения о том, какой замечательный был у них баас и как они оплакивают его смерть, и все это на жуткой смеси коса и африкаанс, что особенно раздражает, когда стоишь под дождем. Он говорил, припоминаю, и о дожде, называя его благословением господним, «там, где Он погребает. Он рождает новую жизнь» или нечто в том же роде. В конце концов мне пришлось прервать его и попросить пастора начать отпевание, иначе мы простояли бы под дождем до ночи.
После похорон все направились в дом на воистину королевские поминки, устроенные матерью, хлопотавшей с самой зари. Она по-прежнему была верна традиционной очередности блюд: баранья нога, рис с приправой, сладкий картофель и в самом конце сливочный торт и кофе для всех присутствующих, включая и работников, толпившихся у задней двери.
Элиза была безутешна. На кладбище, когда она бросала горсть земли в могилу, мне пришлось поддержать ее. Такое проявление горя на виду у всех даже неприлично, подумал я тогда. Мать, напротив, за те два дня, что мы провели с ней, не уронила ни слезинки. Вечером, сразу после того, как гости уехали, она пошла навести порядок в отцовском кабинете, не позволив никому помочь ей, даже Кристине. Когда около полуночи я зашел взглянуть, как у нее идут дела, она все еще ползала на коленях, моя и доводя до блеска пол и мебель, расставляя на полках книги. Я предложил свою помощь, но она молча отмахнулась, и я просто сидел на диване почти до двух ночи, ожидая, пока она кончит уборку. Наконец она опустила занавески, проверила все ли на месте, погасила свет и заперла за нами дверь. На улице было очень холодно. И тут я впервые понял, что теперь отец для нее действительно умер.
– Ну, вот и все, – сказала она. Голос ее был усталым, но в нем слышалась глубокая удовлетворенность, словно она почувствовала облегчение, избавившись наконец от непосильного бремени.
* * *
Ближе к вечеру, когда точно – не помню, в пристройку заглянула мать. Она вошла так тихо, а я был столь глубоко погружен в собственные мысли, что поднял глаза, лишь когда она уже закрыла за собой дверь.
– Что ты тут делаешь столько времени? – спросила мать.
Она украдкой огляделась, проверяя все ли на своих местах. Я был рад, что спрятал указку, хотя, может быть, она и не обратила бы на нее никакого внимания.
– Просто зашел посмотреть.
– Понятно.
– И нашел вот это, – Я протянул ей коричневую папку.
– Что это? – Она открыла папку и, нахмурившись, начала листать.
– Старые отцовские бумаги, некоторые документы организации Оссева-Брандваг.
– Я думала, он их давно уничтожил.
– Ничего интересного.
– Ну ты же знаешь, что он был за человек.
Она захлопнула папку и завязала зеленые тесемки.
– Ты сюда с тех пор не заглядывала?
Она посмотрела на меня, но ответила не сразу.
– Нет. У меня и без того дел по горло.
– Вы были счастливы друг с другом? – сам себе удивляясь, спросил я.
– Счастливы? – Привычным движением она откинула назад выбившиеся пряди волос. – Что за вопрос? Мы, знаешь ли, были женаты больше сорока лет.
Она села в кресло с прямой спинкой.
– Мы все так мало знали о нем.
– Да ладно, разве в этом дело? – Она, казалось, искала объяснение или извинение. – Кто о ком что знает? – Она поглядела на меня. – Даже о собственных детях.
Пропустив мимо ушей намек, я спросил:
– Он всегда был таким скрытным? Или стал с годами?
С минуту она подумала.
– Когда мы были молоды, с ним было как-то проще. Мы часто подолгу беседовали, говоря о будущем, у него были такие честолюбивые планы.
– Честолюбивые планы?
Мать засмеялась. Я подумал, что она не расслышала меня.
– Знаешь, – заговорила она, – во время войны отец как-то раз поехал поохотиться с друзьями на ферму. Тогда он очень любил охотиться и ездил, куда бы его ни приглашали. А когда вернулся, рассказал мне обо всем. Он был весь красный, когда рассказывал.
– А что там случилось?
– Он был в вельде, когда почувствовал, ну, скажем, зов природы. Сидя на корточках в кустах, он написал пальцем на песке большими буквами: ГЕНЕРАЛ ВИМ МЕЙНХАРДТ. И потом просто забыл об этом. Но когда они вернулись на ферму, один из его друзей – он тоже состоял в организации – подошел к нему и говорит: «Слушай, Вим, пора похоронить этого генерала, а то он уже пахнет».
– Думаешь, его честолюбие целилось в ту сторону? – спросил я. – Оссева-Брандваг?
– Ну, я не знаю, собирался он стать генералом или кем еще. Как бы тебе сказать, по-моему, ему просто хотелось признания. Хоть от кого-нибудь. Он вышел из организации очень давно, кажется, еще в сорок первом, но с тех пор жизни в нем было мало. – Она встала, чтобы зачем-то заправить нитку, вылезшую из шва на покрывале. – Его всегда недооценивали, – с неожиданной грустью продолжала она. – В нем было нечто большее, чем казалось на первый взгляд, можешь мне поверить.
– Что именно?
Она походила по комнате, выравнивая ряды книг и сметая рукой пыль с краев полок. Затем, как бы между прочим, начала рассказывать про случай с полицейскими. В тот день отец как раз должен был идти на собрание. Неожиданно в дверь постучали. Это оказались два сержанта из тайной полиции.
Отец пригласил их войти. Затем посмотрел на часы. Когда стало ясно, что зашли они не на минутку, он приступил прямо к делу.
– Не могли бы вы зайти завтра? – спросил он с обезоруживающим дружелюбием. – Сегодня я, к сожалению, очень занят.
– Вот как? – сказали они. – А чем?
– Видите ли, я еду на собрание.
– Серьезно? На какое собрание?
– У нас регулярные молитвенные собрания каждый вторник, – не моргнув глазом ответил отец. – Обсуждаем библейские тексты.
Найдя это чрезвычайно интересным, они предложили составить ему компанию. Он попытался увернуться, намекая, что им там будет скучно, но, когда они продемонстрировали свою непреклонность, он спокойно достал Библию и поехал вместе с ними в полицейской машине.
У дома, где собирались заговорщики, он попросил их остановиться, вместе со своим эскортом прошел прямо в помещение и представил собравшимся полицейских.
– Друзья! – сказал он. – На нашем молитвенном собрании сегодня присутствуют два новичка. Сержант Гроблер и сержант Хендерсон из тайной полиции. Позвольте мне от имени всех приветствовать их.
И прежде, чем кто-нибудь успел вставить хоть слово, он открыл собрание молитвой, длившейся не менее получаса. Кто-то принес из спальни Библию и завел разговор не то о римлянах, не то о коринфянах по четырем или пяти главам. Затем началось обсуждение со всей серьезностью. Во время первого часа сержанты начали ерзать на своих местах, но братья-заговорщики так разошлись, что визитерам не удавалось вставить ни слова. Через два часа с лишним, когда конца этому еще не предвиделось, сержант Гроблер встал и пробормотал с выражением отчаяния на лице:







