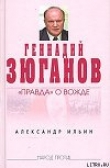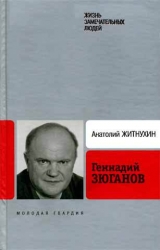
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Весной пришлось молодым другое пристанище искать, через год – третье. Одно время квартировали у сапожника. Мужиком тот был неплохим, вот только когда выпивал, лез с женой драться. В такие дни Геннадию приходилось их разнимать. Первое свое жилье молодая семья получила, когда Геннадий работал секретарем комитета комсомола института. Была это небольшая комната в расположенном за городом рабочем общежитии завода «Химмаш». Представляло собой это общежитие отдельный дом гостиничного типа с удобствами общего пользования, в котором было пять комнат и проживало пять семей. Жили дружно, хотя иногда и случались среди соседей мелкие ссоры и неурядицы. Возложили на Геннадия нечто вроде обязанностей мирового судьи – признали в нем начальство, так как, став первым секретарем райкома, с работы часто возвращался на машине.
Пришлось пережить и несколько сложных периодов в Москве, особенно в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Надо сказать, что к тому времени на руках у Геннадия Андреевича находилось практически шесть человек: отец и мать – пенсионеры, жена тогда работала на заводе рядовым инженером по информации с символической зарплатой, сын с невесткой – студенты, да к тому же с грудным ребенком. Непросто такую семью прокормить было. И все же не зря раньше в народе говорили, что семья сильна, когда над ней крыша одна. Именно семья стала главной опорой Зюганову, когда он, придя к окончательному выбору, оказался в полной конфронтации с руководством ЦК КПСС, ступившим на путь предательства. Три раза оставался без работы – в руководителях с твердой позицией «демократическая» власть не нуждалась. Пытались, правда, апеллировать к рассудку, увещевать, договориться «по-хорошему»: «Скажи только, что ты поддерживаешь нашу линию, и всё будет в порядке». Не поддался. А тем временем в доме порой наступало такое безденежье, что приходилось вещи продавать. Тогда же постигло семью горе – скончался Андрей Михайлович. Выстояли. Рано еще нашему герою подводить итог жизни, но как бы судьба ни распорядилась, ему всегда будет чем гордиться: шестеро внуков и внучка у Геннадия Андреевича.
Когда Зюганов стал признанным лидером российской компартии, один из главных «архитекторов» перестройки А. Н. Яковлев, весьма пренебрежительно отзываясь о его работе в отделе пропаганды ЦК КПСС, сожалел о том, что он в свое время «пропустил Зюганова», равно, как и не снял с поста главного редактора «Советской России» Валентина Чикина. Если верить Яковлеву, то оставил он Зюганова в отделе только потому, что тот хорошо в волейбол играл. Явно лукавил Александр Николаевич – в той беспощадной политической борьбе, которая велась против убежденных и принципиальных людей, их спортивные достижения в расчет, конечно, не принимались. Помогли удержаться Зюганову прежде всего его соратники и друзья – такие же, как и он, преданные своему делу патриоты. Сыграло свою роль и то, что сектор отдела пропаганды и агитации ЦК, в котором он работал и который затем возглавил, занимался подбором и назначением идеологических кадров. Поэтому довелось Геннадию Андреевичу принимать участие в судьбах многих руководящих и партийных работников, которые впоследствии оказали ему серьезную поддержку в трудный период жизни. Причем часто помогали те, на кого даже и не рассчитывал – далеко не все паниковали в обстановке смятения и хаоса, наоборот – у большинства тогда проявились самые лучшие человеческие качества. Поддержка эта ничего общего не имела с кумовством, существовавшим в некоторых эшелонах власти, – защищая Зюганова, многие рисковали своим положением и карьерой. Пришли на помощь даже те, с кем подружился еще в молодые годы, в период комсомольской работы.
О комсомольском братстве Зюганов всегда вспоминает с особой теплотой, гордится своей комсомольской молодостью. В свое время, когда дал согласие перейти из института на работу в Заводской райком ВЛКСМ, не было у него еще уверенности, что обретет он себя на новом поприще. Поэтому поначалу сохранял пути для отступления: читал лекции по математическому анализу, проверял контрольные, выкраивал время для занятий наукой. Для людей сведущих такое совмещение может показаться нереальным – слишком много сил отнимала профессиональная комсомольская работа, чтобы параллельно с ней можно было серьезно заниматься чем-то еще. Помогали жесткая самодисциплина и организованность – качества, которые после армии вошли у Геннадия в привычку и со временем были доведены едва ли не до автоматизма. Кому-то жизнь, расписанная по часам на месяц вперед, может показаться скучной – для него же всегда являлась необходимым условием полноценной деятельности. Заметим, что преподавание в институте он не оставлял и в период партийной работы в Орле, переключившись после окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС с математики на философию. Причем относился он к преподаванию отнюдь не как к средству дополнительного заработка. По мнению Зюганова, ученый, переставший сиетематически заниматься наукой, рано или поздно превращается в обычного дилетанта.
Как знать, может, со временем и вернулся бы Геннадий Зюганов на институтскую кафедру, если бы молодого комсомольского работника не приметил первый секретарь горкома КПСС А. П. Иванов. Впервые увидел он Зюганова в деле, когда тот руководил возведением памятника героям-комсомольцам. (Кстати, монумент этот стал одной из первых работ знаменитого впоследствии скульптора, народного художника России, академика Александра Бурганова.) Пригласив к себе Зюганова, Иванов начал с главного: «Мне нужен первый секретарь горкома комсомола – энергичный, крепкий, хваткий, со светлой головой и хорошей речью. Будем рекомендовать тебя». Через несколько дней Геннадий возглавил Орловскую городскую комсомольскую организацию.
Эту перемену в его судьбе можно считать знаковой. Означала она, что пути назад уже не будет. Не только потому, что должность первого секретаря горкома комсомола входила в серьезную партийную номенклатуру, откуда не очень-то просто было уйти «по собственному желанию». Еще в Заводском райкоме Зюганов успел почувствовать вкус к комсомольской работе. А главное, теперь больше не мучили сомнения – справлюсь ли? – вдохновляло сознание, что первые испытания на комсомольском поприще выдержал, что ему доверяют. К тому же в своем напутствии Иванов недвусмысленно дал понять, что на него рассчитывают и в будущем: «Наступает новая эпоха. Перспективы страны определит восприимчивость к прогрессу, новым технологиям. Для этого потребуются профессионалы, люди широко мыслящие, способные осуществить научно-техническую революцию. Исследователи, аналитики, специалисты по выбору оптимальных вариантов развития».
Тогда действительно верилось, что страна стоит на пороге новых свершений. На глазах преображался и хорошел Орел, который отстраивался невиданными ранее темпами, да и вся окружающая жизнь, безусловно, менялась к лучшему. Естественно, это сказывалось и на настроении молодежи, которая с энтузиазмом откликалась на многие начинания комсомола.
Никто тогда и подумать не мог, что придет время, и само понятие «комсомол» едва не сгинет в антикоммунистической истерии. Или, в лучшем случае, о нем станут судить по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба», написанной и опубликованной, заметим, еще до начала «перестройки». Безусловно, серьезные бюрократические заболевания в среде руководящих комсомольских работников предкризисной эпохи были налицо. Но даже в восьмидесятые годы комсомолом в подавляющем большинстве руководили честные и бескорыстные люди, обеспокоенные его судьбой. Неслучайно автор нашумевшей книги был удостоен за нее премии Ленинского комсомола, избран делегатом XX съезда ВЛКСМ и стал кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. Как верно отмечал известный литературный критик Владимир Бондаренко, Поляков (от себя добавим: талантливый писатель, не склонный подстраиваться под политическую конъюнктуру) был зачислен в крутые ниспровергатели и очернители без своего согласия, с легкой руки «прорабов» перестройки. Не было в «ЧП районного масштаба» ненависти или презрения к комсомолу.
Подчеркнем, что сам Зюганов, которому чужда бездумная идеализация прошлого, не склонен списывать те или иные вывихи в работе комсомола только на «эпоху застоя» – случались они во все времена. Что поделаешь – не всем дано в двадцать лет обрести устойчивую психику и твердые убеждения, удержаться от многочисленных искушений молодости, с достоинством нести нелегкую ношу ответственности. В то же время по своему характеру комсомольская работа предполагала целую череду экзаменов на жизненную зрелость и профессиональную пригодность, естественный отбор, позволявший выявить подлинных молодежных вожаков, настоящих лидеров и организаторов. Именно благодаря тем, кто выдержал эти испытания, для миллионов молодых людей комсомол становился блестящей школой мужания и закалки. Хорошо помнит Геннадий Андреевич, как отправлял на комсомольские стройки молодых ребят, с какой гордостью ехали они в далекий Шелехов на строительство Иркутского алюминиевого завода. Уезжали совсем зелеными и неоперившимися, а возвращались через два-три года зрелыми, знающими себе цену людьми, высококвалифицированными рабочими, бригадирами, специалистами. На его глазах росли люди в комсомольско-молодежных коллективах, участвовавших в реализации программы комплексного развития Орла – еще бы, своими руками свой город отстраивали! Да как отстраивали – вся страна изучала и внедряла опыт «Орловской непрерывки»!
Но, пожалуй, самое важное заключалось в том, что комсомол, сохраняя преемственность поколений, цементировал живую связь времен. Верной опорой в этой работе служили те, кто жил и трудился рядом с молодыми – люди с уникальными, порой легендарными судьбами. Среди признанных наставников орловской молодежи был, например, слесарь-сборщик машиностроительного завода имени Медведева Иван Дмитриевич Санько. Начал он трудовую деятельность подростком на одном из предприятий Донбасса, прошел закалку на северных стройках страны, куда уехал по комсомольской путевке. Во время войны – разведчик 380-й стрелковой дивизии, получившей почетное наименование «Орловской». При штурме Орла рядовой Санько и ефрейтор Образцов под пулями водрузили красный флаг над одним из домов по Московской улице. Теперь флаг этот как общенародная реликвия хранится в Санкт-Петербурге, в Военно-историческом музее артиллерии.
Не жалел времени для общения с комсомольцами бывший фронтовик Николай Алексеевич Сенин, который приехал в Орел сразу после войны, в 1946 году, когда город лежал в развалинах. Сначала крутил баранку в тресте «Орелстрой», а потом пересел в кабину экскаватора. К боевым наградам ветерана войны добавились ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, а в 1974 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. При этом не счесть, скольких молодых рабочих управления «Строймеханизация № 1» поставил он на ноги.
В период работы Зюганова в Орле еще были живы и такие люди, как Анна Никитична Гурьянова, вступившая в партию в двадцатые годы по ленинскому призыву. Когда-то она открывала избы-читальни и обучала грамоте крестьянских детей, ее тяжело ранили из обреза кулаки. Перед войной Анна Никитична возглавляла Заготзерно, а в самую страшную пору, когда танки Гудериана были уже на ближних подступах к Орлу, руководила отправкой последних эшелонов с хлебом с узловой станции Скуратове под непрерывными бомбежками и артобстрелами, получив накануне извещение, что муж на фронте пропал без вести.
До сих пор не перестает Геннадий Андреевич восхищаться удивительными качествами своих прославленных земляков: несмотря на свое героическое прошлое, огромные заслуги и высокие награды, на тот почет, которым были окружены, они оставались добрыми, чуткими, отзывчивыми, сохранили ясный взгляд на жизнь. Многому он научился у них.
Давно известно, что переломная эпоха в жизни любого общества сопровождается неизбежным конфликтом поколений, обострением проблемы отцов и детей. Руководствуясь беспрецедентным по своей циничности лозунгом одного из экономистов – «прорабов» перестройки: «Предстоит сначала выжить, а потом уже жить», устроители новой жизни поступили просто: отдав на разграбление общенародное достояние, они обрекли на выживание, а точнее будет сказать – на вымирание, тех, кому Россия обязана своим былым могуществом, благодаря которым за десятилетие страна проходила в своем развитии путь, равный целой эпохе. Вспомним, к примеру, конец двадцатых годов, когда мы еще толком не умели производить ни самолетов, ни тракторов. А 41-й встретили с самой современной техникой, с лучшим в мире танком Т-34, с лучшей пушкой, с лучшей реактивной установкой, с новыми самолетами. За каждую пятилетку возводилось 1000–1200 заводов, создавались целые промышленные отрасли. Опираясь на самоотверженность этих людей, Сталин еще в довоенное время одержал три великие победы, ставшие прологом главной Победы советского народа, – победу над временем, победу над пространством, победу в борьбе за единство страны.
Увы, за последние двадцать лет так ничего путного и не создали. Часть разрушили, часть разворовали, часть проели, часть спустили за бесценок. Угробили важнейшие отрасли науки и промышленности. Наукоемкое производство скукожилось до одного процента от его общего объема, что в 15–20 раз ниже аналогичного показателя современного Китая. За девяностые годы произошло катастрофическое сокращение валового внутреннего продукта – его объем уменьшился почти вдвое, произошла деиндустриализациястраны. Если даже гипотетическое удвоение ВВП к 2010 году и станет реальностью, достаточно будет вспомнить, как мы жили в 1990–1991 годах, чтобы понять, на какие «рубежи» мы выйдем. Однако в стране до сих пор нет реальных предпосылок, позволяющих вытащить экономику из пропасти. Все производство и коммунальное хозяйство сидят ныне на сотнях тысяч километров труб, 70 процентов которых уже нельзя эксплуатировать. В каком состоянии находится электроэнергетика, регулярно испытывают на себе жители всех регионов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки и Владивостока.
Суммарные расходы на так называемые приоритетные национальные проекты – «Образование», «Здоровье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2007 году составляют чуть более 230 миллиардов рублей или всего лишь 4,2 процента от расходной части бюджета. О каком приоритете развития агропромышленного комплекса может идти речь, если на него планируется менее одного процента всех расходов. Аналогичный показатель в восьмидесятые годы значительно превышал 10 процентов. Агропромышленному комплексу выделяется 2 миллиарда долларов в год или всего 17 долларов на 1 гектар пахотных угодий. Для сравнения скажем, что Белоруссия вкладывает в каждый гектар земли 250 долларов. Неудивительно, что страна давно утратила продовольственную безопасность. 46 процентов продовольствия ввозится из-за рубежа, при этом на его закупку затрачивается значительно больше средств, чем на поддержку российского села. Иллюзию изобилия продуктов питания в магазинах создает их недоступность для огромной массы населения: потребление основных белковых продуктов – мяса и молока – по сравнению с «голодным» 1990 годом снизилось почти в два раза.
В проекте «Образование» даже и речи не идет о ликвидации такого позорного явления, как детская беспризорность. И это в то время, когда, по разным источникам, в стране около миллиона детей – беспризорники, 2 миллиона подростков – неграмотны. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает позорное 134-е место в мире, среди самых отсталых стран, женщин – 100-е. Страна вымирает со скоростью 800 тысяч человек в год, смертность в 1,5 раза превышает рождаемость (в целом ряде субъектов Российской Федерации – в 2–2,8 раза). Над многими регионами нависла реальная угроза депопуляции русской нации. Господство на рынке жилья криминальных структур для тысяч российских семей обернулось наглым грабежом и потерей последних сбережений.
Если все это называется приоритетнымипроектами, что тогда говорить о других социальных и экономических сферах? При этом все нефтедоллары упорно складываются в кубышку под названием «Стабилизационный фонд», как нам объясняют – на «черный день». Кто воспользуется этой кубышкой, когда черный день наступит? Минувшие дефолты и кризисы девяностых годов относят этот вопрос в разряд чисто риторических.
Отринув старшие поколения, изгнав их на задворки жизни и устранив от активной общественной деятельности, страна за короткий срок утратила свой естественный духовный и нравственный стержень. Как ни печально это сознавать, все меньше рядом с нами остается людей, одержавших Великую Победу над фашизмом. Существует грустная статистика: 60-летие Победы встретило лишь около миллиона участников войны, в рядах которых оставалось 4200 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Зюганов убежден, что в наши дни современную молодежь можно и нужно воспитывать на судьбах комсомольцев последующих поколений. Нельзя вычеркивать из нашей истории свершения тех, кто распахал целину, проложил дорогу в космос, возвел новые города, создал уникальный промышленный и научный потенциал великой державы.
Возможно, для одних эта мысль покажется утопической, для других, в силу их убеждений, неприемлемой. Но ведь сама жизнь возвращает на свои места многое из того, что кому-то очень хочется безвозвратно отправить на «свалку истории». Есть, к примеру, в городе Шелехове Иркутской области улица Орловских комсомольцев, переименовать которую вряд ли кому придет в голову. Потому что руками молодых посланцев Орловщины отстроен и сам город, который начинался с брезентовых палаток, и его главное, градообразующее предприятие – алюминиевый завод. И ведь чтут традиции прошлого жители этого одного из самых молодых городов Приангарья – на сорокалетие Шелехова они пригласили делегацию из Орла, тепло чествовали первостроителей. А недавно здесь прошла художественная выставка, посвященная орловским комсомольцам.
Хоть и иронизируют недруги Геннадия Андреевича над тем, как возродившиеся пионерские отряды и дружины принимают лидера КПРФ в почетные пионеры, видно, все же не без оснований он считает, что в сфере воспитания детей лучше пионерской организации ничего не придумано. Возрождение пионерского движения происходит вопреки усилиям современной пропагандистской машины, направленным на уничтожение малейших ростков коммунистического сознания, а попытки дискредитировать его историю, представить пионерию как идеологизированную копию популярного в западных странах, особенно в США, скаутизма – буржуазной системы воспитания, подчиненной формированию у детей индивидуалистического сознания, – рассчитаны на очень наивных людей. Между ними – пропасть. Пионерское движение выработало свои формы и методы работы с учетом психологических особенностей детей, того возрастного периода, в котором ребенок начинает осознавать себя личностью, испытывает потребность в реализации собственного «я» через коллектив, приобщение к общественной жизни. Изгнание пионерских организаций из школы, уничтожение пионерских лагерей лишили миллионы детей полноценного детства, нанесли и до сих пор наносят невосполнимый нравственный урон всему обществу – оказались открытыми все шлюзы для безудержного роста детской преступности, беспризорности, алкоголизма и наркомании, игровой зависимости и других пороков, захлестнувших юное поколение.
В девяностые годы в стране была разрушена система последовательного воспитания, при которой пионерская и комсомольская организации направляли в здоровое русло естественную тягу детей и молодых людей к самоутверждению, героике, проявлению отваги и мужества, предоставляли им возможность реализовать или проверить свои силы и способности в общественно значимых делах. Неслучайно в наши дни возрождается и еще одно, по мнению Зюганова, выдающееся детище комсомола – движение студенческих строительных отрядов. Ныне оно насчитывает в своих рядах уже десятки тысяч студентов. Примечательно, что у истоков этого возрождения оказались комсомольцы Владимира, создавшие несколько лет назад отряд «Корчагинец». В 2006 году 75 отрядов из Владимирской области объединяли уже две тысячи студентов, из них 400 человек трудилось в составе «Корчагинца» в Московской области на освоении Яхромской поймы. В 2007 году пути развития стройотрядов обсудили на всероссийском слете их представителей, организованном ЦК Союза коммунистической молодежи. На нем было подчеркнуто главное: стройотряды обращаются к лучшим гражданским традициям, заложенным предшествующими поколениями студенчества. Любопытно, что, когда официальный интернет-сайт фонда членов стройотрядов Санкт-Петербурга провел опрос среди студентов, чтобы выявить основные мотивы, побуждающие их вступать в ССО, подавляющее большинство ответило: «Хочу испытать себя». Вопросы заработка отошли на второй план.
Годы работы в комсомоле Геннадий Андреевич считает самым счастливым периодом в своей жизни. Не только потому, что большинство людей в молодости более ярко и эмоционально, нежели в зрелом возрасте, воспринимают окружающий мир. Несмотря на сумасшедшую круговерть дел, как любой человек, сознающий, что он оказался на своем месте, Зюганов получал удовлетворение от того, чем занимался, видел реальную отдачу от своего труда. Было и ощущение собственного профессионального роста.
Кто-то из журналистов, не пылающих особой любовью к советскому прошлому, однажды с иронией заметил: «Комсомольские работники – это те, кому в молодости давали порулить». Такое замечание, безусловно, имеет право на жизнь, но к нему необходимо сделать добавление: во-первых, их и обучали этому, а во-вторых, право «на вождение» приходилось постоянно подтверждать. Для того чтобы успешно «рулить» во главе горкома комсомола, Геннадию Зюганову пришлось основательно вникать в целый комплекс проблем промышленных предприятий и строительных организаций – от технологических процессов до специфики управления, осваивать инфраструктуру городского хозяйства, изучать социальные, культурные и бытовые аспекты жизни города. То, что он с этим успешно справлялся, подтверждает его последующее избрание первым секретарем обкома ВЛКСМ.
Некоторым журналистам комсомол до сих пор представляется в виде кормушки, на которой взращивался партийный резерв. «Партэлита, обладающая для утоления всевозможных своих потребностей кучей всяческих заведений с приставкой „спец“ – поликлиниками, санаториями, магазинами, – о братьях „меньших“ из ВЛКСМ не забывала» – это утверждение в духе «демократических» традиций принадлежит газете «Московский комсомолец», которая в день 85-летия ВЛКСМ не смогла предложить читателям более достойной темы. Поражает живучесть порядком заезженного мифа о сказочных привилегиях и уровне материального благосостояния «партийных бонз» и их комсомольской смены. А ведь то, что в определенной мере было свойственно исключительно центральным властным структурам, причем в большей степени – их руководящей верхушке, отнюдь не распространялось на регионы, местные органы. Существовали реальные льготы для некоторых категорий ответственных работников в основном только при получении жилья, причем обладали ими далеко не все – для этого нужно было подтвердить на деле свою профессиональную состоятельность, обладать определенным стажем партийной, советской или комсомольской работы. И уж вовсе беспочвенны разговоры о тех возможностях, которые они имели в сфере медицинского и санаторно-курортного обслуживания – те же профсоюзные, ведомственные санатории и дома отдыха были доступны подавляющему большинству трудящихся, причем профкомы, как правило, оплачивали большую часть их стоимости. Излишне говорить о том, что абсолютно всё население имело возможность пользоваться бесплатной квалифицированной медицинской помощью.
Пытаясь всеми способами натравить народ на «жирующую партократию», новоявленные российские демократы, скрывая до поры до времени собственные неуемные аппетиты, умалчивали о действительном положении вещей. Может, кому-то сегодня поверится в это с трудом, но заработная плата подавляющего большинства сотрудников, особенно инструкторского состава местных партийных и комсомольских комитетов всех уровней, была сопоставима с доходами руководителей низового и среднего звена производственных предприятий – бригадиров, мастеров, начальников цехов. Так что в своей массе партийные и комсомольские работники жили, как и большинство советских людей, – «от получки до получки». Существовало, правда, одно дополнительное гарантированное материальное вознаграждение, которое выдавалось к отпуску и называлось «лечебным пособием». Однако, как с грустным юмором вспоминает Геннадий Андреевич, использовалось оно, как правило, не по назначению: «Получил лечебное пособие – купил новый костюм».
Впрочем, шутка эта на деле оборачивалась серьезной проблемой. Если подобная зарплата в комсомольских органах, для вступающих в жизнь молодых людей, была приемлемой, то в партийных комитетах она серьезно препятствовала комплектованию собственных штатов образованными, всесторонне подготовленными кадрами.
Например, проработав несколько лет на руководящих должностях в горкоме и обкоме КПСС, Зюганов пришел к твердому убеждению, что центральная фигура любого партийного органа – инструктор. Инструктор являлся главным проводником и организатором принятых решений, всей партийной работы в первичных организациях, служил основным источником аналитической информации о положении дел на местах. По его компетентности нередко судили о реальном авторитете партийного комитета, о состоятельности местных властей. В то же время подобрать хорошего инструктора было непросто: многие толковые коммунисты из числа высококвалифицированных специалистов, проявивших хорошие организаторские, управленческие способности на производстве или хозяйственной работе, далеко не всегда горели желанием связать свою судьбу с партийной деятельностью. Причина одна: ответственности и забот партийная работа им сулила в несколько раз больше, а зарплата часто оказывалась в полтора, а то и в два раза меньше той, которую они получали. Рано или поздно это должно было сказаться на снижении общего уровня компетентности, качества управленческой деятельности партийных аппаратов, являвшихся, по сути, основой государственной системы. Что со временем и происходило.
Партийные органы оказывались заложниками той же всеобщей бездумной уравниловки, ставившей в один ряд талант и бездарность, тормозившей заинтересованность и инициативу людей, занятых в материальном производстве и социальной сфере, науке и технике. Никто не желал замечать серьезного стратегического просчета: отсутствие должной материальной заинтересованности в результатах своего труда у представителей базовых профессий – учителей, врачей, инженеров, рабочих, крестьян – неизбежно вело к стагнации важнейших отраслей народного хозяйства, определявших жизнеспособность страны, уровень развития общества.
Существует расхожее мнение, что комсомольские работники, войдя в номенклатуру соответствующих партийных комитетов, обретали гарантированную перспективу дальнейшего восхождения по традиционным ступеням карьерного роста: комсомол – партия – высокие управленческие должности. Однако дорога эта на самом деле была тернистой, многие сходили с нее в силу своих не слишком высоких профессиональных и моральных качеств или отсутствия способности к постоянному самообразованию. Наконец, далеко не все выдерживали напряженный ритм работы, тяжелый груз ответственности. Чем дальше по этому пути продвигаешься – тем сложнее. Неслучайно Геннадий Андреевич пришел к выводу, что те проблемы, с которыми каждодневно сталкивался в горкоме партии, по своей сложности не уступали теоремам Лагранжа, Коши, Вейерштрасса. Но научные положения этих выдающихся умов не пересматривались веками, а здесь жизнь постоянно вносила свои коррективы. То же городское хозяйство с его сложным сплетением экономических и социальных проблем постоянно выдвигало куда более трудные задачи, требующие каждый раз новых, нестандартных решений. А после того как избрали Зюганова вторым секретарем горкома КПСС и в его ведение вошли городские административно-государственные органы, пришлось ему постигать все тонкости механизмов региональной власти и ведомственного управления, представлявших в своей совокупности и взаимодействии, по сути, уменьшенную модель целого государства.
Те, кто знаком с партийной работой не понаслышке, хорошо знает, что рано или поздно она приводила к жесткому прагматизму даже людей, склонных по своей натуре к созиданию и творчеству. С одной стороны, многих вынуждало руководствоваться в практической деятельности холодным расчетом и рационализмом бремя повседневных забот и ответственности. С другой – инициатива на местах могла оказаться (что нередко и случалось) попросту наказуемой, так как не укладывалась в рамки норм и правил, предписываемых сверху. Как известно, к концу шестидесятых годов в наезженной колее традиционных представлений о социалистаческих методах хозяйствования безнадежно увязли косыгинские реформы. После этого поиск эффективных управленческих решений в сфере экономики, науки и техники, социальных отношений все чаще стал подменяться имитацией творческих инициатив на местах, которые выражались в казенных лозунгах, призывавших к досрочному выполнению пятилетних планов и социалистических обязательств в честь красных дат календаря и партийных съездов.
Можно утверждать, что в этих условиях Зюганову здорово повезло – ему довелось работать в Орловском горкоме партии в годы, когда в нем под руководством А. П. Иванова возобладал здоровый идеализм, благодаря которому был осуществлен настоящий прорыв в одной из наиболее болезненных и жизненно важных отраслей – жилищном строительстве. Вряд ли кто сейчас, в эпоху извращенного представления о жизненных ценностях, поверит, что люди, разработавшие и осуществлявшие «Орловскую непрерывку», являлись идеалистами и мечтателями с большой буквы. Но это было на самом деле так. В генеральном плане развития города они видели воплощение мечты о городе будущего, которая захватывала умы людей со времен Томмазо Кампанеллы. Правда, великий итальянский мыслитель Средневековья грезил в первую очередь утопическими идеями нового общественного устройства жизни горожан. Руководители Орла задались более насущной целью – создать для своих земляков красивый современный город с достойными условиями жизни. Перспектива развития нового города, представлявшегося им живым и единым организмом, требовала комплексного и гармоничного планирования. Глубина проработки проблем затрагивала даже такие вопросы, как пути и пределы урбанизации, оптимальная численность населения областного центра, позволяющая выстроить наиболее надежную и эффективную инфраструктуру городского хозяйства.