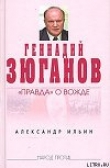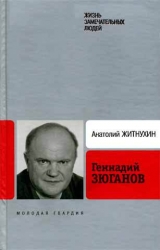
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Вскоре земляки уже с иным настроением встречали Яблочный Спас, угощали друг друга спелыми плодами. Кстати, все большие церковные праздники отмечались наряду с советскими – первомайскими и октябрьскими. Никто, естественно, этому не препятствовал. Особенно широко, как и в большинстве русских деревень, праздновался день летней Казанской. Ходили к соседям на их престольные праздники – Успение, Николу. Для людей важные церковные даты были отнюдь не поводом для того, чтобы лишний раз собраться, выпить и повеселиться. Относились они к ним с глубоким почитанием, потому что Бог всегда жил в душе русского человека, который никогда не воспринимал всерьез атеистические потуги чиновников. Кроме того, исторически сложилось так, что знаменательные даты православного календаря, как правило, совпадали с завершением очередной сельской страды и началом новой, перед которой душа и тело требуют отдыха. Любому крестьянину известно, что на Казанскую, например, принято делать зажин ржи (первый сноп, по традиции, – в дом), а после Яблочного Спаса начинается подготовка к посеву озимых.
Почти в каждый праздник на родине отца, в селе Покровском, собирались многочисленные близкие и дальние родственники, иногда по тридцать-сорок человек, некоторые приезжали даже с Украины. Родственные связи берегли и почитали. Отец перед каждым Новым годом рассылал не меньше сотни поздравительных открыток – родным и друзьям-однополчанам, с которыми переписывался и встречался до конца жизни. Геннадий любил приподнятую, шумную атмосферу, царившую в доме во время праздников. Гулять умели – весело и с достоинством, но главное, что больше всего ему нравилось, – гости были голосистыми, умели петь и знали бесчисленное множество русских, украинских и советских песен, многие из которых приходили в жизнь из любимых кинофильмов. Большинство популярных картин тех времен сейчас принято считать наивными и идеализированными. Но были они, прежде всего, чистыми и светлыми, и в тех же «Кубанских казаках» люди узнавали себя, свои переживания, свои судьбы. И песни в них были такие, что щемило грудь, и душа чище становилась. Сам Геннадий, правда, исполнителем был не ахти каким, но слушать и подпевать любил, особенно нравились ему тягучие и грустные народные песни. Не ослабла любовь к хорошей песне и с годами.
Призвание почувствовал не сразу. Безусловно, на выбор жизненного пути оказала свое влияние семейная традиция: в роду Зюгановых прочно укоренились учительские гены. Как-то, много лет спустя, Геннадий Андреевич посчитал с отцом, что общий педагогический стаж их династии насчитывает триста лет. Дед по отцу, Михаил Исафьевич, был преподавателем церковно-приходской школы, человеком прогрессивным и просвещенным. Кстати, утверждал не без основания, что их фамилия произошла от старинного устойчивого сорта пшеницы «зюганка». Значит, от хлеборобов род начинался. Своих детей дед стремился вырастить людьми образованными. Его сыновья Александр и Андрей (отец Геннадия), дочери Ольга и Анна закончили Болховское педучилище, которое уже в тридцатые годы славилось прекрасным преподавательским составом и основательностью подготовки своих воспитанников. На санях за тридцать километров возил их на учебу. Из одной семьи сразу четыре учителя вышли.
Неудивительно поэтому, что по преподавательской стезе пошла и старшая сестра Геннадия – Людмила. Геннадий еще учился в начальных классах, когда она окончила школу и уехала на учебу в Орловский педагогический институт. Так что его дальнейшее взросление проходило в основном под присмотром улицы. Людмила тем временем, получив диплом, стала преподавать в дальней сельской школе – в селе Муравль Кромского района. А позднее пригласили ее на работу в Орловский пединститут, на кафедру русского языка и литературы – там в это время открылось отделение для иностранных студентов. Геннадий тогда уже работал в Орле и не без гордости узнавал, что и иностранцы, с которыми она занималась, и коллеги-преподаватели отзывались о ней как о прекрасном специалисте. Вскоре ему и самому пришлось в этом убедиться: вместе с сестрой он готовил свои первые комсомольские доклады и выступления. Была она требовательна к стилю изложения, терпеть не могла казенных штампов и старалась, чтобы речь брата была образной и интересной. Именно тогда, под опекой Людмилы, и сформировались у него основные навыки серьезных публичных выступлений.
…Можно сказать, что учеба в школе давалась Геннадию легко. Но жизнь полна примерами, когда тот, кто схватывает знания на лету, впоследствии не может избавиться от верхоглядства. Его родители, будучи опытными педагогами, о такой опасности, конечно, знали. Поэтому с первого класса ему пришлось заниматься, что называется, в поте лица. У Марфы Петровны, преподававшей в начальных классах, спрос с сына был особый. В школе она разрешала ему обращаться к ней только по имени-отчеству. Один раз забылся, назвал мамой, так весь класс даже рассмеялся над такой оплошностью. Как ни старался, за четыре года не сумел получить от матери ни одной пятерки. Добросовестно учил все стихи, зубрил учебники целыми страницами, часами сидел за прописями – ничего не помогало. Кстати, чистописание было очень полезным предметом. Специалисты считают, что помимо формирования необходимых любому человеку в любую эпоху устойчивых навыков письма оно способствовало развитию у детей подкорки, творческих способностей.
Начальную школу Геннадий закончил на одни четверки, без пятерок, зато приобрел усидчивость и другие полезные качества для успешной учебы в дальнейшем. Успехи ждать себя не заставили, и по окончании средней школы он удостоился серебряной медали. Больше всего любил математику, хотя и гуманитарные предметы не доставляли ему каких-либо затруднений. Одно время почувствовал склонность к географии. Дома подолгу возился с атласами, раскрашивал контурные карты, нанося на них названия и имена, уносящие в неведомый, будораживший воображение мир. Запомнилось ему, как однажды учитель географии Куприян Петрович Сёмин гонял его по карте мира: покажи то, покажи это. Весь урок напролет пытал, никак не мог поверить, что его ученик знал почти все страны мира, их столицы, природные и прочие особенности.
Однако будущее свое с географией решил все же не связывать. Посоветовавшись с отцом, пришел к выводу, что, как ни крути, широкого выбора в жизни этот предмет не сулит. Другое дело – математика: сфера приложения такая, что всегда позволит выбрать специализацию и занятие по вкусу. К тому же запали в сознание слова, которые любил повторять отец: «В каждом знании столько истины, сколько математики». Часто они приходили на память и в то время, когда всерьез приступил к изучению гуманитарных наук. Утверждение это, естественно, не абсолютизировал, однако не раз убеждался, что математика вырабатывает у человека необходимую логику и дисциплину мышления, без чего, к примеру, трудно постичь закономерности истории или смысл происходящих политических процессов. Спустя годы и сторонники, и недруги Зюганова в его характеристиках всегда будут сходиться в одном: он логичен и убедителен. Впрочем, лишенная малейших признаков благородства современная политика исключает безоговорочное признание сильных сторон у серьезного противника, тем более у лидера коммунистов. Поэтому логичность его действий часто пытаются представить как недостаток, недопустимую для большого политика предсказуемость. С легкой руки политтехнологов непредсказуемость политического лидера в современной России стала считаться добродетелью…
Когда пришло время решать, куда поступать после школы, родители посоветовали сыну попробовать силы в Московском энергетическом институте. Дело в том, что энергетиком был один из родственников Зюгановых, который в свое время окончил МЭИ и работал в Москве, в академии имени H. E. Жуковского. Чтобы присмотреться, что к чему, Геннадий съездил к нему в гости. Тот показал свое хозяйство, даже устроил экскурсию на электростанцию. Не вдохновило. А когда вернулся домой, принял решение отложить вопрос с институтом и поработать в родной школе. Еще раньше такое предложение он получил от директора школы Анатолия Петровича Парамонова. Тот был уверен: парень справится. К тому времени ему уже не раз приходилось подменять на уроках отца: всё чаще стали донимать Андрея Михайловича тяжелые фронтовые раны, часть засевших в ноге осколков хирургам извлечь не удалось, и с годами они стали выходить наружу. Процесс этот был болезненным и мучительным.
Но не только уговоры директора, у которого не хватало учителей, сказались на решении Геннадия. Что тут греха таить – пришла любовь, и уезжать из села не хотелось, так как его избраннице Наде Амеличевой еще предстояло заканчивать десятый класс. Была она из уже упомянутой деревушки Глотово. Ее родителям, простым крестьянам, довелось хлебнуть в жизни горя. Не каждому под силу снести такие испытания, которые выпали на их долю. Отец Надежды, Василий Сергеевич, воевал на Западном фронте и попал в плен, а свою будущую жену, Ольгу Владимировну, встретил в концлагере – в начале войны немцы угнали ее с Украины в Германию. Были они людьми скромными и набожными: в красном углу горницы и на кухне – иконы, киоты украшены узорчатыми рукоделиями хозяйки, которая прекрасно вышивала, в доме всегда светло и чисто. От родителей унаследовала Надежда спокойный нрав и трудолюбие, прекрасно училась и школу закончила с золотой медалью.
Не сразу догадалась она о чувствах, которые Геннадий долгое время не выказывал. Вроде и характер у него боевой, а вот поди же, на какое-то время замкнулся, ушел в себя, поддался неизбежным в этом возрасте романтическим переживаниям. Настраивали на философский лад, пробуждали особое мироощущение и книги, которые читал запоем. По собственному признанию, нравилось ему в юношеские годы бродить в одиночестве по окрестностям, ощущать под ногами хвойный ковер соснового бора, любоваться темными заводями протекающей вдоль лесной опушки речки Вытебеть. В такие минуты мир воспринимался глазами любимых литературных героев, приходила на память созвучная настроению лирика Алексея Апухтина:
…Всё смотрю я вдаль,
С волнением чего-то ожидаю
И с каждою тропинкой вспоминаю
То радость смутную, то тихую печаль.
На родине Зюганова к этому поэту всегда относились с поклонением – ведь для здешних жителей он еще и знаменитый земляк, который родился и вырос совсем рядом, в Волхове. А творчество земляков на Орловщине, издавна слывшей читающим краем, ценили и знали во все времена. Среди тех, кто черпал вдохновение на этой земле, имена людей, составивших гордость отечественной литературы. Здесь жили и работали И. С. Тургенев, А. А. Фет, Л. Н. Андреев, Н. С. Лесков, И. А. Бунин, M. M. Пришвин, П. Л. Проскурин… Специалистам хорошо известно, что орловско-кур-ский диалект, отличающийся своеобразием и неповторимым колоритом, образовал целый пласт русского литературного языка. Неслучайно в среде отечественной интеллигенции Орел называли третьей литературной столицей России. Видится непознанный, почти мистический феномен в том, что такую славу снискал город, который пошел от крепости, заложенной в XVI веке для охраны южных рубежей Русского государства, перенес множество варварских нашествий и неоднократно возрождался из пепла и руин.
Геннадий в самом прямом смысле слова рос среди книг. Во-первых, своих книг в семье всегда было много. А кроме того, дом время от времени оказывался просто заваленным книжками, которые отец привозил из райцентра и, прежде чем отнести в школу и раздать ученикам, разбирал и сортировал в горнице. В такие дни сын, еще толком не научившийся читать, забывал обо всем на свете и часами ползал на коленях среди пахнущих типографской краской стопок учебников и художественных изданий. Поначалу его впечатляли, конечно, не тексты, а красочные обложки и иллюстрации. Рассматривая сказки Пушкина, долго не мог оторваться от изображения огромной живой головы в шлеме, с внушительной бородой, и бесстрашно налетающего на нее всадника с копьем наперевес. После этого по слогам вникал в смысл увиденного. Позднее был покорен близостью и доступностью для деревенского мальчишки поэзии Некрасова. Его поэмы «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» так же, как и пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин», знал почти наизусть. Полюбил былины, повествующие о славных подвигах Ильи Муромца, о необычайных приключениях новгородского гусельщика Садко.
И в зрелом возрасте очаровывали его удивительный музыкальный строй и гармонирующая с русской душой поэтичность произведений народного творчества, завораживали красотой и чистотой хранящегося в них мировидения народа, отнюдь не идеализирующего свое прошлое и своих героев, но всегда ясно представляющего границу между добром и злом, верящего в неизбежное торжество светлых сил над темными. Вместе с тем они давали возможность прикоснуться к живым истокам родного языка, прочувствовать его богатство.
Не случайно значительно позднее, когда увлекся историей, сделал для себя Геннадий неожиданное открытие. Перечитывая «Слово о полку Игореве», пришел он к мысли, что этот выдающийся литературный памятник вовсе и не нуждается в переводах с древнерусского на современный язык – любая из его поздних литературных версий выглядит значительно беднее оригинала. Это же чувство не покидало его, когда читал «Повесть временных лет», возвращался к одному из самых любимых своих древнерусских произведений – «Слову о погибели Русской земли».
С годами возникшее в детстве пристрастие к чтению переросло в привычку, естественную потребность. И сейчас редкий вечер Геннадий Андреевич обходится без книги, хотя часто на сон остаются считаные часы. Не без основания гордится собранной за многие годы внушительной библиотекой, с удовольствием посещает книжные выставки и ярмарки.
Не так давно журналисты, увидев, с какой трепетной заботой относится он к разведению цветов на даче, задали ему вопрос: «Какие из них вы больше всего любите?» – «Проще сказать, какие не люблю». Подобным образом отвечает он и на вопрос о любимых писателях – слишком широк их круг. Хотя, конечно, есть авторы, которым отдает предпочтение. В их числе – Лермонтов, Пушкин, Бунин, Пришвин, Шолохов, Фадеев, Бондарев, Леонид Леонов, Валентин Распутин, Владимир Личутин… Такой, далеко не полный, ряд имен кому-то может показаться традиционным или в какой-то мере предсказуемым. Однако это вовсе не так. Геннадий Андреевич живо интересуется новинками, авторами самых разных литературных жанров и направлений. И уж во всяком случае, его отношение к литературе, как и к любому другому виду творчества, никак не вяжется со стереотипными представлениями о закоснелой консервативности вкусов политических деятелей, прошедших партийную школу советской эпохи. К примеру, не так давно, говоря о будущем партии на одном из последних пленумов ЦК КПРФ, Зюганов неожиданно для многих обратился к строкам из поэзии Владимира Высоцкого:
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд…
…1 сентября 1961 года Геннадий Зюганов, теперь уже Геннадий Андреевич, страшно волнуясь, переступил порог родной школы в новом качестве: накануне приказом директора он был зачислен в ее штат учителем сразу трех предметов – математики, военного дела и физкультуры. С приказом этим поначалу вышла небольшая заминка, так как для преподавания военного дела необходимо было разрешение военкомата на доступ к оружию, а выдавалось оно только лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. В конце концов военком, взяв ответственность на себя, махнул рукой и подписал нужную бумагу – ну какой же орловский парень не знает, как обращаться с оружием!
То, что Геннадию доверили преподавать математику, тоже понятно – секретов в этом предмете для выпускника средней школы, медалиста и постоянного участника районных и областных олимпиад, не было. В крайнем случае, возникнут какие затруднения – отец поможет. Но ведь и для преподавания физкультуры особые способности требуются. Оказалось, что Геннадию их не занимать.
Помнится, лет двадцать с небольшим назад один из известных и уважаемых писателей-«деревенщиков» весьма неодобрительно высказался по поводу попыток повсеместного внедрения физкультуры и спорта в жизнь сельской молодежи. Мол, сам образ жизни на селе с его ежедневными разнообразными нагрузками формирует крепкого и всесторонне развитого в физическом отношении человека. Кому из деревенских жителей после тяжелого трудового дня придет в голову мучить себя гантелями или изнуряющими кроссами? Подобные занятия необходимы только для молодых организмов, чахнущих на асфальте. В этом не бесспорном суждении присутствовала, безусловно, большая доля истины. Скажем, в ранние годы систематическими занятиями какими-либо отдельными видами спорта Геннадий себя не утруждал. Во-первых, как мы уже знаем, хватало работы по хозяйству. Помимо этого была у него в детстве одна особенность: пешком ходить не мог, передвигался только бегом – бегал в школу, в магазин за хлебом, косить траву для кроликов, проверять ульи на пасеке. Зимой не расставался с лыжами, заезженными до такой степени, что у них и желоба стерлись. Благотворно влияли на развитие мальчишек и подвижные русские игры в лапту и «чижика». Кстати, забытая ныне лапта по своей сути мало чем отличается от американского бейсбола, который некоторые «энтузиасты» безуспешно пытались культивировать в России в смутные девяностые годы. Впрочем, бейсболки всё же вошли в молодежную моду, а вот бейсбольным битам нашлось другое применение – в криминальных разборках.
По-настоящему Геннадий увлекся спортом с приходом в школу физрука – Ивана Сергеевича Сорочкина. Ладный, подтянутый, в военной форме (только что демобилизовался из армии), он сразу приворожил всех учеников. На первом уроке подошел к турнику (перекладину между двумя дубовыми столбами заменял обычный лом) и играючи крутанул «солнышко». Никогда не кичился физрук силой и ловкостью, но обладал завидным умением наглядно продемонстрировать любое гимнастическое упражнение или игровой прием, доходчиво разъяснить технические особенности их исполнения. Под его руководством при школе оборудовали прекрасные площадки для волейбола и баскетбола, стометровую беговую дорожку, полосу препятствий, даже тир отстроили. Сумел Сорочкин раскрыть спортивные способности Геннадия, и на районных соревнованиях старшеклассников по легкой атлетике тот выиграл практически все забеги, начиная со стометровки и заканчивая трехкилометровой дистанцией, победил в метании гранаты и диска, в толкании ядра.
Но при этом все же больше привлекали его игровые виды спорта, особенно волейбол. В этой игре ему давалось все, а приобретенные навыки, особенно атакующие удары с обеих рук, Геннадий Андреевич не утратил и по сей день. На протяжении всей жизни волейбол помогал ему сохранять отличную спортивную форму, а в трудные дни служил едва ли не главной психологической отдушиной, лучшим средством восстановления душевных и нравственных сил. Известно, что спорт быстро выявляет характер человека. Играть с Зюгановым в команде – одно удовольствие. На площадке он никогда не суетится, действует спокойно и уверенно, не дергает партнеров, если те начинают ошибаться, всегда найдет для них ободряющее слово.
Год работы в школе стал, наверное, самым счастливым периодом в его жизни. Поначалу, оказавшись в педагогическом коллективе, немного смущался, ведь совсем недавно он глядел на учителей как на людей необыкновенных, наделенных особым даром, владеющих непостижимым таинством, дающим им право учить других. Так же воспринимал он и своих самых близких людей – родителей, хотя они и не скрывали от сына секретов своей работы. Освоившись, Геннадий довольно быстро обнаружил, что в нелегком учительском труде нет особых тайн. Не загадочностью, а огромным уважением окружена профессия учителя. Однако уважение это само по себе не гарантирует того авторитета, которым пользуются большинство учителей. Без глубокого знания предмета и трудолюбия, педагогического таланта и опыта его не завоюешь. К тому же работа сельского учителя имеет свои особенности, требует полной самоотдачи, граничащей с самоотверженностью. Школа на селе – не просто храм знаний, но и главный, часто единственный, очаг культуры на многие версты вокруг. А ведь в то время даже из районного центра на Мымрино смотрели как на непроходимую глушь.
Может, и смирились бы местные жители с участью «людей из захолустья», если бы не педагогический коллектив школы, сплотивший единомышленников и подвижников, отличавшихся исключительной преданностью своему делу. Жизнь в школе не угасала с раннего утра и до позднего вечера – любой из детей после уроков находил здесь себе занятие по душе. Создали отличный хор, который сельчане могли послушать не только на концертах, но и во время репетиций. Как на праздник ходили они на спектакли школьного драматического кружка. Ну а наставником и душой сборной команды юных спортсменов стал Геннадий Зюганов. Поставил перед ними цель: на весенней спартакиаде школьников обойти Знаменскую районную школу. С особым азартом, даже зимой, на снегу, тренировались волейболисты. Приметил Геннадий способного парнишку, Алексея Музалевского – тот готовился к шоссейной гонке и в любую погоду приезжал на тренировки из соседней деревни на своем полутрофейном велосипеде, который усовершенствовал собственными руками. На нем он и стал потом чемпионом района. К весне на уроках труда пошили форму и на каждой майке вышили название школы. Когда построились на открытии спартакиады, все ахнули – такой красоты и организованности здесь еще не видели. Особенно порадовала волейбольная команда девочек, одолевшая считавшихся непобедимыми волейболисток районной школы. О мымрин-ских спортсменах заговорили с уважением.
Учебный год пролетел незаметно. Подступился было к Геннадию директор с просьбой поработать в школе еще годик, но на этот раз тот был неумолим – настала пора определяться в жизни. Собственно, к этому времени окончательный выбор он уже сделал: пойдет по родительской стезе и будет поступать в Орловский пединститут на физико-математический факультет. Работая в школе, почувствовал, что обрел призвание. Но, как это часто случается, жизнь распорядилась иначе: в школу он больше не вернулся. Но навсегда сохранил в себе глубочайшее уважение к учительскому труду и убежденность в том, что, только возродив престиж профессии учителя, общество сможет обрести дорогу к своему нравственному оздоровлению.
Уезжали в Орел вместе с Надеждой Амеличевой – она выбрала тот же институт, но другой факультет – исторический. Первое юношеское чувство, возникшее между ними, оказалось крепким. Через несколько лет, когда Геннадий отслужит в армии, они поженятся и сохранят прочные отношения на всю жизнь.
Хоть и уверенно чувствовал себя Геннадий перед неизвестностью, в которую неизбежно окунается каждый, кто покидает родительский дом, но в душе все же таилось беспокойство: слишком уж часто стали донимать отца фронтовые раны. Последний раз приступ болезни оказался настолько тяжелым, что по весенней распутице пришлось сыну самому везти его в районную больницу на гусеничном тракторе. Заключение врачей было тревожным: еще раз такое случится – неизвестно, чем кончится. Уезжая из дома, Геннадий дал родителям твердое обещание: будет трудно – заберу к себе. Слово свое сдержал и когда работал в Орловском горкоме партии, и когда переехал в Москву. Сложнее всего оказалось выполнить просьбу отца подобрать место для пасеки – не мыслил тот себя без близкого сердцу занятия. Все ближайшее Подмосковье исколесил Геннадий Андреевич, пока не нашел подходящий уголок на опушке леса, подле дачного участка своих друзей. Так что смог Андрей Михайлович, и живя в столице, предаваться любимому делу. Не оставлял он пчел до последних дней своей жизни.
Как всегда, беда пришла внезапно. Летней ночью 1990 года привиделся сыну нехороший сон: отец ушел из жизни. Бросил все и помчался в подмосковный пансионат, где тогда отдыхала вся большая семья Зюгановых. Когда приехал и увидел, что отец в здравии, успокоился и вечером вернулся в Москву. А через несколько часов Андрея Михайловича не стало… Всем нам суждено пережить такие утраты. Но тогда к горечи невосполнимой потери примешивалось еще и другое тяжкое чувство – ведь так и не смог Геннадий Андреевич дать отцу внятный ответ на немой вопрос, которым тот встречал его по вечерам: что же происходит со страной? Конечно, Андрей Михайлович и сам о многом догадывался, многое понимал, сопоставляя прочитанное в разношерстной прессе, просиживая за новостными программами у телевизора. Но трудно было беспартийному большевику, как он себя всегда называл, окончательно уверовать в реальность происходящего. Неужели всё было напрасно: кровь, пролитая на фронтах Великой Отечественной, немыслимо тяжелый труд послевоенных лет, увенчанный очередной величайшей народной победой – полетом в космос Юрия Гагарина, светлые мечты, на которых воспитывали подрастающие поколения? А ведь росли в массе своей по-настоящему одухотворенные и чистые люди.
Не может Геннадий Андреевич забыть этот укор во взгляде отца и сегодня, особенно во время посещений родительских могил в дни, предписанные православными традициями. Сейчас, конечно, осмыслено и понято значительно больше, чем прежде, виднее стали собственные ошибки и просчеты. Он не скрывает: ему есть в чем каяться. Прежде всего в том, что, наверное, не хватило решимости и последовательности, чтобы до конца отстаивать свои позиции и убеждения в тот период, когда находился во властных коридорах Старой площади. Там, где под словесную трескотню «архитекторов перестройки» вершилось беспрецедентное предательство великой страны и ее великого народа. Но многие ли сейчас имеют право утверждать, что на исходе восьмидесятых – в начале девяностых ясно представляли, что и как следует делать? Тем более в те критические периоды, когда над страной нависала зловещая тень новой гражданской войны.
И все же… Не дано русскому человеку стряхнуть с себя чувство вины. Совесть не позволяет. Поэтому-то, наверное, так часто и приходят на память Геннадию Андреевичу строки Александра Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Когда-то мог он поделиться своими мыслями и переживаниями с отцом. Сейчас труднее – самое сокровенное даже не всем близким друзьям поверишь. Особенно тяжелые чувства одолевают, когда приезжает в Севастополь на встречи однополчан отца – что им скажешь, чем оправдаешься? Но чувствует, что всё понимают они. И надеются. Кстати, чтит он память о боевом прошлом и других своих родственников: например, специально ездил в Калининградскую область, чтобы поклониться местам, где воевал его дядя Дмитрий Михайлович Зюганов, получивший тяжелое ранение в сражении за Кенигсберг.
Кому-то посещение Зюгановым Крыма в июньские дни 2006 года, когда в результате решительного протеста украинского народа высадившийся здесь американский десант вынужден был убраться восвояси, может показаться обычным политическим жестом. Но его подвигли на эту поездку прежде всего глубоко личные мотивы: Крымская земля ему особенно дорога потому, что здесь пролил кровь его отец. «Для меня американские солдаты в Крыму все равно что вражеские танки на Прохоровском поле», – сказано ясно и доходчиво. Под этими словами Зюганова могут подписаться и миллионы россиян, и большинство жителей Украины, не утративших историческую память. Выяснилось, что крымский урок не пошел впрок нашим правителям, затеявшим было с американцами совместное учение «Торгау-2006». Видно, не о политической близорукости следует вести речь. Похоже, в очередной раз решили проверить наш народ на прочность: «Додавили? Нет еще?»
Тогда, в 1962 году, когда Геннадий покидал отчий дом, будущее представлялось по-иному. Страна была на подъеме. Был совершен впечатляющий прорыв в космос, по Северному морскому пути проводил транспортные караваны ледокол «Ленин» – первое в мире гражданское судно с атомной силовой установкой, а просторы воздушного океана бороздили сверхсовременные Ту-114. Достижения в науке, технике и промышленности были столь очевидными, что возникавшие время от времени провалы в экономике, главным образом в сельском хозяйстве, и социальные конфликты в некоторых регионах, проявившиеся после вынужденного повышения розничных цен на мясо и масло в 1962 году, искренне воспринимались как временные неудачи, досадные просчеты. Несмотря на волюнтаристские замашки Хрущева, получившие свое отражение и в новой, третьей Программе КПСС, молодое поколение воодушевляла поставленная партией цель – за два десятилетия построить в стране коммунистическое общество. Конечно, в пытливые умы закрадывались сомнения по поводу столь категоричного определения сроков строительства светлого будущего, но казалось, что сама жизнь подтверждает их обоснованность. Как яркое свидетельство жизненности идей, вдохновлявших страну, была воспринята и победа социалистической революции на Кубе. Нагнетание империалистическими силами эскалации «холодной войны», что, как известно, привело к возведению Берлинской стены и Карибскому кризису, только укрепляло решительность и энтузиазм строителей коммунизма, веру в его торжество.
Это – было, этим жили, и напоминание об этом необходимо, чтобы понять, в какой атмосфере и с каким настроем вступал Геннадий Зюганов в большую жизнь. Не с пустыми руками начинал он самостоятельный путь: серебряная медаль по окончании школы, трудовая закалка и хорошая физическая подготовка, наконец, приобретенный первый, но бесценный педагогический опыт – серьезный «капитал», позволявший уверенно стоять на ногах. Может, у кого-то из читателей появились сомнения: не слишком ли «правильными» представлены первые годы становления нашего героя? Думается, нет в них ничего необычного. В подавляющем большинстве советских семей, не только на селе, но и в городе, в детях с ранних лет воспитывали уважительное отношение к труду, почитая его мерилом нравственных достоинств человека. Труд составлял цель и смысл жизни.
Даже не склонные к фатализму люди соглашаются, что во многом наша судьба предопределена от рождения, тем, в какой семье и где мы появились на свет. Родителей и родину, как известно, не выбирают. Как мы теперь понимаем, повезло Геннадию с родителями, которые воспитывали сына не нудными нравоучениями, а собственным отношением к делу, к окружающим людям, к самой жизни. Именно по ним он до сих пор сверяет свои дела и поступки, мысленно советуется с ними, принимая трудные решения. Гордится Геннадий Андреевич и своей малой родиной – Орловщиной. Как-то в своих воспоминаниях он записал: «Возможно, для кого-то фраза „все мы родом из детства“ звучит банально, но для меня это высокий и чистый образ, потому что я родом из детства, осененного светом Великой Победы. Счастье той Победы, святые народные жертвы, принесенные на ее алтарь, – вот что питает корни моей личной судьбы, что навсегда впечаталось в сознание. А у нас в крае испокон веков люди рождались с твердой патриотической позицией. Когда я читал у Ключевского про времена Смуты, поразился тому факту, что лишь орловский воевода отказался присягнуть Лжедмитрию…»