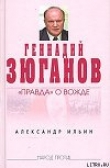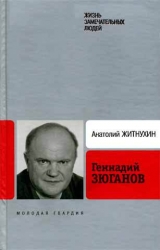
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Как потом понял Геннадий Андреевич, ждали напрасно. Ведь помимо прочего в справке, представленной руководству ЦК, детально анализировалась провокаторская деятельность в Литве так называемой «московской группы поддержки». Ну разве мог тогда Зюганов представить, что работа этих людей координировалась оттуда же, куда была направлена разоблачающая их записка, что Горбачев и Яковлев сознательно поощряли рост сепаратистских настроений, поэтому и твердили постоянно: «Нельзя поддаваться на провокации, если вмешаемся, только усугубим ситуацию. Пена на волне обновления сойдет сама собой». Позднее разъяснилось, что именно после визита Яковлева в Прибалтику там сложился настоящий методический центр, готовивший документы и инструкторов для создания националистических «народных фронтов» в других союзных республиках. Волну сепаратистских выступлений вызвали и его поездки в Таджикистан и Закавказье. Лидер Саюдиса В. Ландсбергис весной 1990 года в одном из своих интервью западным корреспондентам высказывался по поводу происходившего весьма откровенно: «Запад должен понять, что Горбачев сам позволил сложиться нашей ситуации. Он в течение двух лет наблюдал за ростом нашего движения за независимость. Он мог бы остановить его в любой момент». Как говорится, комментарии излишни.
Довольно скоро Зюганов убедился, что любые предложения, способные реально повлиять на развитие событий в стране, на внутриполитическую обстановку в партии, наталкиваются на глухую стену молчания или отвергаются под любыми предлогами. Яковлев, как тромб, закупорил кровеносную систему КПСС, связывающую региональные партийные организации с ЦК. Огромная и мощная машина – аппарат Центрального Комитета, призванный проводить в жизнь политические решения партии, работала на холостом ходу. Партия с катастрофической быстротой утрачивала свою исторически сложившуюсяруководящую роль в обществе, что вело к полной парализации всей системы государственно-политического управления. Страна оказалась на пороге анархии, поскольку на тот период никакие Советы не могли заменить эту систему или создать взамен что-либо новое.
Весь ход развития событий в те годы и последующее время свидетельствует о том, что политическая реформа, проходившая под знаком возрождения полновластия Советов, являлась блефом, отвлекавшим внимание людей от готовившихся государственных преобразований совершенно иного свойства. Избирателей привлекали на выборы лозунгом «Вся власть Советам!», обещая скорое пришествие эры «настоящей» демократии, высвобожденной из-под партийного гнета. На деле же «архитекторам» перестройки были одинаково ненавистны и партия, и Советы. С КПСС окончательно покончили, устроив хитроумную и циничную провокацию в августе 1991 года, с Советами – с помощью танков в октябре 1993-го. Суть того, что скрывалось за лозунгами свободы и демократии, одной фразой обнажил Борис Березовский: «Больше нами никогда не будут управлять голодранцы». Сказано доходчиво. В телевизионную камеру, на всю страну.
Идеи парламентаризма, который на первых порах для отвода глаз в прессе называли «советским», стали внедряться в общественное сознание под предлогом необходимости разделения в «цивилизованном» обществе законодательной и исполнительной власти. То, что принципиальное отличие советской власти от буржуазного парламентаризма определяется их различной экономической основой, на всякий случай замалчивалось. В результате пересмотра Конституции СССР на смену Верховному Совету СССР пришел громоздкий Съезд народных депутатов, насчитывающий 2250 человек. Из его состава избирался двухпалатный Верховный Совет, ставший постоянно действующим законодательным, распорядительным и контрольным органом власти в стране. Формально такая структура вроде бы соответствовала ленинской схеме: «съезд + ЦИК», но без единого партийного руководства она полностью утрачивала свою жизненность. Более того, порядок выборов Съезда, при котором треть депутатов избиралась на съездах и конференциях общественно-политических организаций, наносил очередной чувствительный удар по и без того пошатнувшемуся авторитету КПСС.
Короткая история Съезда – эта история «пятой колонны» в депутатском корпусе, роль которой взяла на себя Межрегиональная депутатская группа, идейно и материально поддерживаемая не только внутренней контрреволюцией, но и антисоветскими силами извне. Большинство депутатов, искренне озабоченных судьбой страны, были не готовы к скоординированным и яростным атакам МДГ на политические и экономические устои СССР, оказались безоружными против лживых и враждебных выступлений Ю. Афанасьева, А. Собчака, Г. Старовойтовой, Г. Попова и других записных ораторов группы. Заседания Съезда превратились в бесконечные телевизионные шоу, которые к тому же тенденциозно комментировались «демократической» прессой. На неугодных депутатов, согласно «демократической» же традиции, навешивался ярлык, изобретенный еще во время работы XIX партконференции – «агрессивно-послушное большинство». Никто не задавался вопросами: в чем заключалась их агрессивность и кому они были послушны? Главное – не выпускать противника из-под психического прессинга, под который, естественно, попали и российские депутаты.
Дело не ограничивалось простыми словесными баталиями. Подрывная работа МДГ с использованием тактики подавления и устрашения была поставлена на широкую ногу. В сентябре 1989 года на засекреченной конференции Московского объединения клубов избирателей Г. Попов инструктировал своих единомышленников: «У нас есть шансы для победы, нужно ставить на учет каждого депутата РСФСР. Он должен понять, что если он будет голосовать не так, как скажет Межрегиональная группа, то жить ему в этой стране будут невозможно». В своем кругу рядиться в тогу демократа было не обязательно, а в борьбе за власть можно использовать и откровенно преступные средства: «Для достижения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. Затем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от карточек) продавать по произвольным ценам». Эти циничные установки проводились в жизнь, о чем свидетельствуют, например, воспоминания о том времени Н. И. Рыжкова: «Полки магазинов пусты, в морских портах стоят суда с продовольствием и товарами народного потребления, а желающим принять участие в их разгрузке вручают деньги и отправляют восвояси. На железных дорогах создают пробки, практически перекрывающие жизненные артерии страны. На полях гибнут хлеб, овощи, в садах гниют фрукты. На страну обрушилось сразу все: всевозможный дефицит, преступность, обострение межнациональных отношений, забастовки. Фактически в государстве наступила полная дестабилизация экономической, да и политической жизни. Кому это было выгодно? Тем, кто ни с чем не считался в своих действиях по дискредитации государственной власти и кто рвался к ней сам. В итоге власть была парализована. С тех пор на протяжении более полутора десятков лет, чтобы задним числом оправдать приход к власти „демократов“, по телевидению показывают одни и те же кадры: пустые полки продуктовых магазинов. Но нынешние „независимые“ властители СМИ стыдливо умалчивают о том, почему они пустовали… В стране брала власть охлократия» [16]16
Рыжков Н. И.Разрушители державы // Наш современник. 2006. № 2.
[Закрыть].
Моральный террор псевдодемократов давал свои результаты. На I съезде российских депутатов, состоявшемся в мае 1990 года, о своей принадлежности к фракции «Коммунисты России» из 800 с лишним членов КПСС заявило лишь около 380 человек. Колеблющиеся и откровенно запуганные отсеивались и в дальнейшем, через полтора года, в этой фракции осталось всего 53 депутата-коммуниста.
Можно понять состояние Зюганова, который не просто наблюдал за происходящим, но и обладал, в силу своих прямых служебных обязанностей, практически полным и всесторонним анализом обстановки на съездах народных депутатов и вокруг депутатского корпуса, сценариями и прогнозами развития событий. Как нетрудно догадаться, его тревогу и озабоченность в руководстве партии не разделяли, а аналитические записки в лучшем случае «принимали к сведению».
Положение усугублялось тем, что псевдодемократизм, который превратил депутатские съезды из высших органов власти в заурядные митинговые сборища, стал стремительно разъедать партию. Члены КПСС правой ориентации, настаивавшие на безусловном приоритете частной собственности и парламентском пути развития страны, сформировали на базе возникших ранее региональных партклубов «Демократическую платформу», которую возглавили либерально настроенные В. Шостаковский, Н. Травкин, О. Лацис, В. Липицкий, В. Лысенко. Вошли в нее и такие известные «демократы», как Г. Попов, А. Собчак, Г. Старовойтова, Ю. Афанасьев, а также Д. Волкогонов, Е. Гайдар, Г. Бурбулис. Уже один перечень этих имен говорит о том, что «Демплатформа» была не чем иным, как организационно оформленной «пятой колонной», занимавшейся в основном разрушением партии изнутри.
«Марксистская платформа», группировавшаяся вокруг А. Пригарина, А. Крючкова, А. Колганова, А. Бузгалина, признавала смешанную экономику с доминированием общественного сектора и делала акцент на самоуправление и демократию в политике. Крайне левые объединения – движение «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы», возглавляемое Н. Андреевой, движение «Коммунистическая инициатива», лидерами которого стали В. Тюлькин, А. Сергеев, В. Терентьев, В. Анпилов, М. Попов, В. Долгов, А. Золотов, «Большевистская платформа» Т. Хабаровой – выступили против ревизионизма Горбачева, но не предлагали конструктивных путей выхода из кризиса. Их взоры были обращены в прошлое, а попытки привнести в настоящее опыт революционной борьбы давно ушедшей эпохи, в том числе возродить в партии и воплотить в жизнь лозунг диктатуры пролетариата, имели сомнительную перспективу. Наиболее активная часть пролетариата, как известно, в критический для партии и страны период коммунистов не поддержала и отдала предпочтение Ельцину.
В 1992 году известный писатель Владимир Личутин, оценивая состояние русского патриотического движения, так и не сумевшего перед лицом национальной угрозы преодолеть в своих рядах разброд, с горечью заметил: «Любимое русское, славянское занятие – раскол. Оно и позволило произойти со страной тому, что произошло». Личутин – не политик, поэтому не ходит вокруг да около, а прямо называет причины, мешающие единению: борьба амбиций, самолюбий, характеров. И делает печальный вывод: «Мы умираем поодиночке, но за общее дело».
Эти суждения писателя невольно приходят на ум, когда знакомишься с судьбой радикальных коммунистических организаций, заявивших о себе еще до распада КПСС и окончательно оформившихся на ее обломках. Полбеды, если бы они только обособились и в одиночку, каждая по-своему, боролись за интересы трудящихся. Но ведь при этом не дает их лидерам покоя то обстоятельство, что бывшие соратники пользуются большим авторитетом и влиянием в массах, представляют собой и в современных условиях внушительную политическую силу. Иногда создается впечатление, что их больше интересует не реальный вклад в движение против антинародной политики действующей ныне власти, а то, какое, насколько заметное место они в этом движении занимают, не эффективность повседневной работы, а «чистота» идей, которые они исповедуют. Отсюда – и поиск противников, «засоряющих» революционную теорию, на своем политическом поле. Ими свято почитаются все азбучные истины научного коммунизма, за исключением некоторых положений. О том, например, что марксизм – не догма, а руководство к действию. Пока орудовали Горбачев с Яковлевым и еще существовала КПСС, было понятно, кого следует клеймить за измену марксизму. Со временем стало сложнее: для того чтобы развернуться и повести за собой массы, нужна революционная ситуация, которая, если вспомнить ее «классические», ленинские признаки, еще не сложилась. А пока и низы терпят, и верхи «могут», следует использовать историческую передышку для борьбы с ревизионизмом и оппортунизмом, которые, по мнению радикалов-марксистов, олицетворяют КПРФ и ее лидер. Не так давно в ЦК КПРФ пришло «открытое» письмо от одного старого коммуниста, в котором «членам партийной верхушки» предлагается «определиться конкретно, за кого они:
1) За большевиков или меньшевиков?
2) За ленинизм или оппортунизм?
3) За Сталина или Путина?
4) За частную собственность или против?
5) За революционную борьбу или за парламентское соглашательство?».
Подобные тесты из нескольких незамысловатых альтернативных вопросов, с помощью которых КПРФ часто экзаменуют другие левые партии, выдержать, конечно, нелегко. Ведь, если, к примеру, завтра спросят, почему в руках классового противника до сих пор остаются телеграфы, мосты и вокзалы, тоже ответить будет нечего.
Наблюдая за нападками на Компартию и Зюганова, трудно сказать, кто больше преуспел, вставляя им палки в колеса, – откровенные антикоммунисты или те, кого принято считать «своими». Ради чего и во имя чего ведется эта перманентная борьба на протяжении полутора десятилетий, когда затраченные усилия можно было бы обратить на пользу общему делу? Вразумительного ответа на этот вопрос никто не дает. Может быть, потому, что лежит он не в политической, не в идейной плоскости, а в сфере обычных человеческих отношений, там, где сталкиваются личные амбиции.
Кризис КПСС, проявившийся в 1989–1990 годах в возникновении обособленных движений и платформ, обнажил только верхушку айсберга, под которой скрывался огромный спектр прямо противоположных и взаимоисключающих взглядов как на внутрипартийные проблемы, так и на острейшие задачи текущего момента. Сколько людей – столько и мнений. Партия стала превращаться в дискуссионный клуб. Для Зюганова было очевидным, что стремление к созданию собственных, замкнутых площадок для внутрипартийных дискуссий ведет к разрушению КПСС. Больше всего его удручало то, что не было единения среди партийцев, осознававших необходимость сопротивления курсу Горбачева – Яковлева. Меж ними образовалось несколько своеобразных и непреодолимых водоразделов. В области экономической камнем преткновения становился вопрос о рынке и многоукладности экономики. В политической сфере существовал разброс мнений о роли и месте Компартии в жизни общества, многопартийной системе, степени централизации государственного управления и границах суверенитета. В идеологии не сформировалось ясного видения путей разрешения обострившихся национальных противоречий, отношения к патриотическому движению, религии. И это далеко не полный перечень проблем, порождавших разноголосицу, мешавших консолидации сил, способных остановить процесс всеобщего развала.
В такой обстановке перед Зюгановым оставалось два пути. Можно было последовать примеру некоторых коллег – определить для себя более или менее приличное «пристанище» и действовать в меру своей порядочности «по обстановке», полагаясь на то, что найдутся люди, способные «оседлать» этот почти неконтролируемый процесс и направить его в нужное русло. Говоря проще, можно было отсидеться. Но честнее было, несмотря ни на что, держаться собственной линии поведения, руководствуясь личной позицией.Зюганов выбрал второй путь – чувствовал, что его позицию разделяют многие партийные руководители и коллеги. Убедился в этом после одного из совещаний в ЦК с участием руководителей регионов, которое проводил Горбачев. Отчаявшись «достучаться» до руководства Центрального Комитета в обычном порядке, Геннадий Андреевич решил, что молчать больше нельзя и надо во что бы то ни стало использовать представившийся шанс, чтобы донести свою озабоченность до первых лиц. С заметками в руках расположился прямо перед столом президиума, напротив Горбачева. Тот, пожалуй, впервые заговорил о чрезвычайной обстановке, сложившейся в стране, о необходимости принятия экстренных мер. Но когда стали заслушивать выступления с мест, в свойственной ему манере стал перебивать ораторов и сглаживать углы. Как ни пытался во время прений делать вид, что не замечает Зюганова, тот был настойчив – пришлось все же дать ему слово.
В первом своем тезисе Геннадий Андреевич подчеркнул, что КПСС является не просто партией, а представляет собой исторически сложившуюся систему государственно-политического управления. Именно это важнейшее и, казалось бы, очевидное обстоятельство почему-то замалчивается и обходится стороной. Попытки оттеснить партию с тех позиций, которые она всегда занимала в советском обществе, вызовут ломку всей системы, что крайне опасно для судьбы страны. Нельзя государственный корабль загнать в док, чтобы очистить днище, – он должен плыть и работать круглые сутки, без остановки.
Основной приводной ремень партии к массам – партийный аппарат. В стенах ЦК мы во всех речах восхваляем его, а на местах ни в грош не ставим. Мало того, что грамотные и инициативные специалисты уже давно не идут на работу в райкомы и горкомы с предприятий, потому что значительно теряют в зарплате. Вместо того чтобы наладить механизм обеспечения притока партийных кадров, мы теперь его ломаем окончательно, лупим партийных работников со всех сторон. В результате ЦК теряет опытных и квалифицированных людей, окончательно утрачивает связь со своими низовыми звеньями.
Подверг Зюганов сомнению и лозунг «Больше демократии – больше социализма». Вся беда заключается в том, что демократии за последние годы больше не стало, потому что ее незаметно подменили охлократией: условия диктуют недовольные и обиженные, люди, настроенные к советской власти откровенно враждебно. Поэтому и социализма становится все меньше.
Один из демократических вывихов – выборы руководителей производственных предприятий. Таким способом попросту избавляются от наиболее требовательных, жестких и рачительных профессионалов. Вспомнил, как вместе с коллегами принимал японскую делегацию. Японские бизнесмены все время недоумевали: «Кто же у вас придумал эти выборы? Ведь для того, чтобы вырастить хорошего руководителя, иногда приходится 15–20 лет тратить!» Если этот процесс не остановить, то нынешняя система выметет всех наиболее грамотных директоров, способных организовать перестройку производства.
Зачадили национальные окраины, и, как выясняется, националистические фронты получают поддержку не только из-за рубежа, но и из центра, из Москвы. При этом любой разговор о равноправии русских регионов и получении ими целевых средств в ведущие отрасли экономики, на базе которых развивалась страна и поднимались окраины, считается чуть ли не проявлением русского национализма. Эта проблема настолько разрослась, что стала ощущаться даже в характере общения партийных работников. Некоторые представители союзных республик, прежде всего из Прибалтики и Закавказья, махнули рукой на общепартийные задачи и ничего не хотят видеть, кроме своих частных вопросов. В целях предотвращения дальнейшего разрастания национализма Геннадий Андреевич предложил срочно предпринять меры, направленные на укрепление экономических и культурных связей центральных областей России с закавказскими и среднеазиатскими республиками.
Особенно резко высказался по поводу перекосов в кооперативном движении. Частную инициативу необходимо было в первую очередь развивать там, где уже был накоплен опыт, – в торговле и сфере обслуживания. Бездумное создание кооперативов на базе промышленных предприятий привело к тому, что они вызвали паралич основного производства, стали насосом, перекачивающим предварительно обналиченные государственные средства в частные карманы и криминальный сектор. Все твердят о том, что нашу экономику спасет только рынок. При этом почему-то не хотят вспоминать, что развитые западные страны, те же японцы, ежегодно «забивают» в свои планы экономического развития тысячи жестких показателей. Наивно думать, что в нашей огромной и холодной стране стихийный рынок способен что-то изменить к лучшему и отрегулировать.
Затронул он и деятельность средств массовой информации. «Четвертая власть» давно уже превратилась в первую, ни с кем не считаясь, диктует обществу свои правила и условия. Необходимо прекратить развернутый в СМИ «отстрел» наиболее честных, грамотных и принципиальных коммунистов, остановить дискредитацию партии.
После совещания, как водится, к Геннадию Андреевичу подходили, чтобы поделиться впечатлениями, его участники – руководящие работники ЦК, секретари обкомов. Все были буквально поражены тем, что Горбачев, против обыкновения, слушал внимательно, даже ни разу не перебил, а в конце и поддержку выразил: мол, согласен я с вами, Зюганов. Только вот сам Зюганов оптимизма от этого не испытывал – в заключительном слове генсека не было ни одного упоминания о том, что он говорил и предлагал. Не чувствовалось в нем и той тревоги, которая прозвучала в других выступлениях. «Нет, ребята, беда – ничего делать не будет!»
…Как-то в одном из своих поздних интервью газете «Известия» А. Н. Яковлев рассказал о методах своей антипартийной деятельности: «У нас был единственный путь – подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали». Путь этот, как мы теперь знаем, был далеко не единственным, использовался целый арсенал подрывных средств, огромные материальные ресурсы. Но партийная дисциплина действительно сковывала инициативу честных кадровых работников. Прошли те годы, когда дисциплина способствовала сплочению и укреплению партийных рядов – в решающий момент бездумное послушание сыграло с партией злую шутку.
Речь, конечно, шла не о простых условностях, которые в интересах дела можно было и проигнорировать. Дисциплина для коммуниста – понятие не абстрактное. Она неотделима от его морального долга перед партией и первейшей обязанности – в любых условиях крепить целостность и единство своей организации. Чтобы решиться на «бунт», нужно было быть уверенным, что он не навредит общему делу.
Пожалуй, единственную отдушину, которая давала возможность отвлечься от переживаний, успокоиться и собраться с мыслями, Геннадий Андреевич находил тогда в долгих прогулках по Москве. Если позволяло время, с работы возвращался пешком – дорога до дома, расположенного около Белорусского вокзала, занимала минут пятьдесят. Иногда, чаще по субботам или воскресеньям, делал большой круг и шел сначала в сторону Арбата, где подолгу бродил по тихим переулкам, любуясь архитектурой старинных особняков, навевавших воспоминания о родном Орле. Но больше всего любил он свой традиционный маршрут, пролегавший через улицу Горького. Наверное, потому, что с этой улицей у него были связаны незабываемые впечатления о Москве, которые сохранились со времени первого знакомства со столицей, состоявшегося в юношеском возрасте. Трудно передать те чувства, которые охватили его в тот раз, когда меж теснящихся зданий неожиданно завиднелся белоснежный кров Исторического музея, а затем открылась и величественная панорама Кремля, Красной площади. Сколько потом ни любовался этой картиной, вновь испытывал такое же, как в юности, острое волнение.
Когда видишь изо дня в день то, что давно стало привычным и близким, не всегда воспринимаешь новые детали – почему-то они иногда не укладываются в сознание, выглядят случайными и несущественными. Может, поэтому и не заметил Геннадий Андреевич, как изменилась главная улица города и однажды явилась ему совершенно другой, чужой и неприветливой. Случилось это в один из солнечных мартовских дней 1990 года. Несмотря на прекрасную погоду, вдруг обнаружил он, что не ощущает той приподнятой атмосферы, которая всегда, даже в будни, царила в этой части Москвы. Улица и прилегающие к ней площади казались обезлюдевшими. Не было обычной беззаботной суеты, которую создавали туристы и многочисленные гости столицы из различных уголков страны. Спешившие по своим делам озабоченные прохожие хмуро и сосредоточенно смотрели под ноги, опасаясь угодить в грязь, скопившуюся на тротуарах и мостовых. На всем лежала печать неряшливости и бесхозности. Яркая и крикливая реклама только усиливала чувство какого-то странного запустения. Не покидало оно даже при виде длинной очереди перед входом в «Макдоналдс». На другой стороне улицы, у здания, где размещалась редакция «Московских новостей», собирался очередной митинг, и в голосе зазывалы с мегафоном звучали, сообразно моменту, трагизм и решительность: предстояло какое-то очередное публичное разоблачение. Ближе к центру шныряли какие-то темные личности, что-то предлагали из-под полы, воровато озираясь по сторонам. В подземных переходах – нищие, инвалиды, уличные музыканты, гадалки в окружении чумазых детей. На развалах у магазина «Подарки» – залежи самиздатовской литературы и «демократических» газет с броскими заголовками, привлекавшими обывателя интригующими словосочетаниями: «кремлевская мафия», «империя красного фашизма», «душители Литвы», «жандармы свободы».
Все увиденное вдруг явилось довольно неожиданным откровением. То, чем жила КПСС, показалось Геннадию Андреевичу каким-то ненастоящим, оторванным от действительности, отгороженным от нее непроницаемой стеной. В реальной жизни уже вовсю хозяйничали другие силы, которые ломали и перестраивали все на свой лад. Он же, Зюганов, как и сотни, тысячи других честных партийцев, незаметно для себя оказался выключенным из игры, должен был довольствоваться ролью высокопоставленного чиновника, выполняющего, по сути дела, функции наблюдателя, не имеющего возможности предпринять что-либо значимое, на что-то повлиять. Вновь вспомнилось, что ни одно его предложение, ни одна докладная записка в течение последнего года так и не были должным образом рассмотрены. «Сверху» недвусмысленно давали понять: лучше «не дергаться». Все, что воспринималось как внутрипартийная демократия и дисциплина, нормы и традиции партийной жизни, обернулось ловушкой, из которой следовало найти выход немедля, пока она еще не захлопнулась.
Вырваться из замкнутого круга можно было только с помощью партийной печати. Она давала возможность не только высказать наболевшее, но и еще раз сверить собственные мысли и соображения с настроениями партийного актива и коммунистов. Без их поддержки любые шаги и усилия теряли смысл. Три ночи ушло на подготовку материала. Размышлять над тем, куда его нести, не приходилось – большого выбора не было. Ведущую партийную газету – «Правду» – Горбачев с Яковлевым держали в ежовых рукавицах. Осенью 1989 года освободили от обязанностей ее главного редактора В. Г. Афанасьева. Как полагают многие, за статью о пьянстве Ельцина в Америке. Однако дочь Виктора Григорьевича Ольга Афанасьева считает, что основной причиной внезапной отставки послужила упомянутая нами секретная конференция Московского объединения клубов избирателей, выступление на ней Г. Попова и других «межрегионалов». Стенограмма этого сборища попала к ее отцу, и он подготовил предложения, направленные на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей дестабилизации обстановки в стране и прорыву «межрегионалов» к власти. На следующий день после того, как он передал документ Горбачеву, ему предложили уйти на пенсию.
Находясь под таким прессом, газета не просто избегала публикации оппозиционных материалов, но и решительно пресекала любое инакомыслие. Яркий пример – редакционная статья против Нины Андреевой, послужившая сигналом к началу травли «противников перестройки». Когда Зюганов в апреле 1991 года опубликовал открытое письмо Н. А. Яковлеву, обнажившее истинное лицо «архитектора» перестройки, он также подвергся суровому осуждению на страницах «Правды». Стоит ли удивляться, что мысль отнести свою первую крупную статью в «Правду» Зюганову даже в голову не приходила. По его мнению, единственной газетой, занимавшей тогда твердые партийные и патриотические позиции, была «Советская Россия», возглавляемая мужественным и честным коммунистом В. В. Чикиным, который возглавив газету в 1986 году, провел ее через все тяжелейшие испытания. Благодаря ему газета никогда не отступалась от своих идеалов и в 2006 году достойно встретила свое пятидесятилетие. Хочется привести слова одного из многочисленных приветствий, поступивших в редакцию «Советской России» в дни празднования юбилея:
«Низкий поклон вам за то, что вы в это мрачное время помогаете нам выжить и оставаться людьми, что своей патриотической работой поднимаете на борьбу за социальную справедливость и тех, кто сегодня опустил руки, и тех, кто, разочаровавшись и разуверившись во всем, сдался на милость обстоятельств.
Низкий поклон вам за то, что вы, находясь на переднем крае борьбы за возрождение России, даете достойный отпор всем очернителям нашей славной истории».
Принадлежат эти слова Т. М. Егоровой, дочери легендарного человека, Героя Советского Союза Михаила Егорова, водрузившего над рейхстагом вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы. И выражают они чувства сотен тысяч людей, для которых и поныне каждый номер газеты подобен глотку свежего воздуха в затхлой атмосфере лжи и цинизма.
…Статья Зюганова под названием «Всесторонне оценить ситуацию» увидела свет 13 апреля 1990 года. Прежде чем воспроизвести ее важнейшие фрагменты, хотелось бы обратить внимание на то, что содержащийся в ней ясный анализ сложившейся к тому времени обстановки в стране сделан по горячим следам событий, в условиях, когда большинство партийцев были окончательно сбиты с толку и запутаны, уже с трудом разбирались в происходящем.
«…С начала перестройки уже прошло пять лет. Это срок значительный даже по историческим меркам. Сейчас перестройка переживает большие трудности. И здесь дежурными ссылками на застой, командную систему, всевозможные культы и культики уже не обойтись. Нужен углубленный анализ содеянного. Думаю, что это нужно не только из стратегических, но и тактических соображений. Ибо в последнее время, когда хотят загнать в „угол“ идеологического работника, умудренные жизненным опытом слушатели часто прибегают к логике исторических параллелей. Мол, за пять лет, что бы там ни говорилось, большевики в честной борьбе выиграли гражданскую войну, пережили трудности „военного коммунизма“ и освоили азы нэпа. За пять лет мы допустили фашистов до Волги, но успели добить их в собственном логове. За пять лет восстановили на треть порушенное войной народное хозяйство и ликвидировали ядерную монополию США. За пять лет прорвались в космос, добились военного паритета и превратились, по оценке того же Запада, в супердержаву. А вы провозгласили перестройку, породили большие надежды, а на самом деле довели страну до развала, оставили без мыла и гвоздей и хотите при этом уйти от ответственности.