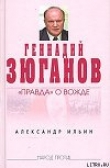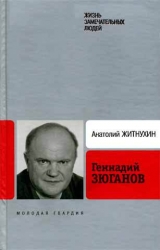
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Если мы серьезные политики и идеологи, то не считаться с этой горькой логикой нельзя. Да, выводы делать пора, понять, в чем сильные и слабые стороны перестройки, каковы наши первоочередные задачи».
Далее Геннадий Андреевич остановился на анализе промахов, которые были допущены изначально и привели к негативным последствиям. Первую проблему он сформулировал как одновременность.
«Начав перестройку, партия вынуждена была решать многие сложные и крупные проблемы, которые накапливались годами и десятилетиями, по существу одновременно. Отрабатывать новый хозяйственный механизм, проводить политическую и правовую реформу, разгребать завалы бюрократизма и казнокрадства, обновлять партию. Но при одновременном решении многих проблем исключительное значение приобретает выбор приоритетов, четкость целей и определенность стратегии.
На мой взгляд, здесь допущены два серьезных промаха. Опять проявилась старая болезнь – экономику принесли в жертву политике. Если проанализировать последние три года, то практически каждое полугодие мы втягивались в новую политическую кампанию, которая отнимала основные силы не только у партийных, советских работников, но и у хозяйственников. Не позволяла как следует заняться модернизацией народного хозяйства. И второе – за всеобщими разговорами о правовом государстве забыли обеспечить элементарный порядок и законность. А это, в свою очередь, резко обострило и без того сложные национальные отношения.
Короче говоря, экономика, законность и национальные отношения должны стать приоритетами в нашей политической и идеологической работе».
Большие проблемы все эти годы создавало то, что, по мнению Зюганова, уже к началу перестройки был во многом истрачен кредит доверия партии.В дальнейшем в результате непродуманного ведения борьбы с пьянством, разгула спекулятивных кооперативов, выборов хозяйственных руководителей он истощился еще больше. Все это породило у кадров боязнь, декларативность, идейную и организационную беспомощность. Ослабли внутрипартийные связи.
«Перестройку мы начали в условиях, когда нравственноездоровье общества было наихудшим, когда истощилась его нервная система, когда чувство реализма оказалось утраченным настолько, что даже массовое грязепомазанье вдруг мило нарекли „очищением“. И вот на этой неподготовленной почве долгожданные семена демократии и гласности вдруг стали прорастать не только культурными злаками, но и чертополохом национализма, экстремизма и пошлости… Давно пора осознать опасность, которую несут завезенные из-за океана не только вирусы СПИДа, но и политической проституции. И здесь Центральному Комитету партии надо занять четкую и ясную позицию. Этого ждут рядовые коммунисты. Они просто требуют этого.
Какие же факторы больше всего дестабилизируют обстановку? По всей видимости, их два. Эйфория власти, т. е. типичный синдром популизма. И поругание всей жизни, прожитой страной, всех ее государственных и общественных институтов. Откровенно говоря, идет беспринципная борьба за власть на фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки. Сплошь и рядом нарушаются демократические нормы и законность. Противники партии, не стесняясь, шельмуют всех – от инструкторов райкома до членов Политбюро. Цинично манипулируют общественным мнением. Идет разрушение сложившихся структур государства, партии, армии, госбезопасности, профсоюзов. Причем нет ясного видения, а что взамен принесет это многонациональному и многострадальному Отечеству? Не гоним ли мы сами события к обвалу, опять поверив в кабинетные схемы, которые не сообразуются с жизнью?»
Затем в статье подчеркивалось, что в наиболее трудном положении оказалось общественное сознание. Оно переживает настоящую драму, в головах у многих полный сумбур. Людям надоели пустые слова и обещания. Только дела, только изменение ситуации к лучшему могут поправить положение. Политика всеобщей словесной эквилибристики изжила себя, она уже не поможет. Нужна политика созидательного реализма. Надо начинать, не медлить.
«Однако самое тревожное, думаю, заключается в том, что не приостановлен процесс ухудшения социально-психологического самочувствия народа. У Маркса есть любопытная мысль, связанная с тем, что общественное сознание наиболее интенсивно разлагается в двух, казалось бы, взаимоисключающих случаях: когда люди видят преступление и не видят наказание, и, наоборот, когда они видят наказание, но не понимают сути преступления.
Так вот: во времена репрессий страна пережила период, когда люди видели наказание – исчезал товарищ по работе, сосед по дому, но не понимали сути их преступления. А сегодня, похоже, мы решили доказать справедливость первой части этого философского вывода Маркса. Тонут подводные лодки. Горят и взрываются поезда. Государственный кооператив проматывает национальное достояние. Продается чернозем, сантиметровый слой которого растет сто лет. В считаные часы разносится 200 километров государственной границы, священной и неприкосновенной. Бесчисленные эмиссары снуют по стране, науськивая один народ на другой. Спекулянты уже подобрались к Красной площади. Уже не единичны факты надругательства над памятью Ленина, перед мощью и величием интеллекта которого преклонялись даже самые заклятые противники социализма.
А виновников всего этого, кроме мелких стрелочников, нет. Нет и соответствующей реакции общественности. Молчат правосудие, Верховный Совет. В век гласности ответственность по существу оказалась анонимной. Спрашивать с живущих злоумышленников оказалось гораздо сложнее, чем сваливать все грехи на тех, кто ушел уже в мир иной. А стране крайне необходимы деловая стабильная обстановка, правопорядок.
Вопрос о власти – главный вопрос любой революции. Об этом сегодня снова говорят все: и левые, и правые, центристы и новоявленные монархисты, отчаяные радикалы и типичные консерваторы. И даже те, кто никогда не занимался политикой. „Вся власть Советам“, „Долой власть партократии“, „Аппаратчики захватили всю власть“, „Партия, дай пору-лить“. Этот пропагандистский треск по инерции еще продолжается. Но если кто-то захватил всю власть, то почему так тревожно сегодня звучат голоса ведущих специалистов о „вакууме власти“, ее „бессилии“, „параличе“? Да потому, что многие вновь стали жертвами еще одного массового заблуждения, еще одной „манипуляции“ общественным сознанием. Правда, после того как Верховный Совет за год принял около тридцати законов и все они должным образом не работают, стали более глубоко задумываться: а в чем дело? А дело в довольно известном явлении. Закон может функционировать, если соблюдаются как минимум два условия: существует механизм, приводящий его в действие, и когда он – закон – становится частью твоего сознания. И ты сознательно не переступаешь ту грань, которая запрещена законом…
Какова консолидирующая основа для изменения ситуации к лучшему? Она, по моему, довольно ясна. Сохранение и упрочение единого Союза ССР на базе обновления Федерации. Ускоренное решение кричащих проблем России как основы Союза. Единые законы и правила человеческого общежития для всех народов, проживающих в стране. Сплоченная единая Коммунистическая партия. Надежная обороноспособность.
Наиболее сильное дестабилизирующее воздействие на обстановку оказывает преступность. Здесь по существу фокусируются все наши просчеты. Преступность бушует, статистика оглушает, печать упивается, обыватель хотя и боится, но с удовольствием смакует. Могу добавить: положение на самом деле хуже, чем кажется внешне. За 1989 год убитых и погибших в стране по различным причинам почти на 45 тысяч больше, чем в предыдущем году. Ограбленных, изуродованных, изнасилованных больше на 109 тысяч… Считаю, что в рост преступности за последнее время внесли „достойный взнос“ почти все общественные институты. И если мы честно не признаемся в этом, то никакие спецназы, никакие дубинки и бронежилеты в борьбе с преступным миром не помогут».
Остановился Зюганов и на проблемах массовой культуры, в которой воцарился культ праздности, секса и пошлости. Видные деятели культуры почему-то стыдливо молчат об этом. Видно, им некогда – они ушли в большую политику. Огромное воздействие оказывает на психическое самочувствие людей телевидение. Когда телекомментатор рассказывает миллионам зрителей о расчлененных трупах, найденных на свалках детях, не выражая при этом протеста или сострадания, то это уже не информация. Это своего рода наркотик, который снижает нравственную планку общества и культивирует вседозволенность.
Правда требует мужества и воли.К сожалению, нередко и правда становится объектом спекуляций, замешана на конъюнктуре и своекорыстии. Поэтому, на словах борясь с догматизмом, мы частенько впадаем в неодогматизм.
«Сколько заработали на критике командно-административной системы, ругая и проклиная ее! Хотя даже не посвященному в ее премудрости понятно, что систему можно одолеть только более совершенной системой, более системной, последовательной и цепкой работой. И пока будет дефицит культуры, знаний, убеждений, – злоупотребления администрированием почти неизбежны. Вот и давайте поднимать уровень знаний и культуры. Здесь дел, как говорится, непочатый край. И, с другой стороны, раз есть право, есть закон, значит, есть административное принуждение, тем более в стране с разбалансированной экономикой. Надо найти нужную границу, которая позволит экономическим методам хозяйствования кратчайшим путем внедриться в жизнь…
А чего стоит утверждение о том, будто средства массовой информации только отражают жизнь. Лукавит, ой лукавит пишущая братия. Они не только отражают, а давно организуют, формируют, навязывают, дирижируют, манипулируют. Если бы это было не так, кто бы стал платить баснословные деньги за рекламу, засекречивать новые технологии или домогаться редакторских полномочий. Существует мощная информационная власть. Она хорошо оплачивается не только в рублях, но и в долларах. Не все это еще осознали. У кого контрольный пакет, тот и диктует свои условия.
Особенно наглядно виден эффект воздействия печати в ходе прошедших выборов. Взять, например, факт избрания пяти членов небольшой по численности редакции еженедельника „Аргументы и факты“ народными депутатами России… Ни в старой, ни в новой истории не только нашей страны, но и мира подобного прецедента, видимо, не найти…
Ни в коем случае нельзя допустить злоупотреблений информационной властью, которые уже налицо. Иначе мы получим новую зону вне критики, новую „охранку“…
Для стабилизации ситуации в стране надо решительно изменить тональность печатного и устного слова. Иначе все передеремся. Нам потомки этого не простят…»
Когда читаешь эту публикацию, невольно сопоставляешь впечатления от нее с тенденциозными попытками многочисленных толкователей его политической биографии представить восхождение Зюганова к политическому Олимпу как результат причудливой игры обстоятельств. Вот-де был такой, никому не известный партийный функционер, ничем особо не выделялся, творческими способностями не блистал, пером владел ничуть не лучше других математиков, имеющих дело с сухими цифрами, и вдруг в одночасье оказался у руля крупнейшей политической партии. Видно, где-то покровители помогли, где-то сам локтями поработал.
Что ж, такие версии выглядят довольно «жизненными» и вполне пригодны для массового употребления. Как говорят в кругах, где готовят подобные информационные блюда, «пипл схавает».
Как показывает практика, в таких случаях вступать в полемику бесполезно. Ведь люди, стряпающие так называемые «компроматы», и без нас прекрасно знают, что у Зюганова никогда не было покровителей, что он прошел прекрасную политическую школу, всегда отличался образованностью и эрудицией, наконец, обладал теми редкими личными качествами, которые всегда выделяли его среди окружающих, давали возможность и право вести за собой других. Мы бы обратили внимание еще на одну характерную черту нашего героя: Зюганов стал Зюгановым в результате завидного трудолюбия, огромной интеллектуальной работы – вдумчивой, кропотливой, изматывающей и… педантичной. Свидетельством тому являются сотни рукописей статей, выступлений, докладов, всевозможных набросков и тезисов, хранящихся в домашнем архиве Геннадия Андреевича. Причем по его «хозяйству» видно, что математический склад ума противится «творческому беспорядку», в котором так часто «тонут» многие неординарные личности. У Зюганова – всё имеет свое место, всё «разложено по полочкам» – и в архиве, и в голове. Отсюда – четкая дисциплина мышления, которая прослеживается в его книгах, публикациях, научных трудах. Начиная с первой политической статьи в «Советской России». В день ее выхода перед читателями предстал зрелый политик, способный спокойно и обстоятельно разобраться в сложнейшей обстановке и увидеть перспективу, пути выхода из кризиса. Подкупала и независимость его суждений.
Сам он тогда, конечно, переживал: поймут ли его, воспримут ли? Статья вышла в конце недели, в пятницу, и сразу же пошли звонки – сначала от друзей, знакомых, а затем и от партийных руководителей регионов. Поддержали! Через несколько дней позвонил Валентин Васильевич Чикин: «Приезжай за письмами, приходят пачками». Даже не подозревал, что у него столько единомышленников! Как оказалось, неравнодушных, готовых к действию.
Полученные отзывы настраивали на оптимистичный лад.
Была и еще одна причина для оптимизма: в партийных кругах полным ходом шла подготовка к Российской партконференции и Учредительному съезду Компартии РСФСР. Активно включился в эту работу и Зюганов.
Глава шестая
У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Зюганова воспринимают по-разному. Авторы посвященных ему многочисленных публикаций нередко упоминают о полярных расхождениях в оценке его человеческих качеств: у одних он вызывает симпатии и уважение, у других – раздражение и даже ненависть. Подобное утверждение хотя и соответствует действительности, но мало о чем говорит. Отношение к нему значительно сложнее, потому что оно аккумулирует мнения миллионов людей, их субъективные представления и ожидания, которые, естественно, оправдываются далеко не всегда и не во всем. Уже одно это обстоятельство неизбежно порождает конфликт восприятия, чем пользуются средства массовой информации, создавая портрет публичного политика, имеющий мало общего с оригиналом. Как-то во время съемки на телевидении политической дискуссии один из операторов поделился с Геннадием Андреевичем «секретами» своей профессии: «Я могу любого из вас сделать и Аленом Делоном, и обезьяной». И делали. В соответствии с политическими заказами.
Если раньше любой известный человек вопреки своей воле мог стать заложником обстоятельств, непредвиденных событий либо банальных интриг, то теперь он попадает в куда более сильную зависимость от информационного поля, оказывающего колоссальное воздействие на окружающую его действительность. Зюганову приходится жить и работать во враждебной информационной среде, более того, в условиях жесткой информационной блокады. Поэтому нет ничего необычного в том, что существует такой большой разброс противоречивых мнений о нашем герое. Но подавляющее большинство противоречий – не в Зюганове, а вокруг него. Сам Геннадий Андреевич логичен, последователен и понятен. Кстати, последнее качество многие его противники часто пытаются обернуть против него же и представить как «предсказуемость», которая якобы делает его «удобным» для властей. При этом о подлинном характере взаимоотношений между «предсказуемым» Зюгановым и правящими режимами предпочитают не упоминать. А ведь даже в относительно «мирные» периоды развития политических событий в стране против него и КПРФ не стихала беспощадная война на полное уничтожение, которая с удвоенной силой разгоралась во время подготовки и проведения очередных думских и президентских выборных кампаний. Один из последних этапов этой войны, пришедшийся на начало двухтысячных годов, по своей ожесточенности и изощренности превосходил даже ельцинские психические атаки, которые вместе со своей партией выдержал Геннадий Андреевич в 1995–1996 годах. Чем ближе очередные выборы – тем сильнее разгорается пламя нового сражения. И тем больше попыток представить Зюганова в неприглядном свете.
Можно, конечно, заронить в души людей семена сомнений и недоверия. Однако в современной, весьма изменчивой политической жизни есть одна неопровержимая данность, с которой нельзя не считаться: что бы о Зюганове ни говорилось, какая бы ложь ни распространялась вокруг него, его имя вот уже на протяжении полутора десятилетий в общественном сознании прочно связывается с самым устойчивым и последовательным оппозиционным движением, единственнойв стране массовой левой партией, ясно сознающей свое предназначение, суть которого выражена в ее названии – коммунистическая.Может, кому-то это и не нравится, но подавляющее большинство населения страны видит в Зюганове единственного человека, сумевшего реально сплотить вокруг себя коммунистов России и представителей широких патриотических кругов.
Опять-таки не будем судить, хорошо это или плохо, но другие руководители коммунистических и близких к ним левых организаций, за исключением, пожалуй, лидера движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова, широким массам или вообще неизвестны, или люди имеют о них довольно смутное представление. Как, например, о Сергее Глазьеве, который сначала под крылом КПРФ создал себе имидж публичного политика левого толка, а оперившись, сколотил в 2003 году в противовес Компартии предвыборную коалицию с притягательным для россиян названием – «Родина». Туман, впрочем, рассеялся, лишь только стало известно, что Глазьев руководствовался отнюдь не патриотическими побуждениями, а указаниями из Кремля – отсечь у КПРФ как можно больше сторонников и на очередных думских и президентских выборах забрать у нее максимальное количество голосов. Надо отдать ему должное: Сергей Юрьевич показал себя способным исполнителем замыслов кремлевских полит-технологов. Правда, выполнив поручение, почувствовал себя не у дел. Поэтому и главные итоги 2006 года в интервью интернет-порталу «Regions.ru»он оценил весьма пессимистично: «Самым важным событием с точки зрения перспектив развития политического процесса стало окончательное закрытие Народно-патриотического союза „Родина“, составные части которого „ушли“ сегодня в разные политические партии. Таким образом, накануне очередного избирательного цикла власть выполнила задачу по дезорганизации патриотической оппозиции, что влечет за собой отсутствие реальной политической конкуренции». После этих слов закономерен вопрос: а разве не сам он был главным действующим лицом, через которое и осуществлялся раскол патриотических сил?
Реальность сегодняшнего дня такова, что тяжелое бремя лидера левых сил, отягощенное не только неизбежными для политического деятеля собственными ошибками и просчетами, но и грузом проблем, унаследованных Компартией из прошлого, Зюганову приходится нести на себе чаще всего в одиночку. А кроме того, вынужден он тащить за собой еще целый воз всяческого хлама минувших лет, который упорно – кто исподтишка, а кто и в открытую – подбрасывают ему недоброжелатели как справа, так и слева. Причем те, кто слева, в последнее время выполняют эту работу с возросшим энтузиазмом и временами даже с каким-то странным упоением.
Не секрет, что с первых дней существования КПРФ между ней и другими, близкими ей по крови и духу движениями и объединениями обозначились идейные и тактические расхождения, вызванные различным пониманием новых исторических условий и задач, доселе неведомых практике коммунистического движения. Остроту разногласий в какой-то степени сгладила внушительная победа Компартии на думских выборах 1995-го и президентских выборах 1996 года, которая подтвердила правильность выбранного ею курса и продемонстрировала огромный авторитет Зюганова среди широких слоев трудящихся и интеллигенции. Однако развить успех коммунистам тогда не удалось – наступила полоса тяжелой и затяжной борьбы с установившимся в стране режимом, сумевшим к концу девяностых годов укрепить свои позиции во всех ветвях власти.
Именно в этот период критика Зюганова и других руководителей КПРФ со стороны радикальных марксистов стала все чаще выходить за рамки элементарной партийной этики, приобретать характер личных «разборок», далеких от интересов общего дела. Объективно это играло лишь на руку правящим силам, упрощало задачи Кремля по расчленению и поэтапному уничтожению левой оппозиции, так как подрывало авторитет ее идейного ядра и главного оплота. К тому же ортодоксальная марксистская риторика соперников КПРФ на левом фланге не находила желаемого отклика в массах, чаще вызывала прямо противоположный, отталкивающий эффект, что в конечном счете значительно сужало социальную базу сопротивления антинародному курсу официальных властей.
Вместо того чтобы разобраться, почему их лозунги не воспринимаются современным рабочим классом, трудящимися массами, ультралевые марксисты свою нереализованную энергию по-прежнему тратят на бессмысленную идейную борьбу с Зюгановым. А он, к их великому неудовольствию, никак не желает возвращаться в прокрустово ложе привычных догм, считая, что линейное воспроизведение опыта прошлого может привести только к прошлому.
К чести Геннадия Андреевича, на выпады в свой адрес, как бы ни были они несправедливы и оскорбительны, он обычно не отвечает, полагая, что время само все расставит по своим местам. К тому же стыдно на глазах у политических противников и массы несведущих людей разводить публичную склоку. Да и жаль на бесплодные дискуссии тратить время, которое можно употребить куда как с большей пользой – ведь его оппоненты для себя давно уже все доказали и переубедить их в чем-либо невозможно.
В этом лишний раз убеждаешься, когда, например, берешь в руки увесистую книгу Надежды Гарифуллиной с откровенно злобным названием – «Анти-Зюгинг». Гневные эмоции, которым, кажется, тесно даже в объемном томе, полностью вытеснили из него здравый смысл, в результате чего автор оказался не в ладу с реальностью. Например, книгу, датированную 2004 годом, венчает призыв: «Коммунисты Советского Союза, соединяйтесь! Соединяйтесь в свой испытанный в боях, мирных и ратных сражениях авангард – единую Коммунистическую партию Советского Союза». От подобных несуразностей рябит в глазах. Скажем, цитируется Зюганов, который в июне 1991 года заявил, что в целом курс на высвобождение инициативы и развитие демократии в стране был взят верный, но вот только осуществлялся он крайне непоследовательно, что и привело страну на грань национальной катастрофы, к обнищанию основной массы трудящихся. И тут же следует возмущенный комментарий Гарифуллиной: «О каком обнищании основной массы трудящихся можно было говорить в 1991 году, когда все основные продукты всё еще стоили в прямом смысле слова копейки?» Трудно поверить, действительно ли автор забыла о том, что у нас тогда в магазинах – хоть шаром покати, а после павловских реформ при астрономическом взлете цен население потеряло практически все сбережения, и пределом мечтаний большинства людей было в то время несколько пачек макарон, припрятанных на черный день.
Поражает непоколебимая вера автора в абсолютную непогрешимость КПСС, хотя она на крутом историческом переломе не оправдала надежд миллионов людей. Но вместо того чтобы попытаться осознать глубинный характер причин поражения партии и развала СССР, Гарифуллина обрушивается на Зюганова и его сподвижников, пытающихся критически осмыслить советское прошлое. Изобличаются «оппортунисты» главным образом с помощью наборов хрестоматийных цитат из старых вузовских пособий по научному коммунизму и учебников по основам политических знаний для слушателей политкружков.
Все же Гегель знал, о чем говорил, когда утверждал, что история учит тому, что она ничему не учит. Русский историк В. О. Ключевский позднее дополнил: ничему не учит, а лишь наказывает за незнание ее уроков. (Уж простят нас некоторые сверхубежденные марксисты: первый был идеалистом, второй примкнул к кадетам.) К сожалению, за твердо-каменность одних чаще расплачиваются другие…
Когда огульная критика лидера КПРФ ведется с позиций закоснелых псевдомарксистских догм, жалко не Зюганова. Он, в конце концов, здоровый и здравомыслящий политик, который может постоять за себя. Тень ложится на нашу историю, на Ленина, чья деятельность и без того подверглась в последние годы чудовищному искажению. Помнится, в годы перестройки известный писатель Владимир Солоухин издал книгу о Ленине, представляющую того в самом неприглядном свете. Подготовлена эта книга была на основе одного, 36-го тома из Полного собрания сочинений Владимира Ильича. В ней обильно цитировалось написанное и произнесенное Лениным в марте – июле 1918 года, когда молодая Республика Советов переживала тяжелейший период своего становления: в результате интервенции империалистических держав, развязавших в стране Гражданскую войну,именно в это время она утратила три четверти своей территории.Кстати, состоявшееся в январе 1921 года в Париже Совещание 33 членов бывшего Учредительного собрания под эгидой Милюкова и Керенского отмечало, что внутренняя контрреволюция сознательно пошла на приглашение иностранных войск, хотя и отдавала себе отчет в предательстве национальных интересов. Между тем Красная армия воевала за спасение, целостность и свободу Отечества, вела по форме гражданскую,а по содержанию – национально-освободительнуювойну, что и обеспечило ей поддержку подавляющего большинства народа. Понятно, что накал беспощадной борьбы не на жизнь, а на смерть отразился и в ленинских работах этого периода. Однако на выдержках из них была предпринята попытка создать обобщенное представление об образе пролетарского вождя, характере его теоретического наследия, сущности Советского государства.
Предвзятость и несостоятельность этой книги для людей более или менее образованных очевидны. Но ее автор в предисловии хотя бы признается, что раньше он вообще не открывал Ленина. Те же, кто сейчас больше всех твердит о своей верности ленинским идеям, очевидно, считают себя знатоками его наследия, но упорно не хотят замечать многократных предостережений Владимира Ильича от начетничества и догматического толкования марксизма. И что особенно опасно, продолжают бездумно переносить на современную действительность то, что преследовало исключительно тактические или частные задачи, было применимо только к конкретно-историческим условиям эпохи, от которой нас отделяет уже целое столетие. Ведь цитаты, формулировки и тезисы, выхваченные из своего времени, лишенные живой связи с реальными событиями и явлениями, наконец, вырванные от контекста тех или иных теоретических работ и предлагаемые в качестве готовых рецептов на сегодняшний день, могут сослужить недобрую службу. В иных случаях они действительно не только способны повергнуть в замешательство, но и привести в состояние трепетного ужаса любого нормального человека, сыграть на руку тем, кто подбирается к Красной площади, Мавзолею В. И. Ленина.
Особенно недопустимы попытки «теоретических» обобщений, основанных на опыте большевиков в эпоху Октября и первых лет Советской власти. Не случайно, что на этот счет мы находим много разумных предостережений в современных работах Зюганова. Вот, например, одно из них: «В том-то и заключается характернейшая особенность Октябрьской революции, что ее конкретные шаги диктовались не только и не столько доктринальными соображениями, сколько касаниями „стенок“ весьма узкого „коридора“, по которому приходилось идти. Был жесткий прагматизм и столь же жесткие, соответствующие военной обстановке методы, позволившие удержать экономику на краю пропасти и получившие впоследствии название „военного коммунизма“. Только никакого идеала из них партия в целом не делала(курсив мой. – А. Ж.), хотя в ее рядах было немало тех, кто впопыхах принимал его за идеал. Поворот к нэпу это только подтвердил» [17]17
Зюганов Г. Л.Идти вперед. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 24.
[Закрыть].
И действительно, именно в экономической политике того времени наиболее ярко отражаются глубина, гибкость и прозорливость ленинской мысли. И ее последовательность.Чрезвычайная обстановка Гражданской войны вынудила спасать экономику, минуя товарно-денежные отношения. Но «скачка к коммунизму», о котором мечталось многим нетерпеливым коммунистам из ленинского окружения, не получилось. Даже им стало ясно, что товарно-денежные отношения нельзя «отменить» декретами. Руководители страны сумели тогда вовремя сделать надлежащие выводы и в считаные месяцы предприняли энергичные меры по переходу к новой экономической политике. И страна стала оживать буквально на глазах. Ленин прекрасно понимал, что в условиях, когда обостряющееся противоборство грозит самому существованию России, надо уметь находить компромиссы, чтобы обеспечивать развитие государства и выживание нации. Подобные компромиссы могут не только носить тактический характер, но и иметь длительную историческую перспективу. В тех случаях, например, когда встает вопрос о господствующих в обществе производственных отношениях, жизненности тех или иных форм собственности.
Чаще всего на левом фланге политических течений почему-то возмущаются утверждением Зюганова о том, что КПСС, обретя монополию на власть и присвоив себе абсолютное право на истину, уверовала в незыблемость одной, общественной, формы собственности, создав тем самым объективные предпосылки сначала стагнации, а затем и развала экономики СССР. КПРФ в отличие от других коммунистических организаций сумела сделать из этого самые серьезные выводы. Сегодня в ее программе прямо записано, что нельзя какую-либо форму собственности отвергать декретом, пока она не выработала полностью свой ресурс, так же как нельзя навязывать обществу однопартийную систему правления, превращать свою идеологию в единственную. Но при этом, что, кстати, постоянно подчеркивает Геннадий Андреевич, Компартия выступала и выступает за ведущую роль общественной формы собственности во всем ее разнообразии – от государственной до кооперативной.
На мой взгляд, нет ничего более нелепого, чем стремление доказать на этом основании недоказуемое, а именно то, что КПРФ лишила себя права называться коммунистической и изменила марксизму. Обращает на себя внимание, что и левые радикалы, и правые идеологи сомкнулись в безуспешных попытках решить одно и то же не имеющее решений уравнение – поставить российскую Компартию на одну доску с современными буржуазными партиями социал-демократического толка. Причина такого единодушия понятна: и те и другие мечтают увести из-под влияния КПРФ широкие массы трудящихся, связывающих с коммунистическими идеалами свои надежды на завтрашний день. И тем и другим не дает покоя, что КПРФ ищет и, главное, находит выходы из исторических тупиков, в которые ее пытаются затолкать.