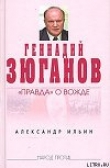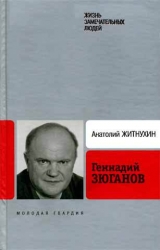
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Возникает резонный вопрос: почему же такие нелепые версии не выдвигались раньше, по горячим следам, когда подводились итоги этих памятных выборов и вся общественность обсуждала только две темы: таких грязных выборов Россия еще не знала; итоги выборов были откровенно и грубо фальсифицированы?
Идея о якобы имевшем место «сговоре» между Зюгановым и Ельциным родилась в кремлевских мастерских по изготовлению политтехнологий в преддверии очередных выборов. С их приближением все больше давал о себе знать незабытый испуг, который пережили в Кремле в 1996 году. Ведь несмотря на то, что ельцинскому режиму удалось сохраниться, коммунисты одержали тогда внушительную моральную победу: за Зюганова отдали голоса 30 миллионов избирателей. Беспокойство было обоснованным. Развитие событий в стране показывало, что КПРФ была готова не только закрепить, но и развить успех, освободить страну от ненавистной ей ельцинской «семьи» и укрепившейся вокруг нее олигархической группировки. Партия значительно расширила социальную базу своего влияния, играла ведущую роль в Народно-патриотическом союзе России, Координационный совет которого возглавлял Зюганов.
Кроме того, в мае 1999 года в Государственной думе прошло слушание вопроса об отрешении от власти президента Ельцина, который обвинялся в подписании Беловежских соглашений, в кровавом разгоне парламента в 1993 году, в развязывании войны в Чечне, в подрыве обороноспособности страны, в геноциде российского народа. Импичмент не состоялся – сложная процедура его проведения требовала не меньше двух третей голосов депутатов по каждому из выдвинутых обвинений. В то же время большинство депутатов признали виновность Ельцина в совершении им тяжких преступлений против своей страны и народа. По существу, это означало признание полного краха его неограниченного правления.
Перед «семьей» встал вопрос о наследнике престола, способном предотвратить возмездие. В Кремле родился очередной проект, унижающий миллионы наследников великой державы, – «Преемник».
Вот тогда-то, в августе 1999 года, и появилась первая «ласточка» в виде статьи Дмитрия Быкова в журнале «Карьера», возвестившая о том, что три года назад «подсознательной, а может быть, и вполне сознательной целью Зюганова было ни в коем случае не победить». От нее и берет начало новая волна лжи, породившая за несколько лет огромное количество «версий» и «подробностей».
Цель ее – не только дискредитировать Зюганова и Компартию. Надо было сделать всё, чтобы люди забыли, кто, как и ради чего в 1996 году протаскивал на престол полностью скомпрометировавшего себя в народе, больного и недееспособного Ельцина. Следует отдать должное власти – в борьбе за выживание ей удалось тогда полностью использовать весь свой потенциал, включая государственные источники финансирования и всестороннюю поддержку Запада. Коль выделил Ельцину такой беспроцентный кредит, какого не знала история рачительной Германии. Символом полной коррумпированности и деградации властных структур стали набитые долларами коробки из-под ксерокса. Советники из крупнейших западных центров и институтов натаскивали доморощенных политтехнологов.
Еще в ходе парламентской избирательной кампании, предшествующей президентским выборам, были опробованы новые технологии, направленные на растаскивание голосов путем обмана и переманивания избирателей левой ориентации. Весной 1995 года президентская администрация попыталась сформировать два блока – «правый» и «левый», которые, по ее замыслу, должны были оттеснить на обочину все остальные политические партии. За образец были взяты политические двухпартийные системы ряда западных стран, с помощью которых создается иллюзия периодической смены курса. Состоялась первая репетиция спектакля, который пытаются разыграть сегодня. Роль нынешнего Грызлова исполнял тогда Черномырдин, Миронова – Иван Рыбкин.
Одновременно был запущен в действие отлаженный механизм дискредитации главных соперников, прежде всего Компартии и непосредственно ее лидера. Спецслужбы приготовили два сценария: планировалось, в зависимости от развития событий, обвинить КПРФ в подготовке спецгрупп для захвата власти или в финансовых махинациях. Несколько членов Конституционного суда правых взглядов выступили с требованием запрета организационных структур КПРФ.
В марте 1996 года Зюганову поступила достоверная информация, что Ельцин в целях сохранения личной власти намеревается предпринять против оппозиции репрессивные меры. Узкой группой посвященных в эти замыслы были подготовлены три президентских указа: о роспуске Госдумы, о запрете политической деятельности и об интернировании нескольких сотен оппозиционеров. Над страной нависла угроза повторения октября 1993-го. По личным каналам Геннадий Андреевич предупредил об этом всех известных политиков, включая руководство Совета Федерации и московской мэрии. В конце концов здравомыслящие люди, которым было поручено разработать операцию, смогли объяснить Ельцину, что закрыть Москву и объявить чрезвычайное положение невозможно. Ситуация была уже не та, что в 1993 году: доверие к власти резко упало и к тому же столица была окружена «красным поясом».
После этого главная ставка в предвыборной борьбе была сделана на информационный террор. Беспощадный, циничный и грязный.
Как-то, возвратившись домой после работы, Геннадий Андреевич застал мать в очень тяжелом состоянии. Пришлось вызывать врача. Оказалось, что вместе с почтой в руки к ней попала газета «Не дай бог!», весь номер который состоял из пасквилей, посвященных ее сыну. Что он мог сказать матери, которая прочитала о нем чудовищную, несусветную ложь? А ведь подобной мерзостью были забиты все почтовые ящики страны, ее настойчиво предлагали у метро, на автобусных остановках, в газетных киосках. По разным оценкам, разовый тираж этого издания, исполненного за рубежом на высококачественной бумаге на уровне лучших образцов полиграфии, составлял от 10 до 15 миллионов экземпляров. Денег не жалели.
Телепрограммы были напичканы такой злобой, что казалось, телевизоры не выдержат и кинескопы начнут взрываться.
Запомнился Геннадию Андреевичу один телевизионный сюжет: крупным планом показали вход в зал, где проходило собрание некоего «антифашистского комитета», на котором выступал Гайдар. Перед дверями вместо половиков – фашистский флаг и Красное знамя с серпом и молотом, на котором демонстративно топтался какой-то юнец. Рядом вывеска: «Здесь демократы вытирают ноги»… Было бы упрощением считать, что это – саморазоблачение. Осуществляя то, о чем мечтали фашистские завоеватели, «демократы» вполне сознательно пытаются разорвать наиболее прочные звенья духовного единства общества. И до сих пор продолжают безнаказанно творить подобные мерзости.
Руководство телевидения в июне 1996 года дошло до того, что перед вторым туром выборов отказалось предоставить Зюганову законное, выделенное Центризбиркомом, время в эфире. Один из руководителей ОРТ Ксения Пономарева неблаговидную роль телевизионщиков объяснила следующим образом: мы исходили из того, что все, кто против Ельцина, играют на руку фашизму. Ход ее мыслей особых пояснений не требует: реально Ельцину противостоял только Зюганов.
Наверное, не побывав в шкуре человека, которому довелось все это пережить, не поймешь до конца, что у него в это время творилось на душе. Нечто отдаленно похожее на это испытал один из наших известных политиков – Евгений Примаков, когда возглавил один из избирательных блоков в 1999 году. Не склонный к резким публичным оценкам, даже он сравнил ту клевету, которую вылили на него, с геббельсовской пропагандой. О чем же тогда говорить Зюганову?
Особому пропагандистскому прессингу Кремля подверглись молодые избиратели. Идея, которую ельцинская команда предлагала молодежи, была проста до примитивности: любой, кто выбирает свободу, может стать миллионером или, на худой конец, Шварценеггером. «Голосуй, а то проиграешь!» – срабатывало: мечты о богатстве и красивой жизни подогревала иллюзия ее доступности, которую создавали нескончаемые рок-фестивали и «благотворительные» концерты «попсы». «Праздник жизни» щедро оплачивался главным казначеем предвыборного штаба Ельцина – Анатолием Чубайсом, который заставил раскошелиться не только «семибанкирщину», но и всех «новых русских», чей ежемесячный доход составлял не менее 50 тысяч долларов. Поскольку молодежь толпами «косила» от армии, опасаясь угодить в чеченскую мясорубку, были запущены массовые слухи, что в случае своего переизбрания президентом Ельцин намерен отменить срочную службу.
Администрация президента ловко воспользовалась тем обстоятельством, что в первом туре президентских выборов генерал Лебедь, эксплуатируя образ миротворца Приднестровья и сильной личности, набрал 14,5 процента голосов. Ему тут же было предложено стать секретарем Совета безопасности. Расчет на генеральское честолюбие оправдался полностью, и судьба голосов избирателей, поддержавших Лебедя, была предрешена. Никто не сомневался, что через пару месяцев Ельцин вышвырнет генерала из Кремля за ненадобностью. Так оно и случилось.
Имел ли Зюганов в той обстановке шансы на победу?
Думается, результатывыборов в любом случае были предопределены. Народ оказался мудрее многочисленных аналитиков. «Бытует такое мнение, – делилась своими наблюдениями Н. А. Корнеева из Брянска в письме, поступившем в те дни в ЦК КПРФ, – что если выборы выиграет Зюганов, то он об этом не узнает».
Вот эта точка зрения, пожалуй, была ближе всех к истине.
По официальным данным, Ельцин во втором туре получил 53,8 процента голосов, Зюганов – 40,2 процента.
Вспоминается анекдот из популярного сборника Зюганова:
«Утром из Центризбиркома звонят Ельцину:
– Борис Николаевич, у нас две новости – хорошая и плохая. Какую сначала?
Тот тянется за валидолом, глотает таблетку, запивает стаканом водки и, потея:
– Ну, давай плохую.
– Зюганов набрал 62 процента! Дрожащая рука тянется к пистолету…
– А какая хорошая?
– Вы победили! Набрали 75…»
Об истинных масштабах подтасовки бюллетеней и искажения итоговых результатов при подсчетах голосов на президентских выборах 1996 года можно только догадываться. Только вот особого негодования у представителей «демократической» прессы такие действия властей не вызвали – к подобным «шалостям» Кремля они всегда относились со снисхождением. Зато использовалась любая возможность, чтобы бросить тень на КПРФ. Особенно часто повторялось набившее всем оскомину измышление о том, что Компартия «терпимо» восприняла фальшивые итоги выборов, поскольку они ее руководство якобы устраивали. Однако почему-то никто не вспоминал, что центральными и местными органами КПРФ были вскрыты и документально подтверждены не только тысячи грубых нарушений и подлогов, но и выявлены зоны тотальной фальсификации итогов голосования: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Саратовская область. Соответствующие документы направлялись в прокуратуру, Центризбирком – ответов не последовало. Пресса умолчала о том, что дело по иску Зюганова к руководству Татарстана, где у него самым наглым образом украли около 600 тысяч голосов, слушалось в Верховном суде Российской Федерации. Суд признал иск обоснованным. По этому делу прошло около 400 человек, замешанных в различных махинациях на избирательных участках и в избиркомах. Всем удалось отделаться легким испугом – попали под очередную ельцинскую амнистию.
Всего за последние годы представителям Компартии пришлось участвовать более чем в 1600 судебных разбирательствах, связанных с нарушением выборного законодательства. Однако, как показывает жизнь, ситуация не меняется – право граждан на свободное волеизъявление по-прежнему попирается, а против КПРФ не прекращается «холодная война» с использованием тех же грязных методов, что применялись и в середине девяностых годов. Современным пасквилянтам не дают покоя «лавры» издателей газеты «Не дай бог!». Так, к выборам в Госдуму, прошедшим в 2003 году, была выпущена книга, якобы раскрывающая «историю КПРФ». Была она выполнена в виде дорого, красочно оформленного подарочного издания и бесплатно распространялась по всей стране через почтовые и другие каналы доставки. Не сведущих в истории партии людей «просвещали» с помощью грубо сфабрикованных фотоматериалов: Зюганов на фоне фашистской свастики, Зюганов проигрывает золото партии в казино, пьяный Зюганов в окружении «братков»… Естественно, за изготовление этой фальшивки никто не ответил.
На одном из политических форумов в Интернете как-то было высказано мнение, чт# одна из сильных сторон Зюганова как политического лидера заключается в том, что сколько бы ни пытались лить на него грязь, она к нему не пристает. Это редкое для современного политика свойство связано с тем, что и в словах, и в поступках этого человека всегда присутствует реально осязаемая нравственная составляющая, дефицит которой заметен у большинства его политических соперников, исповедующих формулу «политика – дело грязное». К тому же то мракобесие, которое время от времени затевается вокруг коммунистов, ничего, кроме отвращения, у народа больше не вызывает. Каждая посеянная ложь порождает недоверие к государству. Никто уже не верит в сказки про хорошего царя, который якобы не ведает (как это было представлено, например, в случае с нечистоплотной возней вокруг Знамени Победы), что творят плохие бояре…
В июле 1996 года Зюганов официально поздравил Ельцина с избранием президентом. Эта общепринятая с точки зрения элементарной политической этики «протокольная» деталь для недобросовестных и, прямо скажем, некоторых не очень умных журналистов спустя несколько лет послужила одним из «аргументов» в пользу «теории сговора». Хотя для любого более или менее образованного человека было очевидно, что Геннадий Андреевич поступил как солидный политик, сознающий себе цену и умеющий держать удар. Была у этого поступка и другая, более серьезная причина. Несмотря на явную фальсификацию итогов выборов, анализ голосования показывал, что в общественных настроениях существовал глубокий разлом, который прошел через всю страну – от Владивостока до Калининграда. Его сохранение, а тем более эксплуатация в политических целях могли бы очень быстро завести страну в такой исторический тупик, из которого было бы нелегко выбраться.
Отдав предпочтение Ельцину, общество показало, что не готово к социалистическому повороту. Вместе с тем сделанный выбор ни в коей мере не означал поддержку дальнейшей капитализации страны, одобрения либерально-демократического курса. От «реформ» выиграло не более 15 процентов населения, положение большей его части катастрофически ухудшалось. Но страх перед нестабильностью и катаклизмами, которые могла вызвать смена власти, оказался сильнее – слишком много потрясений вместило в себя предшествующее десятилетие. Люди предпочли довольствоваться тем, что есть, полагая, что предел падения уже достигнут и «хуже уже не будет». Это распространенное мнение отражало готовность подавляющего большинства народа к долготерпению при условии сохранения относительного порядка и покоя.
Налицо был общий спад социальной активности. Как охарактеризовал ситуацию сам Зюганов, «время митингов уже прошло, время баррикад еще не настало». В этих условиях овладеть политической инициативой было непросто.
Со временем авторы многих публикаций взяли за правило завышать те силы и возможности, которыми КПРФ реально обладала в Государственной думе второго созыва. Объективности ради напомним, что в «красной» Думе, как ее стали именовать либеральные СМИ, депутаты от КПРФ составляли только около трети ее общей численности, а вся левая оппозиция, включая коммунистов и их ближайших союзников – из Аграрной партии и блока «Народовластие», имела меньше половины мандатов. Поэтому далеко не всегда фракция КПРФ могла противостоять принятию антинародных законов, навязанных Думе правительством, действовавшим в тесной связке с Ельциным и президентской администрацией. Например, почти каждый раз при рассмотрении и утверждении бюджетов оказывалось, что государственная казна пуста. Так, в 1996 году, несмотря на огромный объем внешних займов, они не покрывали и трети запланированных бюджетных расходов.
После президентских выборов 1996 года изменился характер политического противостояния. Вокруг Ельцина сформировался и закрепился новый, олигархический клан, который оплатил дорогую процедуру переизбрания Ельцина. Если прежнее окружение всячески сохраняло и упрочивало единоначалие президента, обеспечивая тем самым и себе безбедное существование, то новая группировка сама намеревалась управлять страной, используя Ельцина в качестве марионетки и прикрытия. Никаких иных целей, кроме личного обогащения за счет грабежа страны, эти люди не ставили. Характер этой группы точно отражало укоренившееся за ней мафиозное название – «семья». По праву главного в ней в октябре 1996 года Березовский озвучил своеобразный «манифест финансовой олигархии»: «Мы, семь ведущих бизнесменов России, наняли А. Чубайса как менеджера президентской кампании, вложили громадные деньги и обеспечили избрание Б. Ельцина. Теперь мы получили право идти в правительство, занимать там ведущие посты и пожинать плоды своей победы» [35]35
Пионтковский А.Ножки трона – это ручки олигархов // Новая газета. 2000. № 25. 10 апреля.
[Закрыть].
Нет ничего удивительного, что в схемы бандитского капитализма, утвердившегося в России, гармонично вписывалась деятельность «правительства младореформаторов» Чубайса и Немцова, которые, получив от Ельцина должности вице-премьеров, стали претендовать на руководящую роль в российской экономике. Настойчиво «проталкивая» идею демонополизации естественных монополий, они также выступили с планами либеральных реформ пенсионного фонда и жилищно-коммунального хозяйства, сокращения финансирования высшего образования, предприняли секвестр и без того урезанного государственного бюджета.
А тем временем деньги беспрепятственно утекали за рубеж. В своих воспоминаниях Евгений Примаков описывает поистине чудовищные масштабы экономической преступности и коррупции, с которыми ему пришлось столкнуться на посту премьер-министра в 1998 году. Причем все факты почерпнуты им из официальных докладов и записок руководителей ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры, других государственных органов. Так, по оценке Банка России, поток иностранной валюты, переправляемой за рубеж, составлял от 1,5 до 2 миллиардов долларов ежемесячно. Были хорошо известны и каналы нелегальной утечки валютных средств: отчисления в счет будущих поставок, которые не осуществлялись; перечисления на счета иностранных фирм в счет оплаты фиктивных услуг; завышение контрактных цен при импорте, их занижение при экспорте. Но часто коммерческие фирмы подобной бумажной волокитой себя не обременяли, а вывозили валюту в мешках курьерами.
Средством обогащения узкой группы лиц, приближенных к президенту и правительству, стали регулярные выпуски государственных краткосрочных обязательств (ГКО) и других ценных бумаг на астрономические суммы под высокие проценты и под государственные гарантии. Держатели ГКО получали громадную прибыль – до 200 процентов годовых. По сути, работала гигантская «стиральная машина», в которой отмывались нетрудовые доходы.
Вопреки распространенному бывшими либералами-реформаторами мнению, что приватизация служила основным средством пополнения бюджета, она, по сути, являлась основным инструментом ограбления государства. По свидетельству Примакова, «с 1992 по 1998 год от массовой, „глобальной“ приватизации бюджет получил лишь около 1 процента ВВП. Всё остальное в основном присвоила небольшая группа лиц» [36]36
Примаков Е. М.Минное поле политики. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 241.
[Закрыть].
Учитывая изменившийся характер обстоятельств, Зюганов, выступая на IV съезде КПРФ, состоявшемся в апреле 1997 года, подчеркнул: «Понятие „системная и конструктивная“ парламентская оппозиция не годится для определения ситуации. Ответственнаяи непримиримаяоппозиция будет выдавливать из России продажную клику, разоблачать политику властей, пробуждать массы, приобретать управленческий опыт, без которого нечего говорить о приходе к власти». Съездом был избран курс на подготовку всеобщей политической стачки. Осенью того же года пленум ЦК КПРФ принял решение о постановке в Госдуме вопроса о недоверии правительству. Это означало переход к наступлению на правящий режим.
Напуганный принципиальной и жесткой позицией коммунистов, Ельцин предложил Зюганову начать деловой диалог. В результате президент и правительство признали, что надо корректировать экономический курс, обещали проиндексировать вклады населения, помещенные в Сбербанк до 1992 года, заморозить квартплату, обсудить на «круглом столе» вопрос о земле. Ельцин согласился с идеей создания на телевидении наблюдательных советов и предоставления Федеральному собранию эфирного времени для передачи «Парламентский час».
Этими серьезными уступками власть фактически публично признала изменение соотношения политических сил в стране. Но чтобы достичь этих результатов, фракция КПРФ приняла нелегкое для себя решение о снятии с повестки дня вопроса о вотуме недоверия правительству, что вызвало новую волну критики со стороны левых коммунистов.
Разъясняя принятое решение, Зюганов говорил: «Самым нетерпеливым нашим сторонникам кажется, что все можно достичь одним прыжком. Если бы это было так! Конституция, навязанная стране под дулами танковых орудий, этого не позволяет. А массы только пробуждаются для активных действий».
«Нетерпеливые» никак не хотели понять, что компромисс во многом носил вынужденный характер. В парламентских битвах за сохранение приемлемого бюджета и вынесения правительству вотума недоверия можно было бы идти до конца, если бы требования оппозиции опирались на поддержку всенародного движения протеста. К осени 1997 года действительно возникли многочисленные очаги народного возмущения, которые давали такую надежду. Однако, несмотря на огромные усилия парторганизаций, большую массово-политическую работу в регионах, подготовка всеобщей стачки протеста была далека от завершения. Руководство партии констатировало, что развитое социальное движение отсутствует не только в общенациональном масштабе, но даже, за редким исключением, в рамках отдельных регионов.
Впрочем, эти выводы не означали, что коммунисты намерены довольствоваться половинчатым решением назревающих новых политических проблем. Противодействуя планам дальнейшего реформирования экономики в духе ее либерализации и рекомендаций Международного валютного фонда, в марте 1998 года Госдума приняла решение о привлечении правительства к уголовной ответственности за невыполнение принятых Думой законов, прежде всего бюджета.
Пытаясь разрядить конфликтную ситуацию, президент отправил в отставку Черномырдина и предложил на пост премьер-министра молодого экономиста Сергея Кириенко, приятеля Немцова, которого тот привел в Москву из Нижнего Новгорода. В народе Кириенко сразу же метко окрестили «киндер-сюрпризом». Но сюрприз заключался не только в неожиданном назначении на пост главы правительства человека, заведомо не способного справиться с больной экономикой гигантской страны. Главный секрет ельцинской игрушки обнаружится через несколько месяцев.
То, что назначение Кириенко приведет страну к катастрофе, Зюганов не сомневался. Кстати, в одном из своих выступлений в Думе он предсказал неизбежность грядущего финансового и экономического обвала, ожидающего страну в сентябре. Ошибся на две недели…
Продавливая Кириенко, Ельцин выставлял его кандидатуру на рассмотрение Думы три раза подряд. Дважды она отклонялась. После этого Зюганов встретился с Кириенко и пытался отговорить его от участия в неблаговидной авантюре президента, объяснить, с чем сопряжена такая ответственность за судьбу страны. Но тот только что-то лепетал о своем моральном долге и обязательствах.
Накануне третьего голосования Зюганов выступил в парламенте и заявил, что президент рискует остаться один на один со всеми грандиозными проблемами, криминалом, олигархами, финансовым кризисом.
Коммунисты были готовы к роспуску Думы.
Однако в решающий момент случилось непредвиденное. Во время тайного голосования часть депутатов от оппозиции поддержала Кириенко, что решило исход противостояния в пользу президента. Дрогнули и несколько депутатов-коммунистов, отступивших от четко обозначенной политической линии партии.
Это было серьезное поражение левой оппозиции, тень от которого ложилась на всю фракцию КПРФ и на Зюганова. Вот лишь некоторые выдержки из оценок оппозиционной печати:
«Оппозиция получила шанс выполнить свой гражданский долг перед своей страной и своим народом, и она этот долг не выполнила…
Ельцин указал Думе на ее место. Теперь коммунисты должны указать на место собственной думской фракции».
Как говорится, сурово, но справедливо.
Геннадий Андреевич считает, что моральный урон партии нанесли несколько коммунистов, которые грубо нарушили требования партийной дисциплины. Никто не запрещает члену партии высказывать и отстаивать свою точку зрения. Но только до тех пор, пока не принято решение или не выработана общая платформа. Затем вступает в силу принцип демократического централизма, и большинство обязано подчиниться меньшинству – иначе партия превратится в дискуссионный клуб, сборище болтунов.
Можно много рассуждать о мотивах людей, которые в ответственный момент сочли для себя возможным проигнорировать позицию фракции. Вероятно, кому-то показалось, что обострение политического кризиса может сыграть лишь на руку правящему режиму – такая точка зрения высказывалась накануне. Но она не оправдывает проявленного во время тайного голосования малодушия. Более понятной и убедительной выглядит другая причина: не все справились с испытанием властью, данной депутату, не выдержали проверки на прочность в той сложной ситуации, когда люди и познаются. Престижное положение, удобные кабинеты, кремлевские телефоны, помощники, персональные машины, высокая зарплата… Если человек забывает, кто и зачем избрал его в Думу, то все это начинает со временем восприниматься им как должное, от чего бывает нелегко отказаться.
Партия, как считает Зюганов, сделала необходимые выводы. Именно тогда для коммунистов-депутатов было установлено неукоснительное правило: чтобы не оторваться от народа, надо постоянно находиться в гуще простых людей, знать, чем они живут, а главное – как живут. Все коммунисты-руководители обязаны состоять на учете и заниматься партийной работой в низовых первичных парторганизациях, в массах, среди рядовых членов КПРФ. Регулярные отчеты депутатов перед избирателями в регионах, систематизация полученных наказов, строгий контроль за их выполнением – это норма повседневной работы коммунистов в Госдуме. Так же как и ежедневный, не ограниченный определенными часами прием граждан депутатами от КПРФ. Недавно по инициативе Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, которую возглавляет В. С. Никитин – человек, хорошо известный в партии своей принципиальной и последовательной позицией, – была возрождена и еще одна старая большевистская традиция: в июне 2007 года пленум ЦК КПРФ установил для депутатов всех уровней и работников органов исполнительной власти и местного самоуправления, выдвинутых и поддерживаемых Компартией, так называемый партмаксимум. Этот принцип предусматривает добровольное отчисление значительной части получаемых ими высоких зарплат в партийный бюджет. Идея партмаксимума была выдвинута коммунистами-депутатами, полагающими, что свою работу они обязаны рассматривать как важное партийное поручение, которое не может быть средством личного обогащения. Такой подход укрепляет доверие избирателей к партии, к людям, которых они делегировали в руководящие государственные органы для защиты своих интересов.
…Последствия парламентского кризиса, которые могли негативно сказаться на единстве партии, стали предметом обсуждения на V внеочередном съезде КПРФ, состоявшемся в конце мая 1998 года. Несмотря на то, что некоторые делегаты съезда высказали мнение, что в целом позиция фракции в парламенте была чрезмерно жесткой и нужно было не стремиться к разгону Думы, а добиваться корректировки курса правительства, последовала резкая критика коммунистов-депутатов, нарушивших партийные установки. Одновременно получила решительный отпор попытка группы коммунистов создать внутри партии так называемую «сталинско-ленинскую платформу». Зюганов проявил исключительную твердость и волю, заявив о необходимости искоренения любых проявлений раскольнических тенденций и фракционности, которые следует рассматривать как стремление реанимировать «опыт» Ельцина и Горбачева.
Съезд принял заявление «О позиции партии в условиях нового обострения социально-экономического кризиса в стране», в котором было подчеркнуто: «Мы честно прошли свою часть пути к достижению взаимно приемлемого компромисса во благо России, но власть органически неспособна к нормальному диалогу». Выход из кризиса – в отставке президента и проведении досрочных выборов. В то же время отмечалось, что подать в отставку президента может заставить только массовый народный протест. «Мы прямо говорим людям: „На Думу надейся, а сам не плошай“».
Последующие события показали, что фракция КПРФ извлекла из апрельского кризиса необходимые уроки. Понимая, что, пока Ельцин у власти, Россия все больше будет превращаться в «Верхнюю Вольту без ракет», коммунисты инициировали процедуру импичмента президенту. Заявление в Госдуму об отставке Ельцина подписали 259 из 450 депутатов.
Тем временем экономика приблизилась к состоянию полного паралича. К середине года произошли резкий спад промышленного производства и сокращение объема ВВП, возникли серьезные сбои в банковской системе, прекратились платежи. В августе разразился мощный финансовый кризис. Целый ряд обстоятельств указывает на то, что он был срежиссирован, явился результатом сознательных, целенаправленных действий теневой группы, руководившей действиями Ельцина. Именно этим объясняется то маниакальное упорство, с которым тот продавливал на пост премьер-министра безвольного, неавторитетного и некомпетентного человека. Всего за три дня до кризиса Ельцин уверял страну, что все находится под контролем. А как показали последующие расследования, в это время о готовящейся девальвации рубля и объявлении дефолта уже были проинформированы несколько сот крупных предпринимателей и высокопоставленных чиновников, которые успели вытащить свои средства из банков, обернуть их в доллары и за один день как минимум утроить состояния. После того как генеральный прокурор Ю. Скуратов приступил к расследованию деталей дефолта, а заодно и обстоятельств исчезновения двух предшествующих ему траншей ВМФ размерами в четыре и шесть миллиардов долларов, по телевидению была показана видеозапись скандальных похождений «человека, похожего на генерального прокурора».