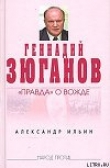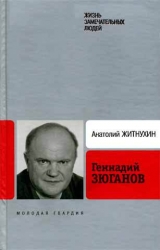
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Это вполне доходчивое и убедительное разъяснение отражает исторически сложившееся представление нашего народа о справедливости. И никакая «культура бедности» не сгладит социальных антагонизмов современной России, порожденных неправедно нажитым богатством одних и нищетой других, лишенных возможности честным трудом обеспечить себе достойную жизнь.
Надеясь, что население страны рано или поздно окончательно смирится с подобным укладом жизни, власть всеми средствами пытается внедрить в общественное сознание мысль, что нынешнему экономическому курсу нет альтернативы. И последовательно выстраивает политическую систему страны таким образом, чтобы не допустить к власти коммунистов, утверждающих обратное. Запугивая обывателя заплесневелыми страшилками о том, что у коммунистов якобы нет иного способа решения социально-экономических проблем, кроме одного – отнять и поделить, она всячески замалчивает экономическую программу КПРФ. Программу, которая понятна подавляющему большинству людей и созвучна их настроениям. Ведь в числе первоочередных шагов Компартии в случае ее прихода к власти – национализация сырьевых отраслей, природных богатств и недр, стратегически важных предприятий, направление их прибыли через бюджет на восстановление и развитие промышленности, науки, инфраструктуры, социальной сферы и достижение тем самым разумного баланса между частным и государственным капиталом; введение прогрессивной шкалы налогов; направление части Стабилизационного фонда наряду с дополнительными средствами из доходной части бюджета на реальное увеличение пенсий, пособий, стипендий, расширение бесплатного здравоохранения, образования и дошкольного воспитания; возврат финансовых средств из зарубежья.
Думается, не нужно разъяснять, кого пугают подобные меры, направленные на прекращение грабежа и оздоровление страны. Конечно же у тех, кто заинтересован в окончательном превращении России в бесправный сырьевой придаток экономики западных стран, сам факт существования реальной альтернативы губительному пути, ведущему в исторический тупик, особого беспокойства не вызывает. Больше всего тревожит их то, что КПРФ стала той политической силой, которая способна воплотить свои программные установки в жизнь, взять в свои руки всю полноту власти, ответственность за судьбу страны.
Сознавая реальность подобного исхода политической борьбы, прокремлевские политологи пытаются убедить обывателя в том, что историческая перспектива у коммунистов весьма призрачна: мол, были уже у Зюганова с его партией шансы прийти к власти, да они их упустили. Безвозвратно.
Так ли это?
Когда в начале 1992 года Зюганова избрали председателем Координационного совета народно-патриотических сил России, «Независимая газета» писала, что в патриотических кругах бывший главный идеолог КП РСФСР уже давно считается не ортодоксальным коммунистом, а государственником, способным достигать компромиссов. Пожалуй, с этим суждением можно согласиться, хотя оно и нуждается в некоторых принципиальных уточнениях. Политическая гибкость Зюганова, его способность к поиску компромисса во имя достижения основополагающих целей, решения стратегических задач никогда не имели ничего общего с той политической беспринципностью, превратившей политику в доходный бизнес, которая характерна для многих современных деятелей, сумевших пристроиться к государственной кормушке или рвущихся к ней. Например, став одним из главных собирателей патриотических сил страны, Геннадий Андреевич прекрасно сознавал, что объединение «красной» и «белой» оппозиции возможно только в пределах совершенно конкретных идейных границ, переступать которые коммунисты не имеют права. Подтверждением твердости взглядов и убеждений Зюганова стало его решительное размежевание с Русским национальным собором, который оказался подверженным махровому антикоммунизму одного из своих главных идейных вдохновителей – Александра Стерлигова. Вместе с Зюгановым из руководящих органов собора вышли тогда Валентин Распутин, Виктор Илюхин, Альберт Макашов. Заметим, что этот шаг не означал отказа от союза «красных» и «белых», активным сторонником которого Геннадий Андреевич оставался все девяностые годы, не раз призывая патриотов в интересах спасения государства оставить все разногласия «на потом», до лучших времен. То, что рано или поздно это «потом» наступит, он не сомневался. Но в то время, когда до предела обострился вопрос о том, быть или не быть стране, а главные политические организации оппозиции были разгромлены, – через многие преграды, мешавшие единению, можно и нужно было переступать. Результатом такой терпеливой и взвешенной политики явилось создание осенью 1992 года Фронта национального спасения, ставшего на тот период главной силой, противостоявшей наступлению ельцинской диктатуры, и сыгравшего огромную роль в пробуждении и подъеме народного самосознания. На Учредительном конгрессе ФНС Зюганов избирается сопредседателем, членом политического и национального советов Фронта.
Однако деятельность Зюганова по сплочению патриотических сил ни в коей мере не означала забвения главной задачи – борьбы за возрождение Компартии. Попытки его противников задним числом представить дело так, что в то время, когда другие коммунисты боролись за восстановление своих попранных прав, он «терся» среди патриотических организаций и «лобызался с попами», едва ли не махнув рукой на внутрипартийные дела, – не имеют ничего общего с действительностью. В июне 1992 года Зюганов был включен в состав группы лиц, уполномоченных представлять и отстаивать права КПСС в Конституционном суде, а затем – и в Инициативный оргкомитет по подготовке II Чрезвычайного восстановительно-объединительного съезда Компартии РСФСР. При этом, если внимательно прочитать все опубликованные воспоминания Геннадия Андреевича, не трудно убедиться, что своей роли в тяжелейшем процессе воссоздания партии он никогда не преувеличивал. Более того, он неизменно подчеркивал огромный вклад в это благородное дело своих соратников, не изменивших своим убеждениям, не убоявшихся террора, репрессий и травли, не растерявших представлений о чести и долге.
Это, прежде всего, касается сорока трех народных депутатов Российской Федерации – представителей семи фракций, обратившихся весной 1992 года в Конституционный суд с ходатайством о проверке конституционности ельцинских указов от 23 и 25 августа и 6 ноября 1991 года о приостановлении, а затем и о прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР и конфискации их имущества. Несмотря на воцарившийся в стране антиконституционный произвол, в ходе перерегистрации фракций на V съезде народных депутатов 52 депутата заявили о своей принадлежности к фракции «Коммунисты России». По сути, это была единственная легальная коммунистическая ячейка в стране. Тем временем ученые Москвы создали общественное объединение «В защиту прав коммунистов», которое возглавил исключительно мужественный человек доктор исторических наук И. П. Осадчий, в свое время сыгравший огромную роль в подготовке Учредительного съезда КП РСФСР. В качестве экспертов Компартию защищали известные ученые: доктора философских наук профессора Ю. К. Плетников, В. И. Староверов, Р. И. Косолапое, доктор экономических наук профессор Ф. Н. Клоц-вог, кандидат экономических наук Г. К. Ребров и другие специалисты в области истории, философии, экономики.
Первый секретарь ЦК российской Компартии В. А. Купцов, сменивший в начале августа 1991 года на этом посту И. К. Полозкова, находился в это время под следствием и участвовал в воссоздании партии фактически нелегально. Вместе с заместителем генерального секретаря В. А. Ивашко он участвовал почти во всех рабочих встречах группы ученых-правоведов, в которую входили доктора юридических наук В. С. Мартемьянов, Б. П. Курашвили, Б. Б. Хангельдыев, В. Г. Вишняков.
С особым удовлетворением Геннадий Андреевич подчеркивает, что активную позицию занимали все бывшие секретари ЦК Компартии РСФСР – А. Н. Ильин, А. В. Соколов, А. Г. Мельников, В. И. Кашин, И. И. Антонович, Н. П. Силкова. Неоценимый вклад в подготовку ходатайства в Конституционный суд внес член ЦК российской Компартии, народный депутат В. И. Зоркальцев. На процессе Виктор Ильич возглавил группу полномочных представителей народных депутатов РСФСР. В ее составе были депутаты Ю. М. Слободкин, Д. Е. Степанов, В. А. Боков, А. С. Соколов, В. И. Севастьянов, Б. В. Тарасов, И. П. Рыбкин, М. И. Лапшин.
Не все из тех, кто встал тогда в единый строй защитников Компартии, сохранили верность своим политическим принципам. Но это, по мнению Зюганова, не умаляет заслуг людей, отстоявших партию в самый тяжелый период безвременья. Он сохранил уважение даже к тем из них, кто впоследствии перешел в лагерь его непримиримых оппонентов, чья жесткая, порой необъективная и незаслуженная критика нередко оставляла у него в душе горький след. Но, умудренный нелегким жизненным и политическим опытом, Геннадий Андреевич прекрасно понимал, что есть в жизни вещи, которые стоят значительно выше любых, даже идейных, разногласий, и далеко не всегда нам дается право осуждать выбор других, даже в том случае, если в нем видится едва ли не предательство. К тому же свои собственные взгляды он никогда не считал истиной в последней инстанции.
В первые месяцы после августовского переворота у Зюганова складывается свое, отличное от представлений многих его соратников видение основных контуров будущей, обновленной Компартии – партии нового типа,свободной от догм и способной адекватно ответить на вызовы эпохи. Обращение к опыту большевизма позволяет ему провести исторические параллели, сделать выводы из уроков былых, наиболее тяжелых поражений. Как полагал Геннадий Андреевич, не случайно Ленин считал важнейшим этапом истории революционной борьбы мрачный период реакции, наступившей после первой русской революции: «Царизм победил. Все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики… Но в то же время именно великое поражение дает революционным партиям и революционному классу настоящий и полезнейший урок, урок исторической диалектики, урок понимания, уменья и искусства вести политическую борьбу… Разбитые армии хорошо учатся… Революционные партии должны доучиваться. Они учились наступать. Теперь приходится понять, что эту науку необходимо дополнить наукой, как правильнее отступать. Приходится понять, – и революционный класс на собственном горьком опыте учится понимать, – что нельзя победить, не научившись правильному наступлению и правильному отступлению. Из всех разбитых оппозиционных и революционных партий большевики отступили в наибольшем порядке, с наименьшим ущербом для их „армии“, с наибольшим сохранением ядра ее, с наименьшими (по глубине и неизлечимости) расколами, с наименьшей деморализацией, с наибольшей способностью возобновить работу наиболее широко, правильно и энергично. И достигли этого большевики только потому, что беспощадно разоблачили и выгнали вон революционеров фразы, которые не хотели понять, что надо отступить, что надо уметь отступить, что надо обязательно научиться легально работать в самых реакционных парламентах, в самых реакционных профессиональных, кооперативных, страховых и подобных организациях».
Ленинский опыт осмысления неудач помогал сделать серьезные выводы из тех уроков, которые преподнесла коммунистам горбачевско-ельцинская клика. Еще осенью 1991 года газета «День» поместила обстоятельную беседу с Зюгановым ее главного редактора Александра Проханова. Она была посвящена анализу причин крупнейшего в истории поражения коммунистов и снабжена выразительным заголовком «Партийного ренессанса не будет?». Из контекста беседы становилось ясно, что вопрос носил чисто риторический характер. Для Зюганова он был разрешен – пока еще не в деталях, но в принципе: бессмысленно воссоздавать партию, если она унаследует от прежней то, что привело ее к историческому краху. Впервые Геннадий Андреевич сформулировал свое понимание стержневой основы, вокруг которой должны строиться идеология и политика новой партии. Она должна соединить в себе две главные идеи, определяющие народное сознание: идею социальной справедливости и идею национального государственного развития. Если же партия отделит себя от национально-государственных интересов, она не будет иметь ни массовости, ни соответствующей народной поддержки.
Представление Зюганова о путях возрождения и строительства партии выходит далеко за рамки прагматического подхода. Об этом свидетельствует и его большая речь в Конституционном суде по ходу слушания «дела КПСС», основанная на глубоком историко-философском и политическом анализе случившегося с партией и страной. Прежде всего Геннадий Андреевич дал решительный отпор намерениям президентской стороны не только представить КПСС как преступную организацию, но и превратить процесс в судилище над историей всей страны, ее народом. Весь парадокс ситуации (а точнее – цинизм обвинителей, представленных такими одиозными личностями, как Бурбулис, Румянцев, Котенков, Макаров, Шахрай) заключался в том, что из членов самого Конституционного суда лишь одна только Т. Г. Морщакова не была членом КПСС.
«В самом факте, когда бывшие члены КПСС, ее руководители, по сути, запретили и судят породившую их партию, есть что-то противоестественное, нечеловеческое. Ведь попирается извечная норма народной морали: дети своим родителям не судьи. Любопытен и тот факт, что беспартийный адвокат Ю. Иванов защищает КПСС, а бывший член КПСС А. Макаров… является ее главным обвинителем.
С другой стороны, вдумаемся в логику обвинения. Партия, чье правящее положение было официально закреплено в Конституции СССР, оказывается… неконституционной. И не партией вообще, государственной структурой. Государством, конституцией которого был якобы Устав партии. Более того – миллионы людей, прошедшие через партию, оказывается, по утверждению Макарова, не являются народом.
И нужно это для того, чтобы с мазохистским сладострастием оправдать разрушение самого государства, его конституционных основ, обосновать тот беспредел, который царит в стране, нарушение всех международных пактов о правах человека, закамуфлировать невиданное предательство всех своих союзников и друзей, сородичей, стариков и детей. Для того, чтобы обосновать присвоение собственности, нажитой трудом трех поколений советских людей».
Большое внимание в своем выступлении Зюганов уделил историческим закономерностям государственного, политического и правого развития страны, особенностям государства, объединившего на своей территории 130 народов и народностей, людей сорока четырех конфессий. Необходимость реформирования государственно-политической системы была очевидна. Но эту назревшую потребность использовали силы, которые повели страну по антиконституционному и антигосударственному пути.
«Под разговоры о гражданском обществе, правовом государстве, демократизме, плюрализме, суверенитете, независимости были уничтожены конституционные основы государства, Съезд и Верховный Совет СССР, народный контроль, полуразрушены армия и правопорядок. Инструментом этой разрушительной политики было принципиально новое оружие, суть которого предстоит еще внимательно изучить, – информационно-психологическое программирование с использованием огромной мощности технологий манипулирования, которые сумели расколоть и перессорить наше общество. И это оказалось мощнее фашистских орд».
И здесь следует подчеркнуть, что Зюганов не ограничивается традиционным для поверженной стороны набором обвинений и обличений разрушителей Отечества. Он выступает как политик, обладающий масштабным мышлением, в совершенстве владеющий диалектикой, что позволяет ему видеть дальнейшую перспективу через анализ ошибок, отрицание изжившего и не оправдавшего себя.
«Однако основные причины трагедии, переживаемой народом, лежат внутри нашего государства и, прежде всего, – в монопольной экономике и морально-политическом облике его руководства.
…Я не могу утверждать, как некоторые другие, что партия ни в чем не виновна. Это далеко не так. Партия прежде всего виновна в том, что, осуществляя длительное время монопольное право на власть, растеряла опыт политической борьбы, реальные оценки обстановки и опору в массах. Процесс демократизации КПСС обязана была начинать с самой себя. Привести к управлению талантливых, национально и государственно мыслящих людей, любящих Россию, а не называющих ее „этой страной“, – людей, способных эволюционным путем провести крайне необходимые стране реформы. Она должна была понимать, что сложные государственные системы модернизируются только по частям. В противном случае – потеря управляемости и полный хаос, что мы и наблюдаем сегодня повсеместно.
ЦК КПСС, к сожалению, не хватило мужества освободить Горбачева даже тогда, когда уже были очевидны его полная неспособность руководить партией и государством, моральная нечистоплотность, нарушение клятвы, данной народу. Поразительно, но нобелевский лауреат, развязавший гражданскую войну в собственной стране, спустивший государственный флаг с Кремля и прихвативший целый квартал собственности КПСС, продолжает давать советы – как нам жить и работать.
Многим из нас недостало политического чутья и твердости возразить президенту Ельцину, когда он, разъезжая по стране и раздавая всем безграничные суверенитеты, обещал построить независимое государство всего с тремя функциями: единой обороной, транспортом и энергетикой (теперь и этого нет), что было не только антиконституционно, но и в высшей степени безграмотно. Каждый профессионал знает, что всякое государство держится как минимум на семи столпах, и, лишившись любого из них, – оно начинает разрушаться. Это, прежде всего, – единое экономическое и территориальное пространство, единая система финансов и налогов, единый язык межнационального общения, единые права личности, охраняемые государством, единая оборона и внешняя политика.
Мы должным образом не отреагировали и на крайне тревожный сигнал, когда в якобы респектабельной Эстонии заговорили о приоритете одной нации над другой, зарождая вражду народов по всей стране. Ныне в независимой Эстонии выдают уже коричневые паспорта так называемому русскоязычному населению, чего не позволили себе даже расисты ЮАР. А в Латвии дошли до того, что уже несколько месяцев выясняют, у кого из властей предержащих жены русские, что оценивается как бесспорный компромат.
Одного за другим отдавали на съедение осатаневшим борзописцам, дирижируемым мастером закулисных интриг А. Яковлевым, подлинных граждан Отечества, которые били тревогу за его целостность и судьбу…
Больше всего партия виновата в том, что пропустила к власти своих партбилетчиков – людей некомпетентных, не понимающих сути конституционных основ государства, специфики России, Союза как уникального национально-государственного образования, тех, кто пренебрег историческим опытом многих стран и народов. А этот опыт гласит: конституции всех стран исходят из приоритета защиты территориальной безопасности, ибо все государства складывались из завоеваний и ни одно не разрушалось без кровопролитных войн. Как видим, и мы не стали исключением…»
Далеко не все из тех, кто защищал партию в Конституционном суде, были готовы критически оценить ее деятельность. И не случайно в своем выступлении Геннадий Андреевич делает оговорку, что он, по сути дела, не согласен с прозвучавшими в Конституционном суде утверждениями о полной невиновности КПСС. Безусловно, нелегко было признавать собственную причастность к организации, не выдержавшей испытания временем, свое вольное или невольное попустительство антикоммунистическим силам, захватившим власть в стране и поставившим ее на край пропасти. Кроме того, сказалось сформированное в нескольких поколениях коммунистов едва ли не религиозно-мистическое отношение к аббревиатуре «КПСС», означающей для них нечто святое, стоящее выше понимания простых смертных, а потому не подлежащее критике. Нетрудно понять, почему некоторые левые радикалы выступление Зюганова восприняли в штыки, обвинив его в том, что он произнес «речь не защитника, а обвинителя партии». Оберегая КПСС, словно «священную корову», многие из них так и не поняли (или не захотели понять), что в Конституционном суде решающее значение имели не эмоции, а весомость и правовая состоятельность аргументов в защиту партии. Нужно было любой ценой вывести из-под удара ее сохранившуюся часть, чтобы на этой основе возродить российскую организацию коммунистов.
Впрочем, для некоторых наиболее радикальных деятелей само обращение коммунистов в Конституционный суд с целью добиться признания легитимности Компартии представлялось недопустимым соглашательством, политическим торгом с правящей антинародной верхушкой. А ведь вопрос стоял значительно шире, нежели он официально формулировался депутатами-коммунистами. По сути, речь шла о праве на жизнь самой коммунистической идеи, о законности деятельности коммунистов, возможности использования ими широкого арсенала легальных средств политической борьбы.
Благодаря такой кропотливой подготовке к процессу, всестороннему обоснованию своей позиции коммунистам удалось добиться приемлемого для себя решения Конституционного суда. В вынесенном им 30 ноября 1992 года вердикте в довольно сложных формулировках были признаны соответствующими Конституции положения указов президента применительно к роспуску имевшихся на территории России руководящих структур КПСС, а также КП РСФСР – в той степени, в какой она являлась составной частью КПСС. В то же время применительно к первичным территориальным организациям КП РСФСР эти положения были признаны противоречащими Конституции. Другими словами, суд подтвердил законность действий партийных организаций КП РСФСР на территории России и их право на создание новых центральных руководящих органов. 3 декабря газеты «Правда» и «Советская Россия» опубликовали «Обращение Инициативного комитета по созыву съезда коммунистов Российской Федерации». В нем отмечалось, что в ходе Конституционного суда «президентская сторона сделала все, чтобы превратить его заседания в политический процесс по делу КПСС. Она стремилась вершить суд над историей, однако своих целей не смогла добиться. Напротив, коммунисты вышли из суда несломленными и непобежденными». В числе других авторитетных деятелей Компартии «Обращение» подписал и Зюганов.
Трудно сказать, чем бы закончилось это противостояние, если бы в свое время здоровым силам КПСС вопреки позиции группировки Горбачева – Яковлева не удалось отстоять и провести в жизнь идею создания Компартии России. Конечно, тогда, два с половиной года назад, никто из сторонников организационного объединения российских коммунистов и предположить не мог, что они создают плацдарм для будущего, который позволит им после сокрушительного поражения сохранить, перегруппировать и сплотить свои ряды. Время только подтвердило их историческую правоту.
Безусловно, никто из тех, кто сражался за партию в Конституционном суде, не сложил бы оружия и в случае неблагоприятного исхода процесса. Но во что бы тогда вылилась борьба за возрождение массовой коммунистической организации, сказать трудно. Ведь к этому времени уже возникло несколько партий, созданных на базе платформ, образованных в КПСС: «Союз коммунистов», «Партия труда», «Российская партия коммунистов», «Российская коммунистическая рабочая партия», «Социалистическая партия трудящихся». Однако ни одна из этих партий так и не стала массовой, и между ними сохранялось множество идейных разногласий, приводивших к организационной разобщенности и раздробленности коммунистического движения. Не помогло преодолеть имевшиеся противоречия и создание Роскомсовета – консультативно-координационного центра организаций и объединений, образовавшихся из «осколков» КПСС и Компартии РСФСР. Сохранялись они и внутри возникшего движения за воссоздание единой КПСС (Союза коммунистических партий – КПСС).
Всё это, естественно, отразилось и на той атмосфере, в которой проходил II Чрезвычайный съезд КП РСФСР, собравшийся в феврале 1993 года. Характер его работы не без иронии, но весьма точно отразила в одной из своих публикаций газета «День»: «Съезд с блеском продемонстрировал плоды коммунистического плюрализма, убедительно показал, что коммунисты способны наплодить столько же платформ и линий, сколько и демократы».
Вместе с тем за разноголосицей, пестрым многообразием мнений, прозвучавших на съезде, явственно обозначились две основные линии, отражавшие настроения делегатов и их видение возрождаемой партии. Значительная часть делегатов разделяла позицию «классических коммунистов», руководствовавшихся традиционными идеями и полностью опиравшихся на политический опыт КПСС, не подвергая его сколь-нибудь серьезному критическому анализу. Однако большинство все же полагало, что идеология и методы работы партии в кардинально изменившихся условиях требуют решительного пересмотра. Многим импонировали взгляды Зюганова, который, выступая на съезде, сформулировал мировоззренческую платформу новой Компартии. По его мнению, главными составляющими идеологии коммунистов должны стать: справедливость– как основа социалистического идеала, народность– как форма реализации народовластия, государственность– не просто как форма существования, но и инструмент гармонизации интересов граждан, патриотизм– как средство сохранения традиций, связи времен и поколений.
Внутрипартийное противостояние обострилось при выборе руководящих органов партии и привело к размежеванию делегатов при обсуждении кандидатур, выдвигаемых в Центральный исполнительный комитет КПРФ. Одни выступали за взаимное прощение былых грехов, другие считали, что партии не по пути с теми, кто запятнал себя соучастием в горбачевщине и бездействовал после августа 1991-го. По мнению сторонников создания качественно новой политической партии, возглавить ее должен был человек, не отягченный сотрудничеством с высшей партноменклатурой, свободный от груза традиций, свойственных властным структурам прошлых лет, способный привнести в жизнь партии плодотворные идеи, восстановить ее живую связь с массами. Подавляющее большинство членов избранного съездом ЦИК остановили свой выбор на Зюганове.
Избрание Зюганова председателем ЦИК КПРФ в какой-то мере было неожиданным не только для сторонних наблюдателей, но и для целого ряда тех партийных деятелей, которые являлись инициаторами воссоздания Компартии. Здесь, очевидно, сказалась старая привычка к тому, что при подготовке партийных съездов все принципиальные, в том числе и кадровые, решения обычно заранее готовились и согласовывались таким образом, что голосование по ним превращалось в формальность. В данном случае кандидатура Зюганова возникла уже в ходе обсуждения претендентов на высший пост в партии, которое носило действительно свободный, демократический характер.
Кстати, Геннадий Андреевич уже выдвигался на должность руководителя российской Компартии – в начале августа 1991 года, когда подал в отставку И. К. Полозков. Тогда на решении Полозкова сказалась беспрецедентная травля, которую развернули против первого секретаря ЦК КП РСФСР «демократические» СМИ. По существу, антисоциалистическими силами была испытана новая технология дискредитации партии – через создание непривлекательного имиджа ее лидера. В течение года против Полозкова велся непрерывный огонь на поражение из всех пропагандистских орудий. Но, к чести Ивана Кузьмича, он не сломался. Как считает Зюганов, его решение уйти с поста руководителя партии было мужественным поступком, продиктованным высшими интересами – надеялся он, что, лишившись «традиционного объекта» повседневных злобных нападок, враждебные СМИ вынуждены будут ослабить информационную войну против ЦК КП РСФСР. Никто тогда не предполагал, что уже осуществлялся иной сценарий – был запущен в действие план полного уничтожения партии.
На пленуме ЦК, удовлетворившем просьбу Полозкова об освобождении его от обязанностей первого секретаря, Зюганов свою кандидатуру снял, несмотря на то, что выдвинул его на пост руководителя Компартии России писатель Юрий Бондарев – человек, к которому он испытывал огромное личное уважение. Посчитал, что сам факт голосования по альтернативной кандидатуре может вызвать трещину в руководящем ядре организации, с которой коммунисты связывали свои надежды на сохранение страны и возрождение авторитета партии. Отказ мотивировал отсутствием должного опыта парламентской работы.
К февралю 1993 года ситуация изменилась коренным образом. Теперь Геннадий Андреевич чувствовал за своей спиной поддержку не только близких ему по духу единомышленников – его идею сплочения вокруг партии широкой коалиции народно-патриотических сил восприняла огромная часть партийного актива, рядовых коммунистов. Работа Зюганова в патриотических организациях, особенно его участие в создании Фронта национального спасения, приносила ощутимые плоды. Была преодолена полоса отчуждения, долгое время существовавшая между коммунистами и патриотическими организациями, на смену взаимному недоверию пришло понимание необходимости совместных действий во имя спасения государства. На примере деятельности Зюганова тысячи беспартийных людей, озабоченных судьбой Родины, убеждались, что коммунисты – это не записные патриоты, как им внушали либеральные СМИ, а наиболее стойкие и последовательные борцы за коренные интересы народа.
Все это открывало для КПРФ реальные возможности расширения социальной опоры, привлечения на свою сторону широких масс трудящихся и интеллигенции, возвращения утраченного авторитета. Но перспективы эти выглядели отнюдь не безоблачными. Партии предстояло преодолеть не только серьезные внутренние противоречия, которые после всех событий, предшествующих созданию КПРФ, были просто неизбежны, но и подтвердить свое право называться Коммунистической, возглавить борьбу трудящихся за восстановление народовластия, попранных завоеваний социализма. То, что сейчас для миллионов сторонников партии выглядит как само собой разумеющееся, пришлось отстаивать – не только на словах, но, разумеется, и на деле. Как ни печально это сознавать, но в тяжелейшее для страны время коммунистические идеи стали предметом политической конкуренции. Так, одновременно со съездом, учредившим КПРФ, свой съезд провела Российская коммунистическая рабочая партия, которая объявила себя правопреемницей КП РСФСР и осудила «стремление партократов реанимировать антикоммунистическую линию Горбачева в партии с коммунистическим названием». В довершение всего съезд РКРП оценил работу ЦК КП РСФСР за минувший период как неудовлетворительную и исключил из партии В. Купцова, И. Антоновича, А. Ильина и Г. Зюганова – «за осознанное и неосознанное пособничество антикоммунистам, за отход от классовых позиций, за ликвидаторскую деятельность». С не менее категоричными оценками Зюганова и его соратников, «отвергших революционный путь борьбы с буржуазной контрреволюцией», выступили Всесоюзная коммунистическая партия большевиков и другие радикал-большевистские организации, призывавшие «отдать все силы на разоблачение ренегатов». Последний призыв не расходился с делом, вот только на политическую и организаторскую работу с массами, консолидацию трудящихся ресурсов у них, видимо, уже не хватило. Некоторые из этих партий сохранили свои названия и до наших дней, но практически все они так и остались в прошлом веке.