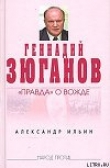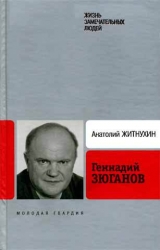
Текст книги "Геннадий Зюганов"
Автор книги: Анатолий Житнухин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Незадолго до демобилизации окончил офицерские курсы. Предлагали остаться в армии – не согласился: жизненный выбор был сделан значительно раньше. Однако с годами не ослабла в нем военная жилка. И поныне гордится былой службой. Тем, что как офицер запаса впоследствии никогда не отлынивал от военных сборов, а в середине восьмидесятых годов, после очередной переподготовки, которую проходил в качестве заместителя командира танкового полка, получил звание майора…
Тянуло на родину, в Орел, хотелось продолжить учебу и получить основательное образование. Домой возвращался с легким сердцем человека, достойно выполнившего свой долг, и в приподнятом настроении: там ждала невеста, да и что такое учеба в институте в сравнении с тремя годами армейской службы вдали от Родины? Сплошное удовольствие. В институтских стенах ребята, прошедшие армейскую школу, сразу выделяются: звезд с неба хватать не торопятся, но на земле стоят твердо, хорошо представляют, что им в этой жизни надо. Да и сама жизнь орловцев, размеренная и неспешная, наполненная тем неброским и ясным смыслом, который вынашивается веками и передается из поколения в поколение, предрасполагает к основательности и рассудочности.
Иван Бунин назвал Орел коренным городом.В этих словах – глубинная суть исторического значения здешних, срединных русских земель для всей России, характер и дух проживающих здесь людей, ведущих свою родословную от племени вятичей, обосновавшихся в древние времена в междуречье Оки и Волги. В одной из своих книг Геннадий Зюганов заметил, что вслед за Тургеневым каждый русский человек может сказать: «Орел – мой родной город». Любой россиянин здесь чувствует себя как дома, встречая приветливые взгляды прохожих, любуясь близким русскому сердцу местным ландшафтом, в который мягко и органично вписана архитектура города, сумевшего к середине шестидесятых годов залечить страшные раны, нанесенные последней войной.
Эту особенность города хорошо передал один из современных писателей-орловцев: Орел соразмерен масштабам человека. Поэтому-то, наверное, люди здесь и не выбиваются из русла естественной жизни, им не свойственны суета, эмоциональные порывы с непредсказуемыми последствиями, характерные для жителей крупных мегаполисов.
Зюганов, по его собственным воспоминаниям и впечатлениям, гармонично вписался в эту благодатную для него среду обитания, впитал и сохранил в себе эти коренные свойства орловского характера. Может быть, именно поэтому он всегда органичен, соразмеренобстоятельствам. Даже при поверхностном знакомстве с его биографией бросается в глаза, что, оказавшись волею судеб на политической стезе, он шел по ней неспешно и основательно, без головокружительных взлетов и метаний. Подхватив в сложнейший для компартии период партийное знамя, он выглядел не обреченным знаменосцем на баррикаде, а человеком, вполне осознавшим собственную силу и готовым нести выпавшую на его долю ношу.
Эти же качества нашего героя проявились и на других переломных этапах его биографии, совпавших с очередными изломами в судьбе России. И здесь приходят на память трагические события осени 1993 года. Когда человеку приходится делать серьезный выбор, принимать решение в критические моменты жизни, он и сам не всегда осознает, чем больше всего руководствуется, что подсказывает ему верный выход из той или иной жизненной ситуации – разум или интуиция, трезвый расчет или неожиданное движение души. Тем более не под силу понять это стороннему наблюдателю. Но как бы то ни было, тогда, в обстановке смятения и паники одних, неоправданного радикализма и псевдореволюционности других, безответственности и политического авантюризма третьих, он в очередной раз продемонстрировал выдержку и взвешенность решений, устойчивость и надежность. За что, кстати, подвергался критике не только со стороны представителей враждебного лагеря, но и в кругу своих соратников и сподвижников, людей, близких ему по духу. Многие успели забыть, что еще задолго до «черного» октября, весной 1993 года, оценивая развитие конфликта между президентом и Верховным Советом, полагая, что главным источником конфронтации являются Ельцин и его окружение, Зюганов подчеркивал, что ни одна из конфликтующих сторон не имеет поддержки народа.Об этом свидетельствовал и референдум, проведенный 25 апреля, когда по четырем вопросам – о доверии президенту, о поддержке его экономического курса, о досрочных выборах президента и о досрочном переизбрании народных депутатов – большинство населения ответило: «Да – Да – Нет – Нет».Именно с учетом этой политической реальности на майском пленуме Центрального исполнительного комитета КПРФ по инициативе Зюганова была принята резолюция «О борьбе с государственным и политическим экстремизмом». Пытаясь предотвратить политическую катастрофу, он неоднократно выступал против силового решения противоборствующими сторонами вопроса о выходе России из государственного кризиса и в течение лета, и в начале осени 1993 года. К этому он призывал и 3 октября, когда дважды выступил по телевидению, пытаясь предотвратить большое кровопролитие. Уверенный в своей правоте, он не боялся быть непонятым, хотя и сознавал, что предстоит ему выслушивать упреки в конформизме, чрезмерной осторожности, политиканстве и прочих грехах. Что ж, понимал, на что шел, возглавив КПРФ в начале 1993 года.
…Конечно, знал Геннадий Зюганов и другой Орел – город есть город. А в любом, тем более крупном, городе всегда таится немало мрачного, неприглядного и отталкивающего. Был поражен, когда впервые увидел на улице пьяную женщину, узнал, что существует среди людей воровство. Соприкоснувшись с этим явлением, долго не мог избавиться от чувства омерзения – не украденных вещей жалко, противно, когда чужие, грязные руки лезут в твою жизнь. Работая в комсомольском оперотряде, понял, что преступность – это не только пьяное ночное хулиганство, довелось столкнуться и с бандитизмом – циничным, наглым и беспощадным. Впрочем, этот «ликбез» темной стороны жизни, с которой до поступления в институт и переезда в город не сталкивался, он прошел еще до службы в армии.
После возвращения в институт пришлось Геннадию основательно покорпеть над учебниками и конспектами, чтобы преодолеть отставание в учебе и успешно сдать зимнюю сессию. Перерыва словно и не почувствовал – помогли ребята, дружной оказалась группа.
К тому времени вузы страны захлестнуло новое увлечение – участие в соревнованиях «Клубов веселых и находчивых». Тут раскрылось в полной мере еще одно качество Зюганова – чувство юмора и быстрая реакция. Другими словами, оказался он из тех, кто за словом в карман не лезет. И вскоре был избран капитаном факультетской команды КВН. Факт этот тоже представляется весьма примечательным, поскольку лишний раз свидетельствует о несостоятельности тиражируемого средствами массовой информации клише портрета революционера с каменным лицом и рокочущим басом. Например, близкие друзья Геннадия Андреевича знают его как ценителя хорошего анекдота. При этом он совершенно не приемлет пошлость, всегда предрасположен к остроумному собеседнику, умеет по достоинству оценить здоровый юмор своих политических оппонентов. К примеру, телевизионная программа «Куклы» вызывала раздражение даже у многих его соратников, но он всегда смотрел ее если не с удовольствием, то, во всяком случае, с большим любопытством: никогда не помешает знать, что там в тебе еще интересного подметили. В то же время над другими он никогда не насмехается, хотя любит пошутить в компании приятных ему людей. Правда, была отмечена пара случаев, когда шутки его принимались за чистую монету. Иногда, обмениваясь с кем-либо визитками, Геннадий Андреевич не моргнув глазом поясняет, что его карточка обеспечена золотом партии, а поэтому подлежит приему на всех постах ГАИ, в московских ресторанах и подконтрольных КПРФ банкоматах. Однажды обеспеченность карточки золотым запасом поставили под сомнение гаишники, в другой раз в приемной Зюганова попытались уточнить, в каких именно банкоматах можно обналичить визитку…
Шутки – шутками, а тем временем, когда Геннадий тренировал сообразительность и находчивость в команде КВН, ему уже была уготована первая серьезная самостоятельная работа на общественном поприще. Что там говорить! Для руководства института парень, отслуживший в армии, член партии да еще успевший и до службы хорошо себя зарекомендовать, стал настоящей находкой. Тем более ректор – Георгий Михайлович Михалев прекрасно разбирался в людях, при этом сам пользовался безграничным авторитетом и у преподавателей, и в студенческой среде. Даже не склонные к пафосу студенты между собой звали его не иначе как наш Маресьев.Несчастье, в результате которого Георгий Михайлович лишился ног, случилось с ним в молодости, когда был он комсомольским работником. Однажды в ненастье возвращался он домой с собрания, шел вдоль железнодорожных путей, против ветра и, занятый своими мыслями, не услышал, как сзади налетела «кукушка». Стоит ли говорить, что человек, переживший такую трагедию и сумевший после этого преодолеть серьезные рубежи и на научном поприще, и на административной работе, обладал поразительной силой духа и оптимизмом.
…Нечасто студент удостаивается аудиенции у ректора. Как ни гадал Геннадий, что может сулить ему вызов к Михалеву, так ничего и не смог предположить. Порасспросив о жизненных планах, предложил ему Георгий Михайлович возглавить объединенный профком института. И не дожидаясь ответа, стал говорить о том, что работа предстоит нелегкая: в профсоюзе – около пяти тысяч студентов и сотрудников института, а многое предстоит начинать практически с нуля. В распоряжении профсоюзной организации – солидные материальные средства, а кроме того, и свой денежный фонд ректор намерен использовать только по согласованию с профкомом. Подбор бухгалтера – на усмотрение Геннадия. Само собой разумеется – свободное посещение занятий. Обо всем этом говорил Георгий Михайлович спокойно, на равных, как о вполне решенном деле.
Прощай, беззаботная студенческая жизнь! Работа захлестнула с головой: льготные путевки, материальные пособия, билеты на концерты и спектакли, организация вечеров и встреч… Всё – зримо и конкретно, без пустопорожних речей и лозунгов. Неслучайно к профсоюзам, где люди получали реальную помощь и поддержку, тогда относились с огромным уважением. В то же время забота о человеке не ограничивалась лишь материальными возможностями профкома. Кто-то оступился по молодости – надо за него похлопотать. Кого-то надо поддержать при распределении, кого-то – при поступлении в институт. Вот когда пригодились навыки армейской дисциплины и организованности. Личные планы работы и учебы Геннадий составлял на месяц вперед, а на ближайшие недели время расписывалось буквально по минутам – ведь науку, в которую к этому времени успел погрузиться с головой, бросать не собирался. Тем более уже обозначились первые успехи в самостоятельных исследованиях, были получены хорошие отзывы на несколько его серьезных работ по теории игр. Надежным помощником оказался однокурсник Коля Рожков, которого Геннадий взял к себе бухгалтером. Ввели с ним жесткую финансовую дисциплину, договорились: если касса не сходится, доплачивать из своего кармана. Но Николай оказался не только прекрасным другом, но и классным финансистом – за все время работы не допустил ни одной оплошности.
Зюганов считает, что в жизни ему везло на людей. Всех помнит, ко всем сохранил уважение, многих считает своими учителями. Всегда с особой гордостью подчеркивает, что его первый учитель – мать, Марфа Петровна. Часто вспоминает о своих армейских наставниках – командире взвода Портнове и командире батальона Макарове. Среди тех, у кого учился отношению к делу, работая в Орле, – преподаватель матанализа и секретарь парткома пединститута Вениамин Константинович Иножарский, секретарь Заводского райкома партии Александр Степанович Хохлов, первый секретарь горкома Альберт Петрович Иванов. Каждый из них прежде всего обладал огромным человеческим талантом. Георгий Михайлович Михалев отличался особой добротой и любовью к людям, искренним интересом к ним. Очень ценил толковых собеседников, умел слушать и сам говорил ярко и образно. Любой студент или преподаватель в его глазах был незаурядной и яркой личностью с собственным неповторимым миром. В армии Геннадию о подобных нюансах и тонкостях человеческих взаимоотношений задумываться почти не приходилось. Там было все просто, ясно и… довольно прямолинейно, строй сплачивал, но он неизбежно и нивелировал людей. В обычной жизни все оказывалось гораздо сложнее.
Обладая удивительным даром души, ректор был особенно расположен к одаренным людям. На всю жизнь усвоил Геннадий его кредо: «За талантливых людей надо бороться». С ним легко и интересно было работать в приемной комиссии – постоянно интересовался, есть ли среди поступающих певцы, музыканты, театралы, спортсмены, всегда их поддерживал: «Даже спортсмен-троечник – по-своему талантливый человек, негоже такими разбрасываться. Поможем, подучим». Одаренных ребят, не набравших проходного балла, нередко принимали на испытательный срок – на полгода, до зимней сессии. Надо сказать, что ректор брал на себя большую ответственность, точнее сказать, рисковал – ведь за это и наказывали.
Эти уроки Михалева не прошли для Геннадия бесследно, позволили ему обрести то внутреннее раскрепощение, которое не позволяет человеку замыкаться в жестких рамках должностных обязанностей, в стенах служебных кабинетов – в том кругу отчуждения, в котором прекрасно чувствуют себя тысячи других людей, ступивших на служебную стезю и усвоивших правила бюрократических игр. Перешагнув эти границы однажды, в самом начале своей общественной деятельности, впоследствии Зюганов сумел вырваться из плена идеологических догм, из жестких пут, регламентирующих каждый шаг партийного работника.
Те, кто хорошо знают Геннадия Андреевича, неизменно отмечают его образованность, эрудицию, кругозор. Но в беседах с ним сразу же обнаруживается и другое: насколько органично его познания увязаны с жизнью, одухотворены жизнью, теми людьми, с которыми сталкивали его обстоятельства. Он никогда не ограничивает себя в живом общении – более того, он его ищет, оно превратилось для него в повседневную потребность. В каждом человеке, будь то простой рабочий или известный политический деятель, он неизменно находит для себя что-то новое и важное, выбирает и хранит самое ценное – крупицы человеческого опыта, не полагаясь при этом только на память. В его домашнем архиве скопились сотни исписанных блокнотов. Часто обращается к мыслям и мнениям людей, с которыми встречался, у которых учился. Эта привычка помогла сохранить видение окружающего мира через призму живого народного восприятия. Пожалуй, именно это качество оценили в нем представители самых разных патриотических сил, сплотившиеся вокруг него в тяжелую пору безвременья.
К нему потянулись, потому что он никогда не был традиционным партийным функционером с набором стандартных рецептов на каждый жизненный случай. Зюганов шел от жизни – и как практик, и как теоретик. Это нетрудно заметить, обратившись к его диссертациям, книгам, трудам по отечественной истории или геополитике. Дотошный исследователь может обнаружить в них те или иные погрешности, но для нас важнее другое – в его личной творческой лаборатории найдено немало сложных и верных решений, впервые примененных в общественной практике.
…Спустя некоторое время Геннадия избрали секретарем комитета комсомола института. Нетрудно предположить, что сделано это было с определенным прицелом – работа с резервом партийных кадров была в то время поставлена основательно, способные люди всегда были в поле зрения партийных комитетов, их поддерживали, давали возможность раскрыть свои способности, набраться опыта. Однако сам Зюганов о большой политической работе тогда не помышлял. Окончив институт, параллельно с комсомольской работой он начал преподавательскую деятельность на кафедре высшей математики, занялся научными исследованиями по математическому анализу, теории игр, приступил к подготовке диссертации.
Новое предложение не заставило себя ждать. Поступило оно от первого секретаря Заводского райкома партии Александра Степановича Хохлова. Был он человеком неординарным, из тех, кого в народе характеризуют одним словом: «умница». Начитанный и интеллигентный, обладал он спокойным, но в то же время очень твердым нравом, отличался последовательностью и настойчивостью, великолепно разбирался в людях. Как знать, если бы не он, может быть, и не удалось бы вытянуть молодого преподавателя и начинающего ученого из привычных стен института. Но ведь при первой же беседе сумел он расположить Геннадия к себе, убедил попробовать силы в новом качестве. Конечно, должность первого секретаря райкома комсомола, которую предложили Зюганову, не представляла для него тайны за семью печатями – к тому времени приобрел он солидный опыт профсоюзной и комсомольской работы. Но все же сулила она неизбежный разрыв со всем привычным и устоявшимся, шаг в неизвестность. На новый круг судьбы.
На кафедре отговаривали: куда собрался, у тебя диссертация на подходе. Вовремя вмешался секретарь парткома Вениамин Константинович Иножарский, к которому Геннадий давно уже относился как к авторитетному и надежному старшему товарищу: «Никого не слушай, держись и работай – все будет нормально. Ну а если что не так пойдет, через год заберем назад».
На том и порешили.
Глава третья
«НАРОДНЫЕ ПАРТИЙЦЫ»
Седой высокий старик в кабинет секретаря горкома партии вошел спокойно и с достоинством. Сделал несколько шагов и остановился, переступил ногами на месте, словно проверяя пол на прочность. Геннадий Андреевич поднялся навстречу, приглашая к столу: «Проходите, отец». – «Да я уж и не знаю, молодой человек, есть ли нам с тобой о чем говорить. Я ведь к тебе за помощью пришел – у меня крышу с дома ураганом сдуло. Раньше я бы и сам ее отремонтировал, но теперь стар стал. А сыновей моих на войне поубивало. Но, смотрю, наверное, никудышный из тебя помощник, коль ты у себя под носом пол не можешь отремонтировать – скрипит весь, того гляди провалится».
Сильно смутил посетитель хозяина кабинета, пришлось ему оправдываться: мол, только пришел на новое место, еще не успел порядок навести… Старику, конечно, помогли. Спустя несколько дней Зюганов сам съездил к нему, убедился – доволен дед остался. Но урок молодому партийному руководителю преподал хороший: собрался другими руководить – начни с себя. Не будем сейчас рассуждать, хорошо это было или плохо, но в партийных и советских органах люди ощущали реальную власть, признавали эту власть и хотели видеть ее дееспособной. Может, кому-то она и была не по душе, но народ власти доверял, в обкомы, горкомы и райкомы шли с производственными, жилищными, бытовыми проблемами и были уверены, что здесь рассудят по справедливости.
Вспоминая о партийных и советских руководителях, с которыми довелось работать в Орле, Геннадий Андреевич не раз подчеркивал, что все они были народными партийцамив подлинном смысле слова, не отделяли себя от народа, ощущали себя его неотъемлемой частью. Никто из них не отсиживался в своих креслах – «кабинетный» стиль руководства считался порочным и неприемлемым. Но помимо этого ко многому обязывала непосредственная близость к земле и людям. Ведь даже в областном центре – все у всех на виду, никакими обкомовскими или горкомовскими стенами от народа не отгородишься. Большая часть времени уходила на встречи и общение с людьми – на предприятиях, в совхозах и колхозах, по месту жительства. И везде – масса вопросов, требующих внятных ответов и конкретных мер. Практически каждый день – прием населения, под жестким контролем находилась работа со всеми письменными обращениями трудящихся.
Позиция рабочего человека всегда конкретна, пустыми посулами и демагогическими рассуждениями от него не отделаешься. Почувствуют фальшь в речи или общении – грош тебе цена будет. Как-то в день выборов случилось в городе ЧП: взбунтовалось строительное общежитие. С утра многие мужики были уже в подпитии и голосовать не пошли. Поехал к ним Зюганов. Едва появился, тут же возник стихийный митинг. Высказали, не стесняя себя в выражениях, всё, что думают о своем начальстве и начальстве вообще. Пришлось Геннадию Андреевичу проявить изрядную выдержку, чтобы выяснить причины недовольства. Оказалось, что многие в тесноте живут, в общежитии много детей, а детской площадки нет. Разбирались с каждым недовольным в отдельности. Все большие семьи Зюганов переписал, а вопрос с детской площадкой обещал решить в течение недели. Успокоились люди, пошли на избирательный участок. Свои обещания Геннадий Андреевич выполнил: и детскую площадку построили, и жилищные условия многосемейным улучшили. С подобными проблемами ему приходилось сталкиваться часто, и никогда люди не оставались брошенными на произвол судьбы. Надежно был защищен человек в социальном плане. Разное, конечно, случалось, но человека, труженика советская власть уважала и ценила. Не дай бог чтобы на каком-нибудь предприятии на пару дней зарплату задержали – головы бы у начальников полетели немедленно.
В подходе к делу и людям существовал реальный демократизм. В некоторых случаях – можно сказать, даже чрезмерный. Например, принцип обязательного рассмотрения любого письма или заявления, поступившего в руководящие органы, был на руку некоторым любителям «эпистолярного жанра», плодившим кляузы и анонимки. Мало того, что отнимали эти сочинения уйму времени, гораздо хуже другое – анонимки нередко использовались в качестве оружия борьбы с порядочными, инициативными, честными людьми. Нередко проходили через эти испытания и партийные работники. К примеру, в бытность секретарем городского комитета партии довелось Зюганову вместе с первым секретарем горкома А. П. Ивановым заниматься реконструкцией одной из центральных площадей Орла и прилегающих к ней улиц. Волей-неволей пришлось тогда принять, прямо скажем, нелегкое решение о вырубке трех десятков старых кленов. Хотя вместо них триста новых деревьев посадили, рядом заложили парк, а на соседней Комсомольской улице сняли трамвайное полотно и разбили сквер, много нервов им с Ивановым попортили: много разных глупостей в обком насочиняли, даже в Москву обращались. Успокоились все только по весне, когда зазеленели вокруг молодые саженцы и декоративные кустарники, запестрели цветы. Ахнули жители города, увидев, как преобразилось все вокруг.
Случай этот запомнился Геннадию Андреевичу тем, что, пожалуй, впервые на собственном опыте познал, что даже верные решения и необходимые действия не всегда встречают понимание и поддержку окружающих, а затраченные усилия – адекватную оценку. На первых порах в подобных ситуациях нервничал, а когда приходилось сталкиваться с недопониманием или незаслуженными упреками, в глубине души нередко начинала шевелиться обида. Конечно, со временем можно ко всему привыкнуть, приобрести своеобразный иммунитет, притупляющий остроту тех проблем, которые неизбежно наваливаются на тебя и не дают покоя ни днем ни ночью. Многие партийные руководители в конце концов так и поступали, находили для себя удобную нишу и, постепенно черствея, нередко превращались в закоснелых бюрократов. Зюганов этой участи избежал. Во многом благодаря своему главному наставнику тех лет – Альберту Петровичу Иванову, одному из тех людей, у которых он приобретал уникальный жизненный опыт.
Работать с Ивановым было нелегко. В первую очередь потому, что сам он целиком отдавался делу, которому служил, и от других требовал полной самоотдачи. Люди с приспособленческой психологией в горкоме не приживались – здесь в цене были не просто добросовестные исполнители, а инициативные работники, обладавшие творческим подходом к решению стоявших задач, или, как часто говорят в наши дни, креативным мышлением. Нельзя, конечно, требовать от других того, что тебе самому недоступно. Иванов, по мнению всех, кто его знал, имел на это неоспоримое моральное право. Человек от земли, он смог преодолеть все невзгоды, которые уготовила ему судьба. Довелось ему познать тяготы военного детства, последующей разрухи, сиротства. Ему было десять лет, когда началась война и он оказался на оккупированной территории, в районах партизанского движения Смоленщины. С этого возраста свой хлеб пришлось зарабатывать самостоятельно. Отслужив в армии, окончив техникум, а затем и институт, он прошел путь от простого инженера до руководителя жилищно-коммунального хозяйства области, заместителя председателя Орловского горисполкома, а затем был выдвинут на пост первого секретаря горкома партии. Трудно переоценить его роль в восстановлении и благоустройстве Орла, который к своему 400-летию, отмечавшемуся в 1966 году, был включен в число красивейших городов России. Накопленный здесь опыт по внедрению научно-технических достижений в жилищно-коммунальное хозяйство и его модернизации был одобрен ЦК КПСС и Совмином СССР и рекомендован к распространению в других регионах страны. Обладая глубоким знанием социально-экономических проблем и новаторским складом ума, он схватывал на лету каждую конструктивную идею, и неслучайно именно этот человек стал инициатором и главным организатором знаменитой «Орловской непрерывки» – принципиально нового, комплексного подхода к градостроению, определившего на долгие годы успешное решение задач жилищного строительства и социального развития города.
У Иванова перенял Зюганов крепкую хозяйственную хватку и распорядительность, умение вникать в суть экономических проблем. Так что не пропали у него здоровая хозяйская жилка и основательность, присущие ему, как мы знаем, с раннего детства. Чем бы ни приходилось Геннадию Андреевичу заниматься на партийной работе, окружающие неизменно отмечали: человек знает свое дело. Очевидцы приводят такой пример. За время работы в горкоме партии довелось Зюганову принять десятки делегаций, приезжавших в Орел со всей страны и даже из-за рубежа изучать прогрессивные методы жилищного строительства. Как правило, в их составе наряду с партийными руководителями всегда были специалисты-строители, которые постоянно принимали Зюганова за своего коллегу и искренне удивлялись, узнав, что он не имеет строительного образования, – настолько глубоко владел он не только общими, но и специфическими проблемами строительства. Но удивляться было нечему – он изучил едва ли не всю доступную литературу по градостроению, постоянно общался с ведущими архитекторами, планировщиками и инженерами, а возглавив городской штаб по внедрению «непрерывки», вник во все тонкости этого ремесла. Но прежде всего прекрасно усвоил он одну из главных заповедей партийного работника: без основательного овладения предметом управления любые разговоры о политическом руководстве теряют смысл. Уместно тут вспомнить кабинетных теоретиков «реформ» конца восьмидесятых – начала девяностых годов, претендовавших на глобальные изменения в тех сферах, о которых они имели весьма смутное, а главное – совершенно оторванное от жизни представление. Известно, к каким последствиям привела деятельность главного идеолога повсеместной замены совхозов и колхозов на фермерские хозяйства, «асфальтового» агронома Юрия Черниченко. Всем памятна программа Шаталина – Явлинского «500 дней», с помощью которой горе-руководители страны надеялись стабилизировать зашедшую в тупик экономику и безболезненно перескочить в рынок. От результатов экономических авантюр, в ряду которых особое место заняла «шоковая терапия» Гайдара, страна еще до сих пор не оправилась.
Будучи талантливым организатором, во главу угла Иванов ставил работу с людьми. Главное его кредо: партийный руководитель не имеет права делить людей, ради которых он в конечном счете и работает, на хороших и плохих, на покладистых и неудобных. Более того, к несимпатичным людям надо относиться с удвоенным вниманием, дабы личные антипатии не отразились на интересах дела или судьбе человека.
Запомнилась Геннадию Андреевичу беседа с Альбертом Петровичем, которая состоялась сразу после пленума, избравшего его секретарем горкома партии. До поздней ночи шел тогда обстоятельный и доверительный разговор о жизни, о нелегкой ноше партийного работника, о той линии поведения, которую предстоит определить для себя Зюганову. Иванов не поучал, а скорее рассуждал, делился собственным опытом. Но за его мыслями угадывалось стремление уберечь, предостеречь молодого руководителя от заблуждений и ошибок.
– У тебя теперь солидный кабинет, секретарь, персональная машина, аппарат сотрудников. И окружающие к тебе с почтением относятся. Будешь хорошо работать – еще больше почтения приобретешь. Только все это может вскружить голову. А чтобы этого не произошло, чтобы не было впоследствии разочарований, к любому кабинету в своей жизни относись, как к гостиничному номеру, из которого рано или поздно придется съезжать.
– Существует в нашей работе принцип коллегиальности руководства, коллективного принятия решений. Но только учти, что на каждом из нас лежит особая ответственность и за принцип этот не всегда свою голову спрячешь. Очень многое будет определять твоя личная позиция, поскольку часто приходится принимать решения самостоятельно, оставаясь с возникающими проблемами один на один, не уповая на страховку.
– У нас с тобой только один тыл – семья, и чтобы сохранить его в надежности, не тащи в дом свои служебные проблемы, иначе превратишь жизнь своих близких в кошмар. Оберегай семью – что бы ни случилось, ты должен всегда приходить домой в спокойном, доброжелательном расположении духа.
Последний совет был, пожалуй, особенно важен для молодого партийного руководителя, так как в том же 1974 году в семье Геннадия и Надежды Зюгановых родился второй ребенок – дочь Татьяна, а первенцу – сыну Андрею исполнилось шесть лет. Конечно, Иванов хорошо знал, что Зюганов хороший семьянин, но знал он и о том, чем для близких может обернуться работа главы семьи на пределе душевных и физических сил, по 12–14 часов в сутки, практически без выходных. Геннадий Андреевич свой тыл сохранил. Не только потому, что внял наставлениям своего старшего товарища. Главное, наверное, все же заключалось в основе его характера и здоровой психологии русского человека, для которого семья при любых обстоятельствах остается главным в жизни.
Были в его семейной жизни и трудности – у кого их нет. После свадьбы, которую сыграли в 1966 году сразу же после возвращения Геннадия из армии, довелось им с Надеждой помыкаться по углам и общежитиям. Сначала сняли комнату в деревянном доме, в которой с трудом помещались кровать, стол и два стула. Рай в шалаше продолжался до наступления холодов, когда выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии и жить в нем нельзя. Что и было зафиксировано в акте комиссии, осмотревшей жилище. Хозяев переселили, а квартирантам деваться было некуда. Наспех заготовили дров, печку топили два раза в день, утром и вечером, но в перерыве между топками тепло быстро улетучивалось сквозь бесчисленные щели, и за ночь вода в ведре покрывалась коркой льда. Перезимовали! И теперь часто вспоминаются Геннадию Андреевичу эта комнатка с маленьким оконцем, подернутым морозными узорами, потрескивающие дрова в печи, тусклый свет лампочки под видавшим виды абажуром.