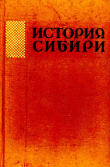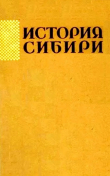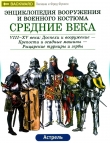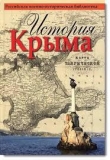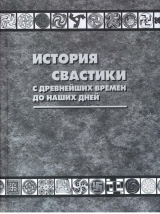
Текст книги "История свастики с древнейших времен до наших дней"
Автор книги: Анатолий Москвин
Соавторы: Томас Уилсон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)







Доктор Шлиман обнаружил при раскопках на холме Гиссарлык никак не менее тысячи восьмисот подобных пряслиц. Несколько из них были из первого и второго слоёв, отличаясь особенностями формы (см. рис. 72 и 74), но больше всего их попалось в третьем слое; в более поздние периоды их было значительно меньше. Настоящая классическая свастика была обнаружена на 55 образцах, тогда как сближенные или родственные формы представлены на 420 предметах. Многие другие пряслица были декорированы всевозможными типами точек, штрихов, кругов, звёздочек, ромбов, зигзагов, а также ещё большим количеством неопределимых или неявно выраженных знаков. Поддерживая точку зрения, согласно которой свастика является межкультурным символом и уже на очень ранних периодах человеческой истории наделяется особым, хотя, вероятно, различным в разных зонах значением, исследователю было бы небезынтересно ознакомиться хотя бы вкратце и с этими сближенными формами. Порою сюжеты чересчур своеобразны, поэтому мы не будем пытаться описывать их словами, когда будет намного нагляднее просто поместить изображения этих пряслиц – такими, как они были обнаружены при раскопках Трои – естественно, только те из них, которые как-то связаны со свастикой. Впрочем, автор не утверждает даже наличия и этой связи – ни в плане эволюции знака, ни в плане его семантики, ограничиваясь исключительно тем соображением, что в будущем изучающие этот предмет могут захотеть иметь все изображения для сравнения перед своими глазами, стремясь прийти к каким-либо определённым выводам (рис. 102–124).






Свинцовый божок из Гиссарлыка. – Доктор Шлиман, проводя раскопки на холме, на глубине 23 фута в третьем слое (сожжённый город) обнаружил металлического божка (рис. 125), который при ближайшем рассмотрении оказался изготовленным из свинца («Ilios, рис. 226, с. 337). Предмет был передан профессору Сайсу, который написал о нём нижеследующее (там же, с. 694): «Это халдейская Артемида Нана28, ставшая верховным божеством Кархемиша, который являлся хеттской столицей. Её культ прошёл по всей Малой Азии до побережья и островов Эгейского моря. Чётко определимые статуэтки богини были обнаружены в Микенах и на Кипре».
В «Трое» профессор Сайс пишет: «Такая же фигурка, с завитками на каждом виске, но с другой орнаментацией (точки вместо свастики), высеченная из куска змеевика, недавно попала в руки археологов в Меонии и была описана г-ном Салмоном Рейнахом в журнале «Revue archaeologique». Эта богиня сближается с вавилонским Белом, а для некоторых вавилонских символов, нанесённых на ней, есть аналоги на терракотовых пряслицах, большая коллекция каковых была собрана доктором Шлиманом на развалинах Трои».
Первостепенный интерес в описании этого божка доктором Шлиманом для нас заключён в последнем пункте (там же, с. 338): «Половые органы богини изображены в виде большого треугольника, у верхнего катета которого мы видим три округлые отверстия-точки, равно как мы наблюдаем две линии точек слева и справа от треугольника. Наиболее любопытная деталь в изображении этой богини – это свастика, которая начертана прямо у неё на лобке. Насколько мы знаем, этот божок ближе всего к фигуркам женских божеств из белого мрамора, обнаруженных в аттических гробницах, равно как и на Кикладских островах. Шесть образцов таковых находятся в настоящее время в музее в Афинах. Все они изображают обнажённых женщин. Вульва всех шести фигурок изображается начертанием в соответствующем месте их тел больших треугольников. Подобные фигурки из парийского мрамора, происходящие с Кикладских островов, где половые органы также символически обозначены большими треугольниками, представлены ныне в коллекции Британского музея. Ленорман в «Les antiquités de la Troade» пишет по этому поводу: «Статуэтки с Киклад в облике голых женщин кажутся нам грубыми копиями, в которых местные туземцы, по мере возможностей, в самом начале своей цивилизации, имитировали малоазиатских и ближневосточных божков, которых к ним завозили пунические торговцы. Подобные фигурки попались археологам в самых древних могилах островов, где им сопутствовали каменные орудия, главным образом наконечники стрел из милосского обсидиана, и лощёная недекорированная керамика. Мы идентифицируем их как изображения азиатской «Венеры», скульптурки которой в столь огромных количествах попадаются повсюду от долины Тигра до Кипра – другими словами, во всей месопотамской, арамейской и финикийской ойкумене. Прототипом этой «Венеры» была халдейская богиня Зарпанит или Зирбанит, столь часто обнаруживаемая на цилиндрических печатях и в виде терракотовых идолов, изготовление которых, по крайней мере в Месопотамии, начинается с шумерийских времён и продолжается при ассиро-вавилонском владычестве».
К этой исчерпывающей информации необходимо добавить, что в нашем случае знак свастики нанесён богине не прямо на вульву, как это явствует из слов Шлимана, но скорее чуть повыше – на лобок.
Профессор Сайс приходит путём рассуждений к выводу, во многом опираясь на облик свинцовой богини, что среди древних троянцев свастика была как-то связана с понятием мужской производительной силы.
Эти образчики интересны еще и потому, что терракотовые щитки треугольной формы, как мы знаем, повторяющие анатомические особенности тела, в доисторические времена носили индианки Бразилии. Эти щитки имели небольшие отверстия на выступающих углах, несомненно, для продевания в них верёвок, посредством которых они крепились на теле. Национальный музей США обладает несколькими образчиками, и мы опишем их позже, когда будем заниматься южноамериканскими древностями. Функциональное сходство этих разнесённых во времени и пространстве предметов более чем примечательно – при том, что оснований для предположения, что обычай так защищать свои половые органы мог быть импортирован из Старого света в Новый, у нас нет29.


Сосуды в виде фигурки совы. – В этой связи небесполезно упомянуть о существовании своеобразных терракотовых ваз, попавшихся археологам в недрах холма Гиссарлык, поскольку они могут пролить дополнительный свет на использование древнего символа в качестве знака производительной сексуальной энергии и мужской силы. У этих сосудов скруглённые днища, пузатые тулова, высокие плечики (высота которых подчёркивается формой и местом прикрепления ручек), узкая бутылкообразная горловина – однако не совсем как у привычной нам бутылки. Шейка намного шире шейки современной бутыли и более напоминает шею живого существа, которое сосуд имитирует, однако же, в очень грубой, хотя и своеобразной манере. В верхней части его налеплены глаза, брови и нос. Круглые глазницы, дугообразные разлётистые брови и заострённый нос придают таким сосудам сходство с мордою совы, однако на образце с рис. 127 ясно проступает сходство с человеческой фигурой, тем более, что у этого сосуда сохранилась крышка, исполненная в виде фригийского колпака. Сосуд, прикрытый крышкой, создаёт впечатление гномика, большую часть которого, как у детской игрушки, занимает голова, в частности, лицо. В Национальном музее США имеется одна из таковых ваз, естественно, в составе собрания Шлимана (рис. 126). Лицо фигурки хорошо соответствует вышеприведённому описанию, тогда как прочие её части лишь намечены небольшими выпуклостями. Вместе с образцами с рис. 127, 128 и 129 они образуют типологическую серию, в которой предмет из Национального музея по виду является древнейшим, другие же следуют за ним в порядке иллюстраций. У второго сосуда в серии (рис. 127) выпуклостями обозначены женские груди, вульва же намечена не привычным уже нам треугольником, а колечком. У третьего сосуда (рис. 128) натуралистически изготовлены груди в виде налепленных конусов, тогда как половые органы отмечены опять-таки кружком, в который вписан «греческий» крест с точками, нанесёнными в каждый из четырёх секторов, что Змигродский (рис. 12) обозначает французским термином croix swasticale. Четвёртый сосуд (рис. 129) более прочих антропоморфен, ибо имеет переданный кружком рот, ясно выражены груди, а в районе паха нанесён круг со вписанной в него свастикой. Первые три из четырёх рассматриваемых сосудов были откопаны в четвёртом слое Трои на глубине 20 и 22 футов, последний был найден в пятом слое на глубине 10 футов.


Свинцовый божок (рис. 125) со свастикой, вписанной в треугольник в районе лобка, может быть поставлен в соответствие с рассматриваемой серией. Если в эту серию добавить бразильский каросс (folium vitus)30 – см. нашу таблицу 16, – то сходство будет ещё более значительным, если не более того. Но что бы мы ни творили о сходстве, ясно одно: пот знак, нанесённый на лобок, имеет коннотацию благопожелания. счастливого предзнаменования, пожелания удачи, несомненно, относясь и к прокреативной силе.
С древнейших времён развития цивилизации, насколько мы в состоянии проследить духовное развитие человека, мы знаем, что обильное потомство считалось знаком угодности данного индивида богам и духам, воспринимала как величайшая благостыня и дар божий, а бесплодие считалось стигматом греха. Первая и важнейшая божья заповедь иудеям, как записано в Библии – «плодитесь и размножайтесь, и заполняйте землю» (Быт. 1: 28). Во второй раз это увещевание было повторено после Потопа (Быт. 8:17, 9:7), и еще раз в эпизоде, когда иудейская Иегова-'1 проклинало род людской в саду Эдема, то её слова женщине были: «в болезни чрева твоего произведёшь потомство» (Быт 3:16). Величайшее благословение бога Аврааму. когда Иегова дала ему и его семени землю до самого горизонта, было, что род его будет многочислен как прах земной, «что если возможет муж сосчитать прах земной, то сочтет и семя твое» (Быт. 13:16, 15:5). «Скажи звездам, ежели ты возможешь счесть, их так будет семя твое». Мы все помним историю Сарры – она и её супруг Авраам имели все богатства и власть земную, но по тогдашним понятиям это было ничто, ибо они не имели детей, и величайшим божественным благословением прозвучало для них обетование зародить наследника – тем более счастливы они были, когда на свет появился Исаак. Может быть, мы ушли слишком далеко от символизма свастики, но эти библейские примеры наглядно показывают, сколь велико было счастие древних в потомстве – ещё раз подчеркнём, в свете приведённых мест из Библии, что знак свастики, начертанный в области паха, становится символом благопожелания и благословения вышних сил – и в этой функции он наносился на троянские пряслица, греческие сосуды или этрусские фибулы,
Эпоха троянских городов. – Представляется логичным сделать пару замечаний относительно стратиграфии и датировки доисторических слоёв Трои (холм Гиссарлык). Шлиман обратился к профессору Вирхову, спрашивая его мнение. В предисловии к книге «Ilios» это мнение приведено: «Прочие археологи стремились датировать первые слои Гиссарлыка эпохой неолита, так как там были обнаружены типические предметы вооружения и полированный каменный инвентарь. Эта концепция необоснованна и недопустима. Верхний уровень холма датируется III веком н. э. – то есть, сразу над стеной македонского периода, а древнейшие слои – в них попадается не только полированный камень, но и отщепы халцедона и обсидиана – логично датировать эпохой металлов, ибо уже в первом слое были подняты изделия из меди, золота и даже серебра. Люди каменного века не обитали на холме Гиссарлык, по крайней мере, их следы там не обнаружены».
Мнение Вирхова, что прото-Трои в каменном веке просто не существовало, может соответствовать истине, но его рассуждения, несомненно, порочны. Он датирует ранние слои эпохой металлов, ссылаясь на то, что «уже в первом слое были подняты изделия из меди, золота и даже серебра». Однако сам факт того, что туземцы использовали металлы, в частности, медь, золото и серебро, ещё не свидетельствует в пользу того, что они жили в эпоху металла, как это теперь понимается археологами-«первобытниками». Принцип периодизации предыстории на эпохи камня, бронзы и железа построен не на факте наличия или отсутствия этих материалов в руках тамошних обитателей, но на материале, использовавшимся ими для резания. Использование золота или серебра для украшения не ставится археологами в увязку прогресса орудий труда. У нас в США сотнями попадаются индейские медные приспособления для резания, которых только в Национальном музее собрано сотен пять или шесть, однако на практике ими пользовались мало, и они не заменили каменных орудий как основного рабочего материала при изготовлении орудий деревянных, благодаря чему мы не можем утверждать, что медный век у индейцев Америки уже начался. В эпоху палеолита для орудий труда и украшений очень широко использовалась кость, однако никто не говорит о некоем «костяном веке». В некоторых местностях, где камня мало, а ракушек много, в доисторические времена рабочие режущие орудия изготавливались преимущественно из раковин, особенно скребки и рубила, соответствующие классическим полированным каменным топорам – где на то были благоприятные условия, но никому никогда не приходило в голову установить некий «ракушечный век». Возвращаясь на Гиссарлык, заметим, что первые пять слоёв просто переполнены всевозможнейшими каменными орудиями, типичными для эпохи неолита – и даже если местами попадаются изделия из других материалов, это в принципе не меняет датировки этого локуса эпохой полированного камня! В любом случае, аргумент Вирхова – то есть, что использование меди, золота и серебра практиковалось обитателями древнего поселения – не меняет сути дела – того, что они жили в эпоху преимущественного использования полированного камня.
Далее профессор Вирхов признаёт глубокую древность всего найденного Шлиманом и говорит («llios», прилож. 1, с. 685), что «хоть и невозможно датировать эти слои каменным веком, всё же они суть древнейшее известное науке доисторическое поселение в Малой Азии – причём поселение, довольно далеко продвинувшееся по пути цивилизации», и (там же, прил. 6, с. 379) что «в Европе мы не знаем ни одной точки, древняя культура которой могла бы быть сравнима с каким-либо из шести нижних слоёв холма Гиссарлык».
А вот что пишет о древности этих развалин профессор Сойс («Troja», с. 12): «Древности, откопанные доктором Шлиманом в Трое, вызывают у нас особый интерес. Они переносят нас в позднекаменный век древней арийской расы».
АФРИКА
Египет
Антиквары и историки искусства договорились между собою, что свастики в Древнем Египте не было и нет. Так считают профессор Макс Мюллер и граф Гоблет д’Альвиелла («La migration des symboles», с. 51–52).
Уоринг («Ceramic art in remote ages», c. 82) пишет: «Единственный знак, напоминающий свастику в египетской иероглифике, мы приводим на рис. 3 таблицы 41, и он является одним из иероглифов Изиды, но он достаточно далёк от классической свастики».
Господин Грег («Archaeologia», XLVII, с. 159) уверяет нас: «В Египте свастики не было». Многие другие авторитеты заявляют то же самое. И всё же ряд образцов свастики был обнаружен и в Египте (рис. 130–136). Профессор Гудъеар («Grammar of the Lotus», таблица 30, рис. 2 и 10, с. 356) пишет по этому поводу: «Древнейшие известные нам свастики можно датировать третьим тысячелетием до нашей эры, они встречаются на древней кипрской и, предположительно, карийской керамике эпохи 12-й египетской династии, что была собрана Флиндерсом Петри в 1889 году» (его книга о Кахуне, Гуробе и Хаваре, табл. 27, рис. 162, 173).
Навкратис. – Рис. 130–135 мы заимствуем из книги У. Флиндерса Петри «Third Memoir of the Egypt Exploration Fund» (часть I), все эти предметы были обнаружены им в Навкратисе, и на всех на них присутствуют несомненные свастики. Искусствоведы и археологи установили, что здесь мы имеем дело с греческими вазами, импортированными в Египет. Хотя географически они и найдены в Египте, но не имеют ничего общего с местной культурой, поскольку принадлежат культуре греческой.
Коптос (Ахмим-Панополис). – В последние несколько лет крупные открытия были сделаны в Верхнем Египте, в Саккаре, Фаюме и Ахмиме, последний из которых соответствует эллинистическому городу Панополис. Жители этих городов были православные греки, переселившиеся сюда из Европы в первые столетия нашей эры. Страбон говорит об этих людях как о ткачах и искусных вышивальщиках. Археологи покопались и на древних кладбищах, где собрали неплохую коллекцию саванов и ритуальной одежды. Образцы античных тканей были переданы на специальную экспертизу г-ну Гершпраху в Национальную мастерскую гобеленов в Париже (см. издание «Les tapisseries coptes», раздел 4, с. 5–6), где было установлено, что они изготавливались по той же технологии, что и современные гобелены и отличаются от теперешних гобеленов в основном небольшими размерами. Он пишет: «Эти древние ткани и наши гобелены – результат примерно одинакового рабочего процесса, за исключением некоторых частных деталей, так что нам удалось безо всяких сложностей воспроизвести коптские ткани в нашей мастерской».


Одна из этих коптских тканей, изготовленная изо льна, воспроизведена в книге «Die Gräber und Textilfunde von Achmim-Panopolis» P. Форрера – на ней мы видим обычную свастику, вытканную ковровым методом, с применением шерстяных нитей (рис. 136).






Она относится к первой эпохе, что соответствует частично I и II векам н. э. На этом полотне некогда имелся богатейший декор, образовывавший многофигурные композиции в натуралистическом и геометрическом стилях. Среди прочего имелись свастики, некоторые из которых располагались по краю полотнища, другие же украшали углы туник и тог, будучи размещены в больших круглых медальонах.
Алжир
Уоринг в «Ceramic art in remote ages», рассуждая о свастике, которую он именует английским термином fylfot, приводит на рисунке 2 таблицы 43 подножие колонны, происходящей из разрушенного римского здания в Алжире (наш рис. 137), на котором выцарапано две свастики, ветви которых пересекаются под прямым углом, а концы заломаны влево также под прямым углом. На той же таблице его книги имеется еще 5–6 других свастик, которыми был украшен мозаичный пол римской виллы в Алжире. Эти свастики, однако, имеют загнутые концы (вопреки нашим ожиданиям, так как на мозаике гораздо легче изобразить концы прямоугольные).
На одном образце загнутые концы увенчиваются жирными точками, на другом – завитками спирали. Кроме того, согласно статье в «Bull. soc. Française de numism.etd’archéol.» (II, табл. 3, с. 3) свастика была найдена на одном древнем надгробном камне, также происходящем из Алжира.

Золотой Берег
Шотландец г-н Р. Б. Энеас Мак-Леод на 353-й странице книги «Ilios» сообщил о любопытных бронзовых слитках, которые в качестве трофеев захватил в Кумасси в 1874 году во время военных действий против народа ашанти капитан британской армии по имени Иден, проживающий в Инвернессе, в коллекции которого они некоторое время и находились. Некоторые из них были помечены классической свастикой (рис. 138). Несомненно, эти предметы отражали развитие культуры тамошних туземцев, однако в книге не указывается дальнейшая судьба этих слитков, равно как и факт, были изображения литые или чеканные.

АНТИЧНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА
Греция и острова Эгейского моря. Кипр, Родос, Мелос, Тера
Свастика попадается и в древнегреческой культуре, включая находки на островах Эгейского моря, на бронзовых и золотых изделиях, но чаще всего на керамике. Подавляющее большинство образцов мы имеем с расписных сосудов. Любопытно, что свастика чаще попадается на более древних сосудах, особенно архаического периода. Выше мы уже описали и показали греческие сосуды, обнаруженные в египетском Навкратисе – Флиндерс Петри датирует их VI–V вв. до н. э., в Египет они несомненно попали из Греции.


Греческая плетёнка (fret) и египетский меандр не тождественны свастике. Профессор Гудъеар («Grammar of the Lotus», с. 352) утверждает: «Редко что в археологии может быть столь легко доказано, как положение о том, что свастика представляет собою фрагмент египетского меандра, часто попадающегося в качестве элемента декора и на греческих вазах».
Под египетским меандром здесь надо понимать греческую плетёнку. Когда он столь безапелляционно утверждает, что свастика изначально была фрагментом меандра, мы, питая всяческое уважение к столь начитанному искусствоведу, не можем избавиться от сомнений в истинности сказанного им – поскольку отсутствуют убедительные доказательства.


Профессор Гудъеар, и за ним прочие, полагают, что свастика происходит от греческой «ленточной» плетёнки. Это сомнительно, и доказано пока еще не было. Прямые доказательства в пользу этого предположения подобрать сложно, если не невозможно. Плетёнку и свастику можно сравнивать, но это уже будет вторичное доказательство, а степень его убедительности зависит от риторического мастерства доназывающего и его умения отразить нападки сомневающихся. Греческая плетёнка, в орнаментальных целях, могла удваиваться, а её элементы могли подвергаться пересечению (как на рис. 139), образуя таким образом фигуру близкую свастике – но ведь это будет чисто орнамент, не несущий никаких коннотаций свастики как символа. Пересечение линий плетёнки давало пищу глазу, но не уму, и свастика таким образом получалась выхолощенная – к тому же такой «дизайн», помимо прочего, весьма редко применялся. В узорных каймах нет и не было никакого оттенка благословения, удачи или прочего, как мы это видели на примере настоящей свастики. Цель применения греческого орнаментального мотива, известного под условным термином «плетёнка», насколько я понимаю, – заполнять собою декоративные ленты, удваиваясь, утраиваясь и даже учетверяясь – повторяясь из раза в раз на протяжении ленты в тех же начертаниях и никогда не кончаясь. Лучше всего такая плетёнка смотрится, будучи вписанной промеж двух параллельных линий.







Чаще всего использовались две переплетающихся линии, пересекающие друг друга под прямыми углами в определённых повторяющихся точках, результатом чего является меандрическая волна32, выполняющая декоративную функцию. В греческой плетёнке две линии «меандрировали» меж двух «берегов», то поднимаясь, то опускаясь, проходя то вправо, то влево, но в конечном итоге неизменно вперёд, образуя непрерывную кайму узора. Свастике в таком узоре делать нечего. Череда свастик не может быть выполнена непрерывными линиями, каждую новую придётся отделять от предыдущей, ибо свастика имеет четыре конца, каждый из которых «смотрит» в разных направлениях – одним непрерывным росчерком карандаша такую фигуру не изобразишь. Даже если мы переплетаем две линии, чтобы на пересечении получались свастики – ленту из таких фигур изобразить невозможно, так как линии для изображения свастики приходится проводить в разных направлениях. Словами передать эту идею не так просто, да может, и не нужно – попытайтесь взять карандаш и нарисовать непрерывными линиями череду взаимосоединённых свастик, причём так, чтобы они выстраивались в однонаправленную ленту, – и вы вскоре поймете, что это невозможно.


Профессор Гудъеар пробует доказать обратное своими графическими выкладками на с. 96 своей книги (в связи с фиг. 9 на табл. 10, также рис. 173–174 на с. 353–354 его книги). Эти рисунки мы приводим в нашей работе под номерами 21, 25, 26 и 27. Относительно аргументации коллеги мы выдвигаем следующие положения: 1) между рисунками нет никакой связи, они не пересекаются ни географически, ни хронологически; люди, создававшие их, не имели в виду одну и ту же идею; 2) отдельные экземпляры случайны, а не создавались целенаправленно. Подобная фигура вполне может быть создана случайно, без задней мысли – как в древности, так и ныне. Переход от спирали к плетёнке, а от плетёнки к свастике может осуществиться лишь при наличии такого замысла у художника, мы же не имеем ни одного переходного образца, имевшего бы доказательную силу; 3) если бы мы имели больше образцов, это мало что изменило бы, ибо как показано выше, меандр не в состоянии переходить в ленту свастик. Свастика существует поодиночке или небольшими группами, не объединяясь в орнаментальные ряды, если же существует необходимость в нанесении множества свастик, то построение рядов начинается во всех четырёх направлениях от фигуры-прототипа (рис. 21, 25). От меандра легче перейти к обычной свастике, а от нее к меандрической, чем сделать это в обратном направлении. Если кто в этом сомневается, пусть попробует сам нарисовать ленту непрерывных свастик, подобно рис. 26, наподобие греческой плетёнки.











Рис. 133–134 из Навкратиса дают, по-моему, достаточный материал к размышлению о различном происхождении свастики и греческой плетёнки. Все греческие сосуды, где бы они не были найдены, на одном образце дают нам и плетёнку, и свастику – причём и то и другое в своих классических проявлениях. Если бы одно произошло из другого, эти знаки относились бы к разному времени, и едва ли бы попались на одной и той же вазе. Ещё один пример одновременного использования (рис. 194) – это этрусская ваза, декорированная шляпками бронзовых гвоздей, причём на ней нашлось место и для плетёнки, и для свастики – что доказывает одновременность распространения этих орнаментальных мотивов, а не происхождение одного из другого, как хотелось бы профессору Гудъеару. Этот артефакт хранится в музее Эсте, в Италии.



Греческая меандрическая плетёнка была популярна во все века и во всех странах, куда только досягали достижения эллинской цивилизации. Во все века и всем народам был известен и простейший символ креста – две пересекающихся линии – бесчисленное множество архитекторов и мастеров керамики использовали его, а многие из них, вероятно, никогда не видели свастику и не слышали о ней – ни как об элементе узора, ни как о символе.
Свастика в квадратных секторах. – Профессор Гудъеар в другом месте («Grammar of the Lotus», с. 348, 353) рассуждает таким образом, что кажется, он, сам не признавая того, согласился с вышеизложенным нами ходом логических построений. Он тщится доказать, что свастика появилась на основе модификации греческого геометрического стиля, пытаясь найти её «размером поболее» и «фасоном понаглядней». В защиту этого положения он утверждает, что якобы свастика чаще всего встречается там, где она крупного размера и, более того, вписана в определённый отграниченный сектор орнаментального пространства, исключительно посвященный ей одной. Но он приводит лишь два образца свастики в квадратных секторах. Это наши рис. 140 и 142. Автор настоящей работы отыскал еще образцы – рис. 141–148, опираясь на книги Денниса об этрусском искусстве, Уоринга о декорировке древней керамики, а также в трудах Чеснолы и Онефальш-Рихтера. Глупо полагать, что это единственные образцы греческих свастик, вписанных в тесные сектора, однако факт остаётся фактом – большинство известных нам свастик ни во что не вписаны. Поэтому рассуждения профессора Гудъеара повисают в воздухе, ведь никто не возьмётся утверждать, что четыре образца, оказавшиеся вписанными в сектора, послужили моделью для сотен не вписанных никуда. Равно этот аргумент подтачивает и другое утверждение того же автора – а именно, что свастика берёт свое начало от греческой плетёнки, – ведь мы уже видели, что та всегда употреблялась в виде ленты и никогда в виде отдельных сегментов. Хотя свастика и плетёнка в чём-то схожи – хотя бы в наличии прямых углов и неизогнутых линий, – различия в данном случае перевешивают сходства. Последующий анализ покажет, что плетёнка и свастика различны по использованию, происхождению и истолкованию (символической нагрузке).




Классическая правозакрученная свастика. – Можно называть её обычной свастикой. Было не просто собрать приведенные в различных изданиях изображения греческих ваз, а потом распределить их по группам согласно форме и особенностям исполнения. Первая группа (рис. 140, 143, 146, 147, 148, 150) представляет нормальную четырёхлучевую свастику с прямоугольными правозакрученными загибами. Мы не различали образцы из континентальной Греции и с островов (например, из Смирны), рассматривая всё культурное наследие Эгеиды как условно греческое.
Классическая левозакрученная свастика. – Рис. 141, 142, 144, 149, 151–157 показывают обычную четырёхлучевую свастику, но концы ветвей закручены налево. Сосуды, на которых были обнаружены эти образцы, не описываются ни в плане цвета, ни формы, поскольку сделать это достаточно затруднительно – да и нецелесообразно в работе по истории именно свастики. Рис. 155 изображает вазу или кувшинчик, а точнее, эйнохою (сосуд для розлива лёгкого вина), украшенную нарисованной на ней свастикой, концы которой загнуты налево. Теперь эта эйнохоя находится в музее св. Жермена, а её изображение можно увидеть в «Доисторическом музее» де Мортилле (De Mortület). На рис. 156 мы видим кипрскую вазу из Ормидии, хранящуюся в нью-йоркском музее. Она описана Чеснолой («Cyprus, its ancient cities, tombs and temples», табл. 45, рис. 36) и Перро и Чипьесом (Perrot & Chipiez, «History of Art in Phenicia and Cyprus», II, c. 302, рис. 239). Наш рис. 157 заимствован с черепка архаического греческого сосуда, найденного на Санторине (древняя Фера) – островке в Эгейском архипелаге. Сперва этот островок был населён финикийцами, затем эллинами; жители Санторина основали колонию Кирена в Северной Африке33. Об этом образце пишет Рошетг, а изображение приводит Уоринг (Waring, «Ceramic art in remote ages», табл. 42, рис. 2).


Свастики с ветвями, пересекающимися не под прямым углом, и с закруглёнными левозагнутыми концами. – На рис. 158, 159 и 160 показаны четырёхлучевые свастики, ветви которых пересекаются не под прямым углом, многие из которых с закруглёнными концами и, как правило, концы загнуты влево. На рис. 161 приведено изображение деревянной пуговицы или застёжки, весьма напоминающей золотую шведскую брошку, введённую в научный оборот Монтелиу– сом (ниже по тексту), покрытой золотыми пластинками, из погребения 4 в Микенах (книга Шлимана «Mycenæ», рис. 385, с. 259). Орнамент в её центре – одна из свастик со скруглёнными концами с четырьмя «лапами» (т. е. тетраскелион), загнутыми налево. В каждом из четырёх образовавшихся полей мы имеем по точке, что делает фигуру похожей на «суавастику» Макса Мюллера или croix swasti– cale Змигродского. Бюрнуф отождествил эти четыре точки с четырьмя гвоздями, которые закрепляли крест «арани» (женское первоначало), тогда как «прамантха» (мужское первоначало) вызывал, вращаясь, священный огонь из магического креста. Почти точное воспроизведение такой же свастики мы видим на щите индейцев пима из штата Нью-Мексико (рис. 258).