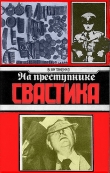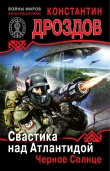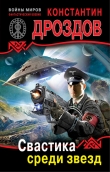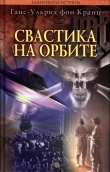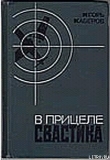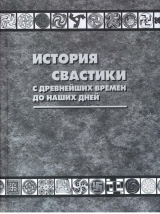
Текст книги "История свастики с древнейших времен до наших дней"
Автор книги: Анатолий Москвин
Соавторы: Томас Уилсон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Изучение символики креста на древних подвесках (рис. 302–304) любопытно, но ни к какому положительному результату вроде бы не приводит – в одном случае крест нарисован на спинке гигантского паука (рис. 275–278), в другом – окружён фигурой из прямых линий, загнутых в петли на углах, и находится под охраной четырёх волшебных птиц (рис. 263–266), или без подобной охраны, – в любом случае по внешнему виду изделий не возникает никаких сомнений, что изделия эти были изготовлены непосредственно в Америке. Я не встречал ни одного изделия, ни одной гравюры на раковине, которая хоть как-то бы намекнула на возможность контактов с иными народами, – кроме одного лишь креста, несущего слегка европейский отпечаток. Способ начертания креста, который мы видим в аборигенном индейском искусстве, представляет лишь окончательные ступени его эволюции на этом континенте, так что имея лишь достаточно поздние рисунки и гравировки, мы не можем надеяться выяснить по ним всю историю этого священного знака.

Продолжая тему в работе «Древнейшее искусство индейцев чирикуи» («Шестой отчёт», с. 173 и следующие, рис. 257–278), в частности, обсуждая поэтапность стилизации изображений животных, беря в качестве примера аллигатора, профессор Холмс выдвигает точку зрения, что крест возник из постепенно упрощавшегося изображения аллигатора. Мы приводим цитату и некоторые из его иллюстраций: «Изо всех животных, когда-либо изображавшихся индейцами чирикуи, аллигатор наиболее годится для исследования, так как эту гигантскую рептилию индейцы рисуют наиболее часто в разнообразнейшем виде. На наших рис. 330–331 мы воспроизводим изображения с внешней стороны чашечки-треножки, первоначальный цвет которой уже не установить. Фигурки эти просты и незамысловаты, и объединяют их характерные (типические) признаки – изогнутое горбатое тело, сильные челюсти, вздёрнутое вверх рыло, лапы и изображение чешуи рядами точек – ошибки в идентификации здесь быть не может. Не следует думать, что эти рисунки являются шедеврами графики чирикуи – бывают сосуды и покрасивее, однако и в данном случае индейский гончар (либо художник) явно старался, стремясь местами прорисовывать даже чешую. Опять-таки, то, что мы видим на сосудах, далеко от возможного прототипа, поскольку специфика материала и исполнения (керамика) наложили видимый отпечаток на технику рисунка – впрочем,


столь ясных и угадываемых сюжетов– символов, как аллигатор, в графике чирикуи не так много. Керамика чирикуи расписывалась, естественно, вручную, «из головы», в основном женщинами, старавшимися, по-видимому, придерживаться мотивов росписи предков, некогда объявленных жрецами священными.
Третья иллюстрация с тех же горшков и чашек (наш рис. 332) представляет, как мы считаем, ещё большую степень абстракции.
Теперь я буду обращать внимание публики на особенности стилизации изображения в искусстве чирикуи. Главным стимулом к упрощению и стилизации является, как я считаю, нехватка места на керамических изделиях, а также, порой, заданные геометрические размеры (порою сложные) секции, куда приходилось вписывать рисунок. Если рисунок занимал узкую ленту, он как бы расплющивался, если квадрат – сжимался, если круг – сворачивался в «комок». Рис. 333 показывает, как удавалось вписать продолговатую фигуру в квадратный сегмент. Голову чудовища пришлось завернуть на спину, а хвост закрутить вниз, располагая его в свободном месте секции. На рис. 334 та же фигурка втиснута в круг и, как результат, закручена, более напоминая змею, чем крокодила.


Я предлагаю вниманию зрителей две серии фигурок, иллюстрирующих отдельные ступени постепенного упрощения изображения, которое оно проходило, двигаясь от реалистического до символа. На первой серии (рис. 335) мы начинаем с фигурки а, схематического, но узнаваемого абриса аллигатора, на фигурке b видна зооморфность, но конкретное животное уже более неопределимо, на третьей (с) – теряется и зооморфность, но остаются рефлексы основных частей тела животного – обрисовка туловища, пятна и точки, а также «гребень» – штрих в задней части головы. На четвёртом рисунке (d) от крокодила не остаётся ничего, кроме кривой линии, несколько напоминающей ярмо, и одной точки.
На второй серии образцов (рис. 336) мы видим втиснутые в круги орнаментальные сюжеты, представляющие нечто вроде медальонов с аллигаторами на боках тулова сосудов – порою графически подчёркивающие выпуклости на изделиях. Животная фигурка на первом кружке скручена в виток наподобие свернувшейся змеи, но всё же ещё может быть распознана как нечто напоминающее аллигатора. На втором образце b место туловища занимает двойной крюк в центре кружка, тогда как конечности аллигатора превратились в снабжённые точками треугольники по углам. Наконец, далее всякое подобие тела отпадает, а треугольники начинают представлять всё животное. На четвёртом кружке мы всё еще видим три треугольника, но тело сжимается до креста. На пятом кружке два треугольника исчезают, а вместо них появляются обычные точки. На шестом кружке точки размещаются внутри полос, а треугольники становятся элементами

фона, тогда как на седьмом точки образуют пояс между двумя концентрическими опоясывающими окружностями76. Этот ряд можно дополнить ещё примерами, умножая их до бесконечности.
По приведённым рисункам, дополненным рассуждениями, мы видим, что то, что изначально было аллигатором, после ряда упрощений и изменений, принимает такие отличные от прототипа формы, что путь изменения становится неочевидным».
Идея профессора Холмса, производящего крест от аллигатора77, забавно сочетается с мнением профессора Гудъеара, который в своей «Грамматике лотоса» производит крест от лотоса и считает его родиной Древний Египет. Тут уже скорее дело в том, что каждому мило и дорого то, что он лично лучше всего знает – у меня же нет основательных знаний ни о лотосах, ни об аллигаторах, поэтому я охотно предоставляю решение загадки креста этим двум учёнейшим истолкователям.
Как крест оказался в Америке
По мнению автора этих строк, профессор Холмс не ошибается хотя бы в том, что он признаёт, что крест в Америку занесли не европейцы, а что он завёлся там самостоятельно. Испанские миссионеры всячески стремились замолчать очевидные факты, распространяя легенды о явлении св. апостола Фомы с крестом в руках. По этому поводу профессор Холмс пишет («Второй отчёт», с. 269): «По следам первопроходцев ступали христианские фанатики, которые огнём и мечом искореняли языческое суеверие и насаждали чуждую религию, в которой крест играл ключевую символическую роль. Не без скрипа, но идея креста была наконец усвоена индейцами, причём даже раньше, чем тонкости нового вероучения, которые, конечно же, были чересчур заумны для их понимания. В результате крест оказался у туземцев в чести, может быть, даже в виде импортированных крестиков европейского производства, которые они нанизывали на бечёвки, перемежая рядами бусин точно так же, как они привыкли это делать со своими клыками-амулетами и подвесками из раковин. Познакомившись с крестами от чужаков, индейцы вскоре и сами начали чертить и рисовать их где только можно, подыскав, вероятно, кресту место в своей системе мифологии».
Думаю, что вышесказанным мы привели достаточно примеров того, что крест был прекрасно известен индейцам Америки, причём не в одной, а сразу во множестве своих ипостасей, – и не имеем нужды прибегать к надуманным и шитым белыми нитками интерпретациям католических миссионеров. Вероятно, что в какой-то мере религиозная пропаганда всё же сработала, и позднейшим полевым исследователям, вроде полковника Мэллери, уже не просто было, после опроса индейцев о символике креста, отделить в ответах зёрна от плевел. Доктор Хофманн в работе, озаглавленной «Миде’вивин или Великое знахарское общество оджибуэев» («Седьмой отчёт», с. 155), представляет миф о повторном сотворении мира, как «переданный в искажённой форме Хеннепэном».
Этот интеллектуал замечает: «Очевидно, что рассказчик значительно извратил древние обыкновения, чтобы подогнать их к библейским сказкам и мифам о рождении Христа».
На той же странице он цитирует записки Маркетта, католического священника, сообщающего буквально следующее: «Я был очень рад обнаружить, что в самой середине деревни громоздился огромный крест, украшенный несколькими белыми шкурами, красными поясами, луками и стрелами, которые добрые индейцы жертвовали Великому Маниту за заботу, которой он охранил их студёною зимою, и дарование добычливой охоты».
Маркетт не знал, вне всякого сомнения, что крест был священным символом четвёртой степени посвящения союза миде’вивин, как мы подробно объясняли, рассматривая иерархию этого общества. Ложное заключение, что крест якобы был воздвигнут в честь перехода в христианство, конечно льстило паписту, впервые увидевшему здесь такое, и его даже не смутил тот факт, что этот символ великой конгрегации миде был изрисован языческими эмблемами и покрыт жертвенными шкурами задолго до появления в тех местах первого миссионера».
Большинство индейских предметов, украшенных символом креста, происходят из районов бассейна реки Огайо в штатах Кентукки и Теннесси, местностей, куда папистские миссионеры редко добирались и где о Христе редко кто слышал, по крайней мере до тех пор, покуда эти земли не сделались собственностью Соединённых Штатов. И наоборот – местности, куда давно и надолго заезжали ранние миссии – т. е. район Великих озёр и северный Иллинойс, – практически не знают дохристианского креста. Туда направляли свои благочестивые стопы отцы Маркетт, Лассаль и Хеннепэн, и там усердствовало множество католических миссий. Профессор Холмс обращает внимание своих читателей на этот факт, сообщая (Второй отчёт, с. 269): «Крест несомненно использовался в качестве символа доисторическим населением Юга и, в немалой мере, он был известен и на Севере. Большое количество мест, связанных с крестом, – это древние курганные могильники и погребения, безо всякого сомнения, доколумбовой эпохи. Что касается подвесок из ракушек, то все обнаруженные диски относятся к доевропейскому индейскому искусству, особенно очевидному в долине Миссисипи. Сюжеты, процарапанные на них, также характерны именно для того района».
Автор настоящей работы с готовностью соглашается с аргументацией профессора Холмса в пользу этого, а также готов подписаться под его заключением, где учёный муж пишет: «Исполнительская техника подчёркнуто местная. Я не видел ни одного рисунка на раковинах, который выдавал бы иноземное влияние, пусть в плане исполнения, либо в сюжете, за исключением одного креста, который мог быть изготовлен под влиянием европейцев».
Если мы возьмём более поздний период, то необходимо упомянуть, что в индейских могильниках того времени попадается заимствованная от европейцев религиозная символика – серебряные католические кресты с изображениями Богородицы и латинскими надписями, стеклянные бусы, железные наконечники стрел и многое другое – было бы глупо утверждать, что эти вещи имеют такую же ценность для науки, как и настоящие предметы доколумбовой эпохи. В плане материальной культуры разграничительная линия между культурами, которую установил приход белых, очень заметна, и даже начинающий археолог не может не заметить её. Бывали, конечно, исключения, вроде индейца-язычника, поселившегося с белыми, или белого миссионера, отправившегося к язычникам, а то и возможная индейская имитация предметов христианского культа – с выхолощенным догматическим смыслом. Это немного путает археологам карты, но только немного.
За прошедший век на этой земле скончалось более чем достаточно индейцев, и все они были похоронены, причём многие в одежде и с вещами белого человека. Взять хотя бы Чёрного Ястреба, Рыжую Куртку и, возможно, Короля Филиппа. Недавно в Новой Англии и самом Нью-Йорке был вскрыт ряд старых индейских могил, обладатели которых отошли в своё время в мир теней, сжимая в руках мушкет белого человека, а то и в сопровождении мешочков с порохом, – всё это однозначно свидетельствует о контактах – и никого из нас это ни в малой степени не удивляет. Но утверждать, что кресты и свастики, которые мы видим на древних украшениях из раковин, на дисках и подвесках, равно как и керамике с тех же кладбищ, – не индейские – значит явно грешить против очевидной истины.
Декоративные некрестовидные формы, тем не менее родственные свастике
Набойки из Мексики и Венесуэлы
Примитивные народы Мексики и Венесуэлы издавна пользовались терракотовыми штампами, которые, будучи изготовленными из мягкой глины, после искусного обжига становились крепкими и прочными. Техника использования штампа такова, что сначала он обмакивался в краситель, а затем прижимался намазанной свежей краской стороной к предмету, который предполагалось украсить, например, к ткани.
Образцы подобных штампов мы рассматриваем в настоящей работе наряду со свастикой ввиду некоторого сходства рисунков – если не по форме, то по стилю. Все они геометрической формы, в которую вписаны кресты, точки, кружки, в том числе концентрические, ромбы, петли, плетёнки и даже фигуры в виде лабиринтов и меандров. Стиль рельефа этих приспособлений легко сопоставляется со свастикой, но всё же среди штампов из коллекции Национального музея США, изображённых на рис. 337–342 мы не встречаем


ни одной настоящей свастики. Нет её и на штампиках из других собраний, например, в фонде Дугласа в Метрополитен-музее естественной истории в Нью-Йорке. Все изображённые у нас фигурки происходят из Тлалтелолко в Мексике (сборы Блейка), кроме образца на рис. 339, который из мексиканских долин и поступил к нам по обмену из Национального музея Мексики в Мехико.
Маркано («Mem. Soc. d’Anthrop.». Paris, 1890, с. 200) пишет: «Племя пиароя из Венесуэлы имеет обычай раскрашивать свои тела иначе, чем индейцы Северной Америки. Они вырезают деревянные штампики, которые, будучи намазанными краской (как наши дети мажут каучуковые печатки чернилами), прикладываются к телу». На рис. 343 мы видим образчики таковых штампиков. Подобные же сюжеты мы видим и на местных петроглифах. Туземцы либо копировали модели, которые были оставлены им, в виде наскальных рисунков, их этническими предшественниками, либо остаётся предположить, что они знали значение древних символов и хранили традиции предков. Впрочем, это всё – не подкреплённые материалом гипотезы. Для племени пиароя раскраска тел служит и украшением, и насущной необходимостью. Слой краски заменяет им одежду78, спасая от укусов насекомых, а заодно становится фантастическим костюмом для праздников и будней.
Опять-таки, все сюжеты подобных штампов не могут быть определены ни как свастики, ни как производные от неё. Они выполнены в стиле, характерном для Центральной и
Южной Америки, Антильских и Канарских островов (De Quatrefages, «Histoire Générale du Races Humaines», c. 239), который, при определённых условиях, мог бы породить и свастику. Туземец-резчик этих штампов, согласно приверженцам теории психологического сродства культур, находится на рубеже изобретения свастики. И всё же, при изготовлении сотен подобных орнаментов за сотни лет развития индейских ремёсел этого региона, ни у одного из них сама собою не вышла священная свастика.
ЗНАЧЕНИЕ СВАСТИКИ
Происхождение и ранние этапы истории свастики затерялись во мраке веков. Всё, что удалось выяснить автору, было последовательно изложено в предыдущих главах.
Теперь же автор постарается рассмотреть возможные области использования свастики в древности, стараясь пролить свет на её значение. Она могла была быть: а) символом: религии, нации или народа, приверженцев какой-либо секты; б) амулетом: удачи и долголетия, благословения, от сглаза; в) украшением.
Кроме того, она могла быть первоначально создана или получена одним народом в одной стране и передаваться из поколения в поколение, а также соседям, находящимся на другом культурном уровне, или появляться в разных странах сама по себе, как бы случайно79, при отсутствии контакта с изобретшими её ранее.
Поскольку получить положительные свидетельства относительно её происхождения и ранних этапов истории никак невозможно, приходится прибегать ко вторичным и менее достоверным данным. Это значит: а) сравнивать известные факты, напрямую затрагивающие тему; б) факты, не напрямую затрагивающие её; в) обсуждать тему с разных точек зрения, интерпретируя доступные факты, критически оценивая их и систематизируя.
Возможные миграции свастики и её появление в далеко отстоящих друг от друга областях и странах, среди народов с различным культурным уровнем предполагает решение – если таковое вообще возможно – данной проблемы совместными усилиями археологов и этнографов. Нынешняя тенденция рассматривать свастику как символ и как амулет представляется вторичной по сравнению с гораздо более важным вопросом о формах и способе её появления в различных странах, путём ли миграции и контакта, путём ли независимого появления во многих отстоящих друг от друга точках. Рассуждая на эту тему, мы не должны ни на миг забывать о законах логики и здравого смысла, не пытаться насиловать факты, равно как и интерпретировать неизвестное через неизвестное, а также фантастическое или воображаемое. Для нас неприемлемы ни догматические допущения, ни сенсационные теории. Если мы и согласимся с фактом имевших место миграций свастики, нам придётся решать и проблему тех веяний и артефактов, которые могли мигрировать вместе с нею, – а перед тем придётся рассмотреть средства и приёмы, с помощью которых мы хотим достичь желаемой цели.
История и начальные стадии появления креста (в любой форме) как символа также скрыты мглою тысячелетий, вследствие чего любому желающему считаться объективным исследователю было бы опасно объявить истиною свою точку зрения насчёт времени либо места его происхождения. Никто не будет спорить, что свастика – доисторический символ. Она активно использовалась в течение третьего, четвёртого и пятого периодов существования древней Трои, а также и в европейскую эпоху бронзы, скорее всего, начиная с самого её начала, и по всей Европе, от Ледовитого океана до Средиземноморья. В ранний железный век свастику в Европе также не забыли – особенно это относится к этрускам, грекам и троянцам. Название «свастика», под которым этот знак сделался известным всему научному сообществу, является словом санскритским, почерпнутым из древних текстов, и столь древним, что Панини в своём словаре, составленным ещё до IV века до н. э. признаёт за ним специальные особенности произношения80. Некоторые учёные утверждали, что свастика – древний индоевропейский (арийский) символ, появившийся у ариев ещё до их расселения по Европе и Азии. Это интересная тема для изысканий, её цель – разобраться, как свастика, будучи священным знаком или амулетом, либо символом благопожелания, переходила от народа к народу, у которых мы оказались в состоянии зафиксировать её, постепенно добравшись и до Японии, и до Европы. Профессор Сайс разделяет мнение, что свастика была древнехеттским символом, откуда она распространилась на другие индоевропейские народы до разложения их общности, но наряду с тем он признаёт, что этот знак был абсолютно неизвестен в Ассиро-Вавилонии, Финикии и среди египтян.
Была ли свастика известна среди халдеев и хеттов, или прочих индоевропейцев до их рассеяния, могли ли её использовать индийские брахманы ещё до того, как арии мигрировали в Индию, – это отдельные пункты истории её миграций, и оспариваемые многими специалистами по бронзовому веку. Вся аргументация по этому вопросу была с достаточной полнотой изложена нами в отдельной главе, и излишне её повторять здесь ещё раз.
Вопрос изысканий, насколько возможно, должен быть избавлен от пустого умствования, противоречащего принципу «без гнева и пристрастия».
Весь свод изложенного нами материала бросает свет на следующие проблемы:
1) Могла ли свастика в любой из её форм быть символом древней религии или философии, или это был знак отдельной секты, или графическое обозначение какой-либо идеи, или же верны обе точки зрения.
2) Была ли она амулетом или священным знаком, в котором верующие черпали силу из значения, придававшегося ей?
3) Какой вывод мы можем сделать на основе изучения миграций свастики относительно древних переселений народов?
Примеры, иллюстрирующие аналогичные вопросы, можно найти как в истории, так и в повседневной жизни. Скарабей Египта и Этрурии был символом вечности. Золотое колечко на женском пальчике обозначало змею, кусающую себя за хвост – тоже символ вечности. Эти два примера касаются символики, так сказать индивидуальной, не связанной с функционированием какой-либо секты или организации.
С другой стороны, мальтийский крест сделался символом рыцарского Мальтийского ордена, а затем и франкмасонов, а три звена цепи, сцепленных вместе, являются знаком Союза Чудаков (Order of Odd Fellows). Католический крест или крыж – символ папистской религии, а просто крест – символ христианства в целом.
На основании рассмотренного материала мы видим, что издревле свастика как особый символ применялась джайна– ми – одной из буддийских сект Тибета, которая распространилась по азиатскому миру под именами Тао-цзы, Тиртханкары, Тер, Мустег и религии Бон, последняя из них символизирует чистоту. Эта секта, или эти секты, сделали свастику своим символом, переводя её название как su asti, «добро есть»81, понимая под этой фразой «да сбудется», – при том, что адепты, в соответствии со значением, придаваемом ими своему символу, пытаются достичь спокойствия и умиротворённости, считая их главными ценностями человеческой жизни. В плане мировоззрения именно этой секты, свастика обозначает именно умиротворённость и спокойствие. Она передавала религиозную или по крайней мере моральную идею, свойственную конкретной секте.
Среди ортодоксальных буддистов свастика также почиталась священным благопожелательным символом, как явствует из её употребления в качестве отпечатка лотосовой стопы самого Будды, основателя вероучения, за которым признаются роли вождя, законоучителя и распространителя веры. Использование свастики на бронзовых статуях Будды и ассоциация свастики с парадными надписями в индийских пещерах не оставляет никакого сомнения, что она использовалась как символ именно в этом смысле.
Опять-таки, разнообразие форм креста, бывших в ходу у христиан первых веков, совокупно с пристрастием первохристиан к монограмме «хи-ро», показывает, сколь трудным и противоречивым был путь от Христа к кресту, и сколько форм утверждалось и отвергалось в жарких дискуссиях о вере. Среди этих форм креста имелась и свастика, но насколько широко она была распространена и какой смысл придавали ей тогдашние люди, мы не можем сказать. Бюрнуф утверждает, что в римских катакомбах есть тысячи изображений этого знака, что является свидетельством его сакрального или посвятительного или погребального статуса, что объединяло этот знак с некой религиозной идеей.
Кроме свастики в катакомбах, автор не может найти примеров, когда этот символ служил бы официальным знаком какой-либо религиозной, политической или философской секты и организации.
У западноевропейцев бронзового века – троянцев, греков и этрусков – и у полуцивилизованных народов Южной и Центральной Америки – и у дикарей Америки Северной (строителей курганов в долине реки Миссисипи) автор не смог найти примеров особого священного статуса свастики, либо её появления на ритуальном предмете – то есть, освящённом божественным светом благочестия, набожности и морали. Может быть, в будущем этнографы ещё докажут, что свастика использовалась каким-либо из этих диких народов на предметах, служащих на церемониях и религиозных празднествах, которые имели, в их понимании, полусвященный характер. Но маловероятно, что она обозначала какую-либо священную идею или стояла за спиною божества, которое выражало такую идею. Трапезу калифорнийских индейцев зуньи можно назвать «священной», и она могла, а скорее даже должна была проводиться на каменном алтаре (metate), но всё же ни камень, ни алтарь не обретали таким образом священный статус. Если таковой алтарь и украшался каким-либо орнаментальным сюжетом – плетёнкой, петельками, «ёлочкой» или чем-либо ещё, то никакой из этих типов декора не считался священным только на этом основании. То же относится и к свастике, обнаруженной на этих предметах – она не была ни священной, ни даже культово обозначенной.
Автор не считает себя вправе обсуждать возможные отношения знака свастики к солярному культу или поклонению солярному божеству, дождю или богу дождя, молнии, Дьяусу82, Зевсу или Агни, Фебу или Аполлону, либо кому-либо из меньших божеств. Интересным такое рассмотрение могло бы быть, если при том оно сопровождалось бы хоть какой-то долей уверенности, или хотя бы если бы оно основывалось на единогласном утвердительном мнении авторитетной группы учёных. Оставляю эту тему человеку более сведущему и более заинтересованному, чем я сам.
Наиболее вероятным представляется мне использование свастики доисторическими племенами, или среди восточных буддистов, в качестве амулета или талисмана, знаменующего собою удачу, счастье, долголетие или благословение небесных богов (Goblet d’Alviella, «La Migration des Symboles», c. 56, 57).
Взирая на весь доисторический мир, мы видим свастику нацарапанной лишь на мелких, сравнительно незначительных для жизни людей предметах, находящихся к тому же в постоянном бытовом употреблении – сосудах, блюдах, кувшинах, орудиях труда и приспособлениях, домашней утвари, украшениях и пр. и весьма редко на статуях, алтарях и т. п. В Армении мы видели свастику на бронзовых булавках и пуговицах, в Трое на пряслицах, в Греции на керамике, на золотых и бронзовых украшениях и застёжках. В бронзовом веке Западной Европы, включая Этрурию, свастика встречается на предметах, с которыми человек повседневно соприкасался в быту, например, на горшках, бронзовых фибулах, поясах, веретёнах и пр.
В добавление к вышесказанному, необходимо отметить множество специфических употреблений свастики в определённых местностях – в Италии на урнах-«домиках», в которые ссыпали прах кремированных трупов, в свайных поселениях Швейцарии она наносилась особыми штампиками на керамику, в Скандинавии ею украшались предпочтительно мечи и прочее оружие, в Шотландии и Ирландии – броши и заколки, в доколумбовой Америке – зернотёрки, бразильские индианки носили её на кароссах, индейцы пуэбло рисовали свастику на танцевальных погремушках, а созидатели курганов в штатах Арканзас и Миссури наносили спиральную разновидность свастики на свои керамические изделия. В Теннесси её гравировали на щитках из раковин, а в Огайо – на медных пластинах. Среди современных нам индейских племён мы видим этот знак употребляемым во время церемоний, например, при исполнении «горных песнопений» навахо, боевых песен индейцев Канзаса, на ожерельях и церемониальных подвязках женщин племени сак и на боевых щитах индейцев пима.
В Америке мы также не замечаем, чтобы свастика изображалась на памятниках языческого культа, на тотемных столбах, фигурках богов и божков, идолах либо ритуальной керамике – что укрепляет нас в мысли, что и там она не была культово-сакральным символом. И там мы видим свастику лишь на мелких украшениях, щитках из ракушек, медных пластинках, пряслицах, камнях, горшках, кувшинах и бутылках – порою с прямоугольно заломанными ветвями, порою с загнутыми концами – причём то в одну, то в другую сторону, на внутренней или внешней поверхности сосудов. Порою она занимает скромное место, в других случаях стремится заполнить собою всю свободную поверхность сосуда. Здесь же мы находим свастику на орудиях ремесленников, предметах повседневного домашнего или ремесленного обихода, употреблявшихся мужчинами либо женщинами, а также на игрушках и трещотках. Всё свидетельствует о том, что и в Америке свастика никогда не была священным символом, но лишь бытовым талисманом, выполняющим функции благопожелания. И все же мы знаем, что она была в ходу во время некоторых церемоний более или менее священного характера.
Итак, после максимально доступного нам изучения всего материала, мы видим, что свастика использовалась в основном дома, в быту, а не в храме – ею стремились себя украсить, защищаясь от злых чар, но ей отнюдь не поклонялись. Образцы этого рода составляют отношение до девяноста девяти к одному, употреблённому на предметах культа. С видимым перевесом в пользу бытового употребления мы считаем, что свастика, за исключением некоторых обрядов буддистов и ранних христиан, а также значительно менее культово ориентированных действ североамериканских индейцев, не может признаваться особого рода священным символом, а скорее к ней следует относиться (за вышеупомянутыми исключениями) как к оберегу, талисману, амулету, вероятно могущему принести его обладателю счастье или удачу, в качестве украшения и в качестве атрибута магической защиты.