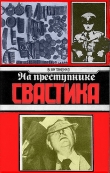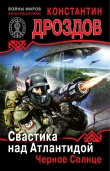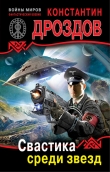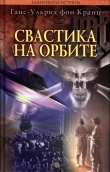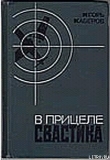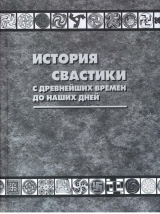
Текст книги "История свастики с древнейших времен до наших дней"
Автор книги: Анатолий Москвин
Соавторы: Томас Уилсон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Перейдём к книгам. Как вы понимаете, в советские времена немногие немецкие книги об истории свастики, уцелев от оккупационных костров, переходили прямиком в спецхраны крупнейших московских библиотек, а у нас о знаке, начертание и узкое значение которого было известно, пожалуй, любому дошкольнику, не писалось нигде и ничего. В Большой Советской Энциклопедии есть, правда, статья на эту тему, но из неё много не узнаешь – лишь самое основное, что можно и нужно было знать партийному агитатору при ответах на вопросы отдельных, не вполне ещё политически сознательных, индивидуумов. «Чёрная» БСЭ издания 1954 года дословно вещает: «Гитлер и немецкие фашисты сделали свастику своей эмблемой. С тех пор она стала символом варварства и человеконенавистничества, неразрывно связанных с фашизмом». Статей в газетах и журналах – даже в «Вокруг света», проводившему тогда географическо-этнографический всеобуч, – не было, научные же публикации на эту тему вообще не приветствовались. Там же, где свастика приходилась к делу, например, в работах по народному искусству или, паче того, по археологии, столь ненавистное коммунистам слово заменялось на безликое «гамматический знак», боюсь, понятное и ныне лишь немногим специалистам. Надо ли говорить, что специальных исследований на эту тему, до самого последнего времени, тоже не было – не приветствовалась подобная тематика.
Ну, а когда недоступны прямые источники, людям остается прибегать к косвенным. Помню, в армии, при подготовке к очередному Дню Победы, кто-то из солдат-москвичей, оформлявших стенгазету, осмелился задать замполиту вопрос: а откуда произошла свастика? Замполит оказался вполне на уровне, пояснив, что свастика представляет собою две перекрещённые палочки для добывания огня, равно как и крест – информация эта была явно почерпнута им из атеистических публикаций, в которых было приказано верить, что крест тоже «не наш» символ, и носить его на груди, а тем более поклоняться ему, никак не следует. Точно так же ответил на вопрос одного знакомого мне студента тогдашний вузовский преподаватель, эта же идея – и, надо сказать, небезосновательная, циркулировала среди местных коллекционеров. Однако, будучи спрошенными об источнике информации, все отделывались утверждениями типа «кто-то сказал» и «где-то прочитал».
То время ушло, хочется думать, навсегда, и у нас больше нет закрытых для обсуждения тем. Первые статьи (пока еще статьи) о свастике, появились, по нашим наблюдениям, на гребне перестройки, в 1989–1990 годах (например, О. Мезенцев, «Украденный символ» в журнале «Азия и Африка сегодня», 1989, № 7), и понемногу продолжали появляться и далее – причём, если журналисты переписывали информацию друг у друга или заимствовали её из недостоверных источников, то как их в том винить, если больше её ниоткуда было взять.
А интерес к этой теме был и есть – не болезненно-надломный, как в советскую эпоху (это что же за фрукт такой, что нам его есть нельзя?), а просто познавательный. Когда мне впервые попала в руки работа Уилсона, перевод которой мы теперь предлагаем широкому российскому читателю, – а было это в 1993 году, при тотальной распродаже книг дублетного фонда московской библиотеки Иностранной литературы – помнится, мои товарищи в очередь записывались, желая быстрее прочитать эту работу. Судьбе было угодно, чтобы эта, в общем-то редкая у нас книга, попала мне в руки и второй раз (при распродаже библиотеки в Пензе) – штемпель на титульном листе свидетельствует, что некогда она принадлежала Берлинскому этнографическому музею (мой первый экземпляр происходит из библиотеки российского, ещё царского, Морского министерства), – так сразу же среди моих знакомых объявилось несколько желающих приобрести этот том в собственность, так что мне пришлось ещё и выбирать среди них. Говорит это лишь о том, что тема происхождения и истории свастики продолжает интересовать по крайней мере некоторых россиян.
Если есть спрос – должно быть и предложение. А есть ли оно? Лишь в 1996 году мы получили первую отечественную работу о свастике: в четвёртом и пятом номерах мистического альманаха «Волшебная гора»1, издававшегося мизерным тиражом в Москве, появилась работа о свастике Романа Багдасарова и Геннадия Дурасова. Г. Дурасов – искусствовед, сталкивавшийся со свастикой на старинных северных вышивках, Р. Багдасаров же, судя по всему, в то время был молодым журналистом, а в последующие годы активно занимался исследованиями средневековых русских Хронографов и Физиологов. Мы не можем сказать, что эта работа получилась удачной, поскольку Р. Багдасаров – глубоко верующий православный человек, и его личные пристрастия определили структуру и содержание этой работы – мистико-религиозного наполнения в ней много больше, чем подлинно научной информации. При этом, надо отдать должное, авторы тщательно подошли к иллюстративной стороне издания, перелопатив горы литературы в поисках иллюстраций.
В целом же помочь составить впечатление о содержании этого труда может одна лишь цитата («Волшебная гора», 1996, № 5, с. 248): «Вернёмся ли мы на исходе времён к символике наших праотцов? Сможем ли вновь осознать себя ариями, яфетидами, славяно-россами, новым Народом Божьим? Сможем и захотим ли восстановить сакральную цивилизацию – Православное Царство? – Ясно одно: духовная жизнь, которую мы совершенно незаслуженно имеем, связана с крестным страданием Спасителя, апостолов и их верных последователей – царственных новомученников, ангелов-хранителей святорусского удела, окроплённого в разных концах их честною кровию. Они сочетались деяниям Христа, его животворному кресту, и теперь крестный свет, истекающий от него, подаётся нам не мимо них, не в обход, не кроме, – но во веки веков – через них. А знак духоносного креста – свастики – является неколебимым символом и основанием нашего упования».
От людей (или человека), написавшего такое, трудно ожидать научной объективности, причём непонятно, к чему призывается читатель – то ли почитать свастику саму по себе (за что же это?!), то ли поменять в церквях крест на свастику, а ведь свастика – это крест без распятого, ибо и появилась она гораздо раньше распятого, да как-то и распятый в свастику не очень вписывается. Хотя, конечно, всё ещё можно исправить. Давайте исправим канон: «Свастике твоей честной поклоняемся, Господи!» – чем не тема для обновленческой проповеди?
В 2001 году книга Р. Багдасарова – уже одного, без соавтора – в значительно переработанном виде появилась в интернете, а также была выпущена московским издательством «Белые альвы». О реакции российского населения можно судить хотя бы по тому факту, что увидеть этой книги мне не удалось даже сразу по ее выходу в лучших московских книжных магазинах – так быстро её тираж нашёл своего читателя. В предисловии автор, успевший за эти годы написать также несколько статей по христианской символике, сообщает, что первая её версия готовилась в 1993 году для невышедшего монархического сборника, появилась же она в «Волшебной горе» по случаю. Этот понятно: ведь написана, так почему же не опубликовать?
Возможно, версия, опубликованная в «Волшебной горе», подверглась критике со стороны московской интеллигенции – поскольку до других городов этот альманах едва ли дошёл, – и это заставило автора принести свои христианские пристрастия в жертву научной объективности. Читается вторая версия значительно лучше первой и представляет собою достаточно серьёзный и продуманный труд, к тому же это была первая и на то время единственная книга о свастике на русском языке. Не всё в этой книге бесспорно, да и многочисленные отступления от темы кажутся нам совершенно неуместными в подобной работе, и слишком «продвинута» христианствуюше-православная тематика. Ещё автор называет свастиками всяческие спиральки, розанчики и вертушки, что совершенно излишне, да еще его беда, что он, скорее всего, не знает немецкого языка – об этом свидетельствуют и многочисленные опечатки в библиографических сведениях именно по немецкой литературе, и тот факт, что он никак не использовал очевидные и интересные источники на немецком языке, равно как и то, что он ограничивается свастикой и не рассказывает попутно об истории креста. Здесь мы постараемся дополнить коллегу, основываясь в настоящем очерке преимущественно на доступной нам немецкоязычной литературе и рассматривая историю важнейшего христианского символа.
Пока мы в Нижнем готовили перевод труда Уилсона и данный очерк, делали макет книги и искали возможность её издать, увидела свет и третья версия багдасаровского труда под названием «Мистика огненного креста» (М., «Вече», 2005). Текст этого издания ещё лучше – православное «начало» значительно потеснилось, а от монархических восторгов не осталось и следа. Значительно дополнен и иллюстративный материал (некоторые рисунки мы используем в нашем очерке). Поскольку нашёлся автор, хорошо раскрывший ранее полузапретную тему свастики, а его книга вполне доступна российскому читателю, то мы здесь ограничимся изложением нашей точки зрения по вопросу о свастике, не стремясь охватить всю имеющуюся по этому вопросу литературу и материал.
Когда электронная версия текста 2001 года стала известна у нас в Нижнем Новгороде (альманах «Волшебная гора» сюда не дошёл и остался незамеченным), в кругу коллекционеров вновь заговорили о свастике. Только, в отличие от «горбачёвской» поры, добавился новый аспект – проблема «коловорота», которую Багдасаров почему-то обходит.
Дело в том, что в начале 1990-х годов националистическая и экстремистская (будем называть вещи своими именами) организация «Русское народное единство» (РНЕ), чьи члены известны в народе как «баркашовцы» или «баркаши», избрала свастику своим символом (во времена раннего Ельцина у них даже выходили книги со свастикой на обложках). Позже, в 1995 году Дума приняла закон «О сущности и признаках фашизма», в котором есть слова о «запрете нацистской символики», однако напрямую о том, какая символика считается нацистской, сказано почему-то не было – впрочем, это и так понятно: попробуйте смеха ради прилюдно нарисовать свастику на памятнике Ленину или хотя бы просто на стенке в присутствии милицейского патруля – и вы увидите, что за этим последует. Недаром в подобных случаях наши СМИ пользуются термином «осквернение» памятников и пр. Конкретно в законе (статья 29) говорится: «Осквернение фашистской символикой и атрибутикой… наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией». Возможно, для некоторых особей тех социальных слоёв, где вербуют себе сторонников «баркашовцы», свастика и имеет некое положительное значение, однако среди основной массы воевавшего и победившего народа такая символика русских националистов встречает резкое неприятие – я прекрасно помню, как перед майскими праздниками 1995 года мы с товарищами, в числе прочих, сдирали со столбов на Автозаводе (в Нижнем Новгороде) «баркашовскую» листовку, на которой был изображён узколобый супермен со свастикой на рукаве, а рядом подпись: «Надевая чёрную рубашку, я присягаю Родине словами: свобода или смерть». Впрочем, это была уже не свастика, а пресловутый «коловорот».
И ещё о законах. 26 мая 1999 года Московская городская дума приняла постановление «Об административной ответственности за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на территории г. Москвы». 29 марта 2000 года аналогичный акт принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Нетрудно догадаться, что данные постановления направлены в первую очередь против свастики (в московском законодательстве это прописано чёрным по белому). Основанием для них является ст. 6 Федерального закона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: «В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах» – и это правильно!
Заинтересованный читатель может полюбоваться «коловоротом» (если кому-то еще не намозолили глаза листовки баркашовцев) в заголовке националистической газеты «Русский порядок», где этот символ занимает центральное место – между двумя словами названия издания. Делается коловорот так: рисуется обычная свастика, ветви которой удлиняются дальше точки загиба, так что отростки становятся не продолжением загнутых ветвей, а их боковыми придатками. Больше или меньше удлинять ветви далее загибов – дело вкуса каждого рисующего, и порою на стенах можно наткнуться на экземпляры, «отличающиеся» от классической свастики, как скажем, саратовский бомж от бомжа самарского. В специфической же литературе любопытствующим разъясняется, что это якобы древнейший русский (славянский, арийский, ведический, ещё бог знает какой) знак, известный нашим предкам чуть ли не со времени Бусова и царя Гороха, который никакая и не свастика, а «коловорот», поэтому бояться его нечего, а наоборот, якобы, надо им гордиться. Слово «коловорот» действительно, славянское, и обозначает оно «инструмент для сверления» (коло – круг; ворот – вращающийся элемент конструкции). Дальше в ход идёт совсем уж не новая идея, что коловорот был древним славянским (русским, арийским, ведическим) приспособлением для добывания огня, что в центр пересечения палочек вставляли сверло, ветви свастики являлись рычагами, а ручки – ну, чтобы было удобно держаться. А язычество, как известно, религия огненного солнца – и так далее. Причём изобретателей «коловорота» нисколько не волнует тот факт, что подобного рода свастика (пусть и несколько модифицированная) не представлена нигде, ни у кого и никогда, в чём читатель, я думаю, уже убедился, если уже ознакомился с текстом и с иллюстрациями книги Уилсона. Таким образом – ещё раз назовём вещи своими именами, – «коловорот» – это замаскированная в расчёте «на Ваньку-дурачка» свастика, и такой маскарад позволяет РНЕ избегать ответственности за распространение нацистской символики – эмблемы, вполне достойной традиций этой «славной» организации.
В приложении к «Вечерней Москве» за 16 декабря 1994 года в статье, озаглавленной «Святой крест или свастика» журналист Александр Аннин видит «коловорот» русских нацистов так же как и мы: подчёркивая, что приветствием «бар– кашей» является взмах правой руки, а официальным знаменем движения – красный штандарт со свастикой в белом круге, он, по-видимому, человек православный, обрушивается на них за то, что они «свастику изображают не иначе, чем «вмонтированной» в Вифлеемскую восьмиконечную звезду, чем навязчиво «обожествляют» свой знак. Что ж, если говорить о свастике как таковой, то это символ очень древний. Использовали его и в православной иконографии: свастики иногда изображались на плечах Богородицы. Но со времён Третьего Рейха, которым так восхищаются члены РНЕ, свастика стала символом насилия и безбожия».
Относительно знака свастики в православном искусстве мы поговорим позже, что же касается «вифлеемской звезды», то, как мы видим, журналист неправильно расшифровал символ РНЕ – если бы они имели в виду так называемую «вифлеемскую звезду», то члены этой организации прямо об этом говорили бы – да и исторически никаких звёзд рядом со свастикой не было – в целом же А. Аннин прав: РНЕ использует свастику, слегка модифицировав её, не потому, что это христианская, а потому, что это фашистская эмблема, а модифицирует её исключительно, чтобы не подпасть под закон о запрете нацистской символики на территории РФ.
А теперь, после некоторого вступления, пора немного сказать о труде, лёгшем в основу лежащей перед вами книги. Готовясь перевести труд Уилсона2, чтобы сделать его доступным для российского читателя, автор настоящих строк провёл как бы независимое расследование с целью составить своё собственное мнение о свастике и заверяет читателя, что предлагаемая им ныне в переводе книга – действительно подробнейшее и серьёзнейшее исследование изо всех существующих на Западе. Её автор – профессиональный учёный-этнограф из нью-йоркского Национального музея – писал свою работу абсолютно беспристрастно (ну кто мог в 1892 году предвидеть распространение фашизма, а также то, какую символику выберут себе его адепты), и тем самым его работа становится вдвойне ценной для нас – согласитесь, что после 1933 года писать о свастике беспристрастно уже не просто. Кроме того, Уилсон тщательно, порою даже чересчур дотошно, изучил всю существовавшую на то время этнографическую литературу по этому вопросу, которую он обильно цитирует, равно как и обширные этнографические коллекции. Вышел его труд в томе лучших работ Смитсоновского института за 1894 год, в который, кроме него, вошли еще несколько серьёзных исследований (об истории техники сверления, о транспортных средствах первобытных народов), причём исследование о свастике стоит последним, завершая более чем тысячестраничную книгу. Как мы знаем, Смитсоновский институт является одним из старейших научных заведений Америки, и специализируется главным образом на естественных науках – а этнография (или, как её именуют сами американцы, антропология) там относится к наукам естественным, у нас же – к гуманитарным. Ни один серьёзный исследователь истории свастики не мог, и не может обойтись без знакомства с этой добротно сделанной работой – в силу чего мы решили, что целесообразнее дать российскому читателю в первую очередь не собственную работу, а перевод лучшего из того, что было создано другими, снабдив его необходимыми примечаниями и дополнением, которое вы сейчас и читаете.
Конечно же, если бы труд Уилсона вышел в своё время не как часть ежегодника научного учреждения, а как самостоятельная книга, он имел бы гораздо больший резонанс – а так, как это есть, мы видим ссылки на него лишь в специализированных изданиях по теме, но не в научно-популярных. Хочется также отметить то обстоятельство, что, поскольку Уилсон является представителем американской науки, для него естественен некоторый уклон в американистическую проблематику, где о наличии свастики в евразийском понимании, с нашей точки зрения, можно говорить лишь с некоторой натяжкой. Обсуждая планы перевода его книги, мы рассматривали идею опустить его американистические главы, кратко пересказав их в послесловии, – но потом решили, что надо оставить всё как есть – хотя бы из уважения к автору, книга которого нисколько не утратила своей научной ценности за истёкшую сотню лет.
Что же мы имеем ещё из трудов о свастике, кроме книги Уилсона? Как и следовало ожидать, ведущее место в этой проблематике занимает литература, написанная на немецком языке в период между началом Первой и окончанием Второй мировой войны, – в годы разрухи и инфляции в Германии интерес к свастике подогревался повальным тогда увлечением оккультизмом и теософией, после 33-го же года свастику сделал символом своей партии Адольф Гитлер – и сделал, как мы увидим, практически единолично, рассчитывая скорее поразить сторонников и сочувствующих необычностью символа, чем опираясь на его историческое либо оккультное значение. Как и следовало ожидать, у «короля» тотчас отыскались шуты-летописцы, которые приложили усилия к тому, чтобы постараться доказать немецкому народу, а если получится, то и всему миру, что свастика – символ ужасно древний, ужасно арийский и ужасно священный. Ведущее место здесь занимает, пожалуй, книга о свастике Йорга Лехлера, с которой нам ознакомиться, к сожалению, не удалось (нет в России). Тот же автор в 1936 году выпустил этнографический альбом, озаглавленный «Пять тысяч лет Германии», где с десяток страниц был посвящен и конкретно теме свастики. Но обо всём по порядку.
Кроме Лехлера историей свастики, переписывая у него и друг у друга, занимались немцы Йегер, Хупп и Шойерманн, а также многие прочие, ссылки на труды которых приведены нами в библиографии. Книги их изобилуют общими местами и не вполне проверенными гипотезами, поэтому если кто из наиболее дотошных читателей не удовлетворится информацией оттуда, что мы посчитали уместным сообщить в настоящей работе, и возьмётся за оригиналы, то читать их нужно с некой долею критицизма.
Мы не ставим своею целью пересказывать содержание книги Уилсона, однако, чтобы было понятно дальнейшее, повторим основные выводы этого исследователя. О первоначальном значении свастики (сам термин этот санскритский и пришёл в Европу через учёных-востоковедов) ныне можно говорить лишь предположительно, настолько древний этот термин – приписываемые же ему позже значения варьируются от страны к стране, неизменно обозначая что-либо благоприятное человеку – солнечный свет, удачу, счастье, магическую силу. Появился этот знак в древней Малой Азии, самые же древние и обильные находки его (на время Уилсона) происходили из раскопок нижних горизонтов многослойного археологического памятника на холме Гиссарлык, единогласно отождествляемого учёными с древней, ещё догомеровской Троей – ныне же кое-где на Ближнем Востоке найдены свастики и подревнее. Там, в Троаде, этот символ появляется века с XV (до нашей эры, естественно), причём сразу в большом количестве.

Но и до Трои мы видим несколько экземпляров, условно могущих быть классифицированными как свастики (неклассические) – А. Голан (израильский культуролог), у которого мы заимствуем эти иллюстрации («Миф и символ», М., 1994), видит в них символы земли – и оставим его при его мнении. Рис. 1 обнаружен на сосуде VI (!) тысячелетия до н. э., столь же древен сосуд с рис. 2.
В XX веке раскопки продолжались, и в ходе них археологи познакомились с цивилизациями земледельцев Анатолии и Месопотамии VII–V тыс. до н. э., где на глиняных печатях были обнаружены первые, ещё дотроянские, изображения свастики. Р. Багдасаров предпочитает считать эти племена индоевропейскими, что, мягко говоря, вызывает сомнения. Мы же считаем, что все, кто жил в Малой Азии до хеттов, язык которых (индоевропейский) мы знаем, были семитами. Сторонники версии индоевропейского происхождения древних малоазиатов в качестве одного из основных своих аргументов выдвигают наличие у них свастики. Древнейшим из её изображений является печать из IV слоя в Чатал-Гуюке (на территории современной Турции), датируемая 6000–5800 гг. до н. э. (рис. 3). В центре другого (широкоизвестного среди археологов) блюда – из Самарры, приблизительно V тысячелетия до н. э., центростремительная прямоугольная свастика охвачена двумя кругами из рыб и длиннохвостых птиц (рис. 4).
Весьма древние изображения свастики мы имеем на энеолитической антропоморфной статуэтке из Тали-Бакун в Туркмении – рис. 5 (впервые приведёна в «Российской археологии», № 3 за 1994 г.).
Нам трудно решить, были ли эти столь древние народы индоевропейцами, ибо именно в этом районе Земного шара в историческую эпоху семиты (месопотамцы, угаритяне, урарты, народы Палестины) жили по соседству с индоевропейцами (хеттами, лувийцами, палайцами) – и ответа на этот вопрос сегодня никто не даст. Желая «углубить» свастику до самого палеолита, Р. Багдасаров склонен считать, что символ свастики якобы выкристаллизовывается из ромбично– меандрового орнамента, впервые появившегося в верхнем палеолите. На браслете из мамонтовой кости, найденном на стоянке в Мезине (Черниговщина), протосвастическая сетка состоит из скоплений меандров, которые разрежены в двух местах рябью из волнообразных зигзагов (рис. 6). Основываясь на доказанных для орнаментов народов Сибири фактах, когда фрагмент циклического орнамента начинает употребляться в качестве индивидуального символа, Р. Багдасаров, настаивающий на мезинском ромбично-меандровом орнаменте как прототипе свастики, постулирует аналогичное развитие сюжета – от свастичного фриза к отдельным свастикам.



Что же касается пряслиц, то наиболее древние их экземпляры, орнаментованные спиралевидной свастикой, обнаружены в Хассуне (Северная Месопотамия) и датируются археологами VI тыс. до н. э. Известно, что в Ригведе прядение связано с созданием Вселенной, Земли и актом зачатия человека (сравните в скандинавской мифологии: норны прядут пряжу жизни живущих на Земле людей). Появившаяся на пряслицах свастика, согласно версии Р. Багдасарова обозначала не только осевое движение веретена в пряслице (что очевидно), но и указывала на его высший прообраз – движение Вселенной вокруг постулируемой Оси Мира (Уилсон даёт другое, более приземлённое объяснение).
Находясь на перекрёстке цивилизаций, древняя Троя (населённая, кстати, не индоевропейцами) поделилась этим символом со своими ближайшими соседями – греками и этрусками, которые активно пользовались сюжетом свастики в оформлении керамических сосудов, надгробных памятников, домашней утвари – но не монет, так как предположительная свастика на античных монетах некоторых греческих городов, часто приводимая в качестве иллюстрации, на поверку оказалась либо отпечатками пуансонов – устройств, использовавшихся при чеканке, – либо их имитацией. Хотя греки знали и настоящие монеты со свастикой или напоминающими её фигурами, три из которых мы показываем на рис. 7–9. Монета на рис. 7 отчеканена Кноссом на острове Крит, причём мотив свастики может быть объединён с «национальным» мотивом лабиринта, монета на рис. 8 происходит из города Адуатикер, а на рис. 9 – из Аполлонии Понтики, что во Фракии. От древних греков свастика могла перейти к древним кельтам, а от этрусков – к римлянам, особенно в северных, приальпийских районах. Кельты же поделились свастикой с германцами, контактируя с ними в Прирейнской континентальной зоне. Одно из немногих изображений свастики у кельтов, попавшееся нам в литературе, приводится у Лехлера (рис. 10).

Удивительно, но семиты, также находясь на перекрёстке цивилизаций (древняя Передняя Азия и Месопотамия) и будучи окружёнными со всех концов землями, где свастика была в почёте, сами оказались невосприимчивы к этому знаку – видимо, как нам представляется, она связывалась в сознании тогдашних людей с огнём и Солнцем, семиты же больше почитали звёзды, воду и Луну. Кто-то когда-то, вероятно, те же греки, занёс свастику в Египет, однако большого распространения она там не получила – известные нам примеры происходят скорее из обихода греческих общин в Египте, которые, вместе с христианством, передали её дальше коптам. Кстати, на рис. 11 мы показываем свастику на одежде знатной африканки – изображение это происходит из некрополя Примиса в Мероэ, относящегося к II–III вв.


(мы заимствуем его из книги С. Я. Берзиной «Мероэ и окружающий мир», М., 1992, с. 20), – Р. Багдасаров считает, что свастика освящает собою одежду этой уходящей в иной мир женщины и напрямую связывает его с орнаментикой коптских одежд, о чём подробно рассказано у Уилсона. В тропической Африке свастика непопулярна, отдельные же случаи её употребления (например, у ашанти Золотого Берега) могут быть приписаны иноземному – непонятному нам – влиянию, либо являются случайным изобретением этого, в общем-то, простого символа.
Относительно семитов вскользь заметим, что хотя древним семитам, как многократно отмечалось, не была известна свастика, мы имеем изображение свастичного меандра из синагоги в Палестине, в районе Тивериадского озера (если свастика была знаком благопожелания, а меандр рассматривался как символическое изображение линии жизни, то свастический меандр должен был показать идею благотворного влияния сверхъестественных сил на каждом отрезке жизненного пути – по истолкованию Р. Багдасарова), где он сопровождается иудейским семисвечником, – впрочем, мозаика эта достаточно поздняя и вполне может быть отнесена на счёт распространения греческого влияния на иудеев – так же как и ряд изображений свастики на греко-бактрийских монетах, – где индийская цивилизация встретилась с цивилизацией эллинской. Согласно И. Р. Пичикяну («Культура Бактрии». М., 1991, с. 197), оттуда мы имеем находку золотой парчи, вероятно, некогда составлявшую часть жреческого облачения. Коптская свастика на стеле из Мероэ и на тканях, как явствует из книги Уилсона, также может быть приписана греческому влиянию, распространявшемуся до первых порогов Нила (даже коптский алфавит был создан по образцу древнегреческого).
Вопрос о кельтской свастике сложен.

Посвятивши жизнь исследованию кельтских древностей, мы берём на себя смелость утверждать, что в ирландском языке нет древнего слова для её обозначения, а символ свастики (в отличие от плетёнки, например) нехарактерен для кельтского искусства. Тем не менее отдельные изображения встречаются – как на средневековом кресте (рис. 12) от источника св. Бригитты в Клиффани (графство Слайго).
Несколько примеров приведено у Уилсона. Ведущая гипотеза попадания свастики на эту окраину Европы – христианизирующее влияние, когда вместе с идеями могли быть занесены и их символические изображения (а кельты были до крайности чутки к любым влияниям извне, зачастую перенимая и хорошее, и плохое).
Почти все старые авторы утверждают, что иранцы не знают свастики, и никогда её не знали. Относительно персов это, конечно, так, но что касается скифов и сарматов, то вопрос тут непростой, так как в XIX веке степная полоса России была столь плохо изучена, что известные нам теперь артефакты попросту не были ещё известны.
В лесной полосе России памятники поздняковской (XV–XIII вв. до н. э., скорее всего, ираноязычной) культуры известны по раскопкам грунтовых могильников в бассейнах Верхней и Средней Оки, Верхнего Поволжья, Десны и на правобережье Средней Волги. На развитом этапе этой культуры уже появляется свастический меандр и ветвящаяся свастика, выполненные путём приложения к сырой глине горшка зубчатого штампа (например, на черепке из могильника Фефелов Бор, рис. 13).
Изящный гребенчатый орнамент из свастик имеет керамика андроновской культуры индоиранцев Урала и Зауралья. На рис. 14 изображена свастика из раскопок могильника Еловский II. Более того, одиночные проникновения свастики в срубную культуру самарского Заволжья и в Западную Сибирь (Омская область) трактуются археологами как андроновское влияние.
Свастики различного вида использовали в своей символике скифы. Наиболее показательны в этом плане бронзовое зеркало (обратная сторона) из могильника Саблы на Ставрополье (рис. 15) и костяное веретено, найденное в окрестностях Владикавказа в Осетии. Свастика у сарматов изображена на рис. 16. У скифов часты восьми-, семи-, пяти-, трёхконечные свастики, некоторые образцы которых приводит в своей книги Р. Багдасаров. Несколько видоизменённые свастики мы в изобилии встречаем в памятниках сарматоидных культур Южной Сибири (тагарская, уюкская, пазырыкская и пр.). Здесь наряду со свастикой часто встречается свастиковидная спираль.